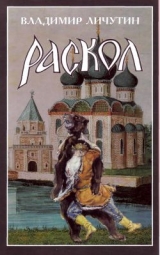
Текст книги "Раскол. Роман в 3-х книгах: Книга II. Крестный путь"
Автор книги: Владимир Личутин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 49 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
Глава третья
Не удержали Неронова цепи, и десятого августа пятьдесят пятого года бежал он из Кандалакшского монастыря, из дикой Лопской земли, почитай что из самых аидовых теснин, вместе с двумя работниками. На поморской шняке с промышленниками попал он в Соловецкую обитель к ревнителям веры под крыло архимандрита Илии, а поживши на островах, снабженный всем потребным в дороге, зимним морем отбыл на богомольной ладье в Яренгу, а оттуда с обозом наваги съехал в Архангельский город. В Ненокотском посаде пред острожком он сошел вроде бы по делу, а сам скрылся: двое его работников были взяты сторожей в Холмогорах и заключены в темничку. Лишь кротостью и твердым духом перемог Иоанн дорожное лихо, а пред Москвою, по обыкновению, сбежал с обоза помытчиков и сразу отправился к царскому духовнику Стефану Вонифатьеву, с коим имел запретные ссылки через стрельцов во весь год затвора. Неронов много дней тайно жил в келеице у Благовещенья вместе с Вонифатьевым.
Духовник открылся государю, и Алексей Михайлович не только не загрозился на беглеца, но и скрыл несчастного, твердого верою протопопа от собинного друга, освободил в Холмогорах двух пойманных работников Неронова, да и закрыл глаза на челобитье князя Силы Гагарина. Патриаршьи верные стрельцы метались по Поморью, сыскивая хульного беглого протопопа, а он тем временем в Китай-городе под боком у Никона вел досужие долгие разговоры, иссякая духом в жаркой скрытне за стенами Дворца, и не мог найти укрепы в сомнениях; и противу любимого государя страшно было, да и кощунно ратиться, затеивать лаянье и неправды на него, тишайшего Божьего сына; но и никак не мог приклепать худым умишком своим бывшего волдемановского мужика Никитку Минича к свет-государю. «Ишь вот, – горячился Неронов, – приклеились два-оба, будто рыбьим клеем – и не разнять: не иначе тут навадники, бесовы шептуны потешились над свет-царем».
«Ежли Русь великая, во что я истинно верую, то на кого нам озиратися, пред кем винитися? – вопрошал Неронов. – Что за оказия напала, такая хворь, чтоб пятиться нам иль вставать на перстики по-собачьи, вилять хвостом? А ежли заоглядывались бесперечь и сами себя стыдимся, и норовим подпасть под немецкий обычай, то что в нас великого, Стефаний? Никак не вяжется лапоть с голенищем; так нам сапоги не стачать и обувки доброй по ноге не нашивать. Ежли почал сам себя клясти да под чужой колпак примериваться, тут ложись и помирай, право слово; а недруг наш лишь того и ждет, чтоб мы сами себя излаяли и луторский хвост облизали. Псы мы неразумные, коли со своего двора радостно побежали за фрыгой, только покликал он нас. И ты, Стефан, видит Бог, тому потворщик и сластолюбца Никона на левую ногу наставил…»
Лаялся Неронов, а царев духовник лишь кротко улыбался изумрудными глазами, и сквозь ковыль снежной бороды ответные слова истекали устало, бесплотно, но были живые, теплые, как полуденный июльский, едва колышащий аер:
«Вот про то и молвлю, братец… Ежли мы великие, как хочется верить, то чего нам пугатися? А раз некого бояться, слон же не боится мыша, то и надо разлиться верою и всех принять и позвать с миром: идите, христовенькие, под наш венец! То и будет истинный третий Рим. А мы сховались, заугольники, в своей хиже, сидючи в ремках, приткнулись за тын, да оттуда и лаем с испугу: де, мы третий Рим! А и никто, братец ты мой, нас и не слышит».
«Слышит, кто хощет, ибо кто имеет уши, да слышит. Слышать, вот, не хотят, а глухим Божье слово невдомек…»
«Нет и нет, братец. Мы вознепщевали на весь белый свет, де, выше нас нет. А коли выше нас нет, то и должны притечь к ославленным и осиротенным, кого ошавил басурманин и еретик, и всех ублажить, не жалея животов своих. Иначе латинник одолеет Русь. Он, как жук древоточец, пилит норы в русийском древе и в стулцах, подпирающих православный храм. Вы и не заметите от спеси, что станут стулцы, как решето, и вдруг сокрушится церква и погребет вас в своей клети. А Господь лишь руками разведет сокрушенно: дурни, ой и дурни-и. Ревность в тебе горит, Иоанн, а не правда: завидуешь, батько, что царь Никона выделил из протчих, а не тебя. Учит Марк-евангелист: ничто входящее в человека извне не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека…»
«Аль забыл, праведник? Ядый хлеба во всякий день, помни: не едим хлеба горячего и гораздо мягкого, да пусть переночует… И не всякое слово входящее – добрый злак. Иное слово хуже головни и спорыньи и, вспрыгнув в душу, вгонит ее в пагубу, и ну катать да мучить. Ведомо, ты и долгое выставишь за круглое. Посеял ты с Никоном ветер, и батюшку-государя ввел в смуту. Я писал даве Алексеюшке: де, очнись, свет-царь, роют под тебя сатанаиловы дети, ино рожать тебе вскоре бесов. Открылось мне: не успеет дважды лето обернуться, побежит Никон-затейщик прочь из Москвы, никем не гоним, яко заяц. И слава Богу, не доведется видеть тебе той позоры, что сам и измыслил».
Не возразил царский духовник, но склонил голову, понял жесткий намек упрямого протопопа, но ничто в душе его не восстало, не возмутилось, ибо ждал Стефан Вонифатьевич смерти со дня на день.
Так и шли пререковы меж протопопами во всяк вечер, а меж тем гонцы патриаршьи рыскали по Иоаннову следу. И случилось Неронову видение в ночи, будто звезда Вифлеемская над ним зажглася. И сошел голос от той звезды: «Доколе тебе шататися, Иоанн? Ступай в монаси и тем поразишь супостата».
И по отписке Стефания архимандрит Тихон постриг Иоанна Неронова и нарек Григорием. И еще сорок дней скрывался инок Григорий в келье царского духовника, что у государя в сенях, а весною тайно удалился на житье в Спасо-Ломовскую пустынь, где почили на погосте его родители. И лишь в ту пору дознался патриарх, куда скрылся его супротивник, и отправил в догон боярских детей, чтобы полонить непокорника; но инок спешно удалился в соседнюю весь Теляпшино, и крестьяне скрыли прозорливца от нарочной команды.
Тогда Никон созвал собор и осудил Неронова заочно. И собор отсек Иоанна Неронова, бывшего казанского протопопа, от церкви и изрек анафему. И по воле Никона и наезжего антиохийского патриарха Макария пропел весь освященный собор: да будет проклят!
И прокляли духовидца и неистового ревнителя Иоанна Неронова мая в 18 день 1656 года.
В лесном засторонке, вдали от московских страстей, в одинокой келеице наедине с собою скоро затосковал инок Григорий. Он вроде бы с желанием отсек себя от мира, уединился в затворе, но душою утихнуть не мог. Он заблажил, что-то стронулось в сердце, и монах вдруг почувствовал себя в теляпшинской скрытне таким покинутым и одиноким, и отлученным, заживо похороненным, что все прежние вроде бы важные пререковы, за кои страдал уже четвертый год, показались иноку напрасными. С этим новым чувством он однажды прочел недавно изданную Никоном «Скрижаль». А в ней уведомлялось со всей строгостью, что креститься должно тремя персты, что о том писали Никону все четыре восточных патриарха, а непокорных предали клятве. И Григорий, укоряя себя за прошлую гордыню, всяко ослабел и стал сокрушенно размышлять: «Кто я, окаянный? Не хочу творить раздора со вселенскими патриархами, не буду им противен: ради чего быть мне у них под клятвою?» И вдруг с душевной легкостью предал инок отеческий обычай, не дрогнув сердцем, ибо открылась ему в уединении вся правда. Он как бы в затмение впал, и позабылось иноку, что крестились двуперстием все русские святители и святые, и великие князи, и государи, и весь православный люд, почитай, от начала древнего веку: и изменить знамению, переменить на дьявольскую щепоть – это как бы добровольно отворить дорогу бесам, распахнуть ворота нечистой силе, что неустанно пасет христианскую душу за оградою, ищет самой малой щелки, куда бы можно проскользнуть и со льстивыми повадками для начала хотя бы улечься под порогом, дожидаясь своего победного часа.
Что есть Никон? – он не звезда на небосклоне, и не ладейный фонарь в житейском море, и не лампадный живой огонек, и даже не крохотный свечной огарыш, но всего лишь березовый оскепок, что вспыхнул по прихоти государя и вскоре осыплется прахом. Так позволено ли ему, Иоанну Неронову, творить препоны любимому Алексеюшке свет Михайловичу и всей церкви, и самому Паисию Иерусалимскому, вселенскому патриарху, досаждать, ронять сего достойного мужа в печали и скорби своим немыслием.
А тут еще пришло известие в пустынь, что друг сердешный Стефан Вонифатьевич скончался. Невдолге перед смертью на деньги сына духовного состроил Стефан в Москве на убогих домех, где было кладбище для бедняков, убогоньких, странников, умерших насильственной смертью, замерзших и других несчастных, особый монастырь, названный Покровским, в котором и был пострижен в пятьдесят шестом году под именем Савватия. Той же осенью он и преставился, и был похоронен в том монастыре. Получив печальную вестку, инок Григорий сразу засобирался, стал умолять духовную братию, чтобы отвезли его в Москву ко гробу друга своего поплакать на могилке и исполнить последнюю волю покойного, чтоб непременно помирились лютые недруги в долгом споре своем, ибо Русь стояла за их плечами на распутье. Близкие в Москве отговаривали Неронова от встречи с Никоном, на что бывший опальный протопоп заявил: «Иду, смотрите! И благодать Божия со мною. Вашея ради пользы не прикоснется зло. И презритель родной старины скоро упадет в бездну. Но и последнему заблудшему протяни соломинку – и спасется…»
…И забывши прежние клятвы пред сподвижниками, пребывающими ныне в Сибирях в туте и нуже, с чувством вины прибыл инок Григорий в Москву, явился на патриарший двор, встал у Крестовой палаты и поклонился Никону, когда тот с Золотого крыльца спускался к Божественной литургии. Никон спросил у сухонького чернца, смиренно заступившего, вроде бы невзначай, дорогу: «Что ты за старец?» Инок поднял взгляд, но Никон никак не выказал своего изумления. «Я тот, кого ты приказал искать повсюду, и многих, меня ради, муками обложил и с детьми разлучил, и рыдати и плакать устроил…»
Инок дерзостно опередил патриарха и, пристально глядя снизу вверх в утомленное лицо Никона, призатененное собольей шляпою и высоким бобровым воротником шубы, вдруг позабыл, что прибыл виниться: он невольно возвысил голос до крика, ознобно дрожа лишь от одного вида первосвятителя, такое, оказывается, носил в себе отвращение: «Что ты ни затеваешь, святитель, то дело вовсе пропащее. Ты церковь православную превратил в хлевище, нагнав туда еретической скотины. Ты книги святые всяко выблудил, шатаясь по догматам отцев наших. Но скоро по тебе будет иной патриарх, и все твое дело переделывать станет. Иная тогда тебе будет честь, и всяк плеваться станет в твой след».
Никон, не ответив, вступил в церковь, а инок остался на пороге, не смея, отлученный, войти даже в притвор, и стал дожидаться патриарха на морозе.
По окончании литургии патриарх велел Григорию идти за собою в Крестовую, а инок продолжал досадить Никону, прилюдно всяко кляня его: «И се азъ есмь пред тобою, что хощеши творити о мне! Не от смерти спасатися явился к тебе и не из страха лишь, убоясь казни. Я ничего не боюся и заступился за овны, чтоб уберечь от тебя, овчеобразного волка! Я вселенским патриархам не противлюсь, но не покоряюсь тебе одному. Ты все новины измыслил по гордыне своей, затворясь в палатке, ни от кого из добрых людей не взяв совета. И нашептали ту дурнину черные люди с черного света… Ты ославил меня, как напечатано в книге „Скрижали“, ко вселенским патриархам, де, мы мятеж творим и противимся тебе в вещах церковных, а патриархи те отвечали, что подобает креститься тремя песетами, не покоряющихся же заповедали предать проклятию и отлучению. Если ты с ними согласен и их волю творишь, то и я этому не противлюсь, не хочу выступать против Отцев церкви, как упрямый онагр. Гляди, Никон, я своею охотою и согласием уступаю им со всем смирением, как подобает сыну Христову. – Инок Григорий троекратно осенил себя щепотью, крепко ударяя по плечам, вызволил из-под зимней ряски медный крест и поцеловал с умилением. – Только смотри, святитель, чтоб была истина, – протянул с неожиданной угрозой, и пепелесый, простецкий взгляд его приозарился вещим знанием, колюче прободил патриаршье естество сквозь. – Знай, я под клятвою вселенских патриархов быть не хочу. Ты уловляешь меня своими борзыми, яко зайца, травишь, не давая сну. И что тебе за честь и отрада от моих мучений? Ныне ты всякому на Руси страшен, тобою малых детей пугают, укладывая в зыбке на ночевую. Тобою грозятся друг другу, спрашивают: не ведаете ли, кто он, зверь ли лютый, лев, или медведь, иль волк? Дивлюся: государевой власти уже не слыхать, а от тебя всем страх, и твои посланники страшны всем более царевых… Кричи, кричи, Никон, чтоб хватали меня твои псы. Тащи в нети для казни».
Инок Григорий сурово, бестрепетно судил святителя, вздев перед иконостасом перст, переступывал нетерпеливо стоптанными валяными сапожонками, оставляя на плитчатом полу грязные натеки. Никон слушал со странной покорливостью, призакрыв отросшими, почти старческими бровями влажные, с близкой слезой глаза. «Не могу, батюшко, терпеть», – вдруг непонятно молвил патриарх. Инок не услышал вроде бы признания иль дал ему свой смысл: бесы, вот, толкут Никона в ступе еженощно, и он, знать, не может противиться их силе и пошел на поводу; иль иная неведомая блазнь мучает, ломает и корежит христовенького? И оттого так беспомощно умилен и по-кошачьи ласков, и утишлив, и необычно терпелив Никон, не топорщит усы, не грозит узилищем, батогами и смирением, не кличет для казни боярских детей, не тянет под плети и встряску. Великий государь, не долго и правишь, а что стряслося с тобою? – с тайной усмешкой подумал инок Григорий и уже с жалостью, потупя горячий взор, принялся наставлять патриарха, словно бы пред Григорием стоял чернец самого младшего монастырского чина.
«Святитель, прежде мы от тебя многажды слыхали, когда в друзьяках ходили, и ты на Верх не шатался без нужды, как в свои хоромы, когда мы живали с тобою, как персты одной руки, и крепко стояли друг за дружку, за истинную веру. Ты тогда неустанно благовестил нам, де, греки и малорусы порастеряли веру, и крепости, и добрых нравов у них давно нет. А нынче они для тебя святые люди и учители закона. Арсений, чернец-иезуит порочный, у тебя за главного наставника, книжную справу пасет». – «Лгут на него, старец Григорий. То на него солгал из ненависти троицкий старец Арсений Суханов». – «Добро бы тебе, святитель, подражать кроткому нашему учителю Спасу Христу, а не гордостию и мучением нас держать. Смирен сердцем Христос, учитель наш, а ты очень сердит». – «Прости, старец Григорий, не могу терпеть, – повторил Никон. – Вельми слаб даже велий человек, ибо и его съедает греховная тля, а от проданной души остается одна перхоть.
Уж сколько раз унимал царя: спусти меня в монастырь, ибо восхитил я чужую власть. – Никон испытующе взглянул на чернца, и в глубине иссера-сизых глаз поселилась насмешливая искра. Де, мил человек, ты явился из бегов меня учить, не боясь отместки, а я посмотрю в твою ухоронку, где бесы гнездятся, и увижу верно, как учнут они тебя грызти. Да и то радость; сам великий государь растоптал себя, пал пред тобою в грязь; редкой чистоты человек выдержит подобную сердечную встряску, чтоб не возгордиться. – Видит Бог, Григорий, не рвался я до учительства. Нет слаже, чем быть в иночестве и служить Спасу нашему, приуготовляясь к встрече. Аль нет?» – «Так и поди прочь со стулки!» – искренно воскликнул инок и зарозовел изможденным лицом, вроде бы густо присыпанным древесной трухой. Из-под ватной скуфейки опали на плечи сальные с проседью косицы, и сквозь тусклый волос просвечивает худая морщиноватая шея, похожая на ивовый корень. Воистину ни кожи ни рожи, а вот царя-батюшку захмелил и обавил сладкими словесными медами, проковырял кротовью норку в самое сердце его, – невольно с завистью подумал Никон. – Вишь ли, кротовин, всю Русь изошел, а не попался; сколько доброго народу под себя поднятии, извратил, ублажил лживыми словами против церкви, да и схоронился от моих спосыланных. Вроде бы все во власти моей, а этого сморчка никакими цепями не ухранить. Никон пропустил последние слова инока, с трудом отвлекся от мыслей. Инок Григорий повторил: «Так и поди прочь со стулки, Никон. Успокой народ». – «Ушел бы, да кто спустит? Не в моей власти. – И вдруг, приосанясь, отстранился и добавил: – Уйду, наплачетесь, осыплетесь, как листья с дуба. Может, на мне и крепится церковь наша. А вы зубы об меня сточили, лиходеи. Все насупротив». – «И ты взаболь молышь? Де, ты сам Христос?» – изумился инок. «Уйду, истечете похотью, останется одна возгря и жидь, и всяк об вас оботрет ноги, как о худой вехоть. Ибо сами в себе некрепки и падки на подачи». – «Ну-ну, загарчал ворон по-скворчиному. Ну, да Господь с тобою… Повстречался и пойду прочь. Ты лучше наладь-ка мне житье на Москве. Негоже бывшему казанскому протопопу шляться по Москве, как последнему прошаку», – сурово оборвал разговор инок. И снова стерпел патриарх неуважливого гостя, будто что сломалось у него внутри. Будто не он томил, а его садили в юзы. И сказал Никон тихо, странно заискивая: «Поезжай, инок Григорий, в монастырь Покровский, что на убогих домех, и объяви, чтоб очистили для тебя келью и чтоб всякого брашна и питий дали, чего схочешь. Лишь не заступай мне дороги в великом деле и не твори из меня циклопа, не возмущай противу меня мятежей. Поплачь, умягчи, зачерствевшую душу на гробе друга своего». – «Далече, святитель, попадать мне туда, – грубо отказался инок. – Мне бы где поближе. Я человек древний, бродить далеко не могу. Изволь пожаловать на Троицком подворье побыть». – «Ино, де, добро», – устало согласился Никон.
…Вроде бы главного своего супротивника заставил смалодушествовать, переманил на свою сторону. Пришло время торжествовать победу, а не случилось на сердце радости. Горькое недоумение не покидало: за что, по какому розмыслу и наущению роет государь противу собинного друга тайные подкопы? Редким гостем стал в патриаршьей Крестовой палате и к исповеди нечастый ходок. Вот и беглого протопопа, отлученного от церкви еретика, сокрыл у себя во Дворце. И неуж он, Никон, воистину один на бранном поле за истинную русийскую церкву?
Вскоре возвратился из похода против шведов государь, и когда соборные власти провожали его во Дворец со службы, пался на глаза царю старец Григорий, что стоял возле успенских нищих. Увидев любимого златоуста, царь весело сказал Никону: «Благослови его рукою». На что патриарх властно заметил: «Изволь, государь, помолчать. Еще не было разрешительной молитвы». – «Да чего ж ты ждешь?» – спросил государь и, не дожидаясь ответа, прошел в палаты.
В следующее воскресенье за литургией Никон приказал ключарю ввести в соборную церковь старца Григория и вопросил его: «Старец Григорий, приобщаешься ли святой соборной и апостольской церкви?» На что инок возразил: «Не знаю, что ты говоришь. Я никогда не был отлучен от церкви, и собора на меня никакого не было. Ты положил на меня клятву своею дерзостью, по своей страсти, гневаясь на меня, как проклял и черниговского протопопа Михаила и скуфью с него снял за то, что он в книге Кирилловой не делом положил, что христианам мучения не будет».
И Никон, не отвечая, горько заплакал над нераскаявшимся строптивцем и начал читать разрешительные молитвы. Тут и Григория вдруг пронзило, и он пролился слезами, кляня себя за дерзости и гордыню, пока снимали с него клятву и когда причащался святых даров из руки Никона. И он искренне зажалел о долгой бесполезной распре, плевелы коей уже стали прорастать на украйнах земли Русской.
В тот же день устроил патриарх за радость мира трапезу в Крестовой палате и посадил старца Григория выше всех московских протопопов, отдал ему особую честь как человеку редких достоинств. А после брашна и питий одарил старца подарками и вернул все письма, что рассылал прежде Иоанн Неронов к царю, Стефану Вонифатьевичу и прочим братьям, и примолвил на прощанье: «Поди с миром, старец, и сеяй радость духовную…»
Часть третья
Глава первая
Есть ли что вольнее, любезней охотничьей птицы, когда она, опираясь крылами на плотные воздуха, воспаряет как бы к самому Господнему престолу, и только острый взгляд ловчего и сокольника может наискать это маковое зернышко в небесных голубых проталинах средь белоснежных весенних ворохов; соколы с ангелами рядом живут, они Господа зрят, а может, и служат у Него на посылках, и падая с горних сияющих вершин назад к земле, несут Его благословление ко всем грешникам, что колотятся в наказание в бесконечных трудах. И как тут не позавидовать гордой птице, что с ангелом вровню.
Ангел недоступен даже православному смирному взгляду, сливаясь с прозрачной небесной водицей; лишь порою серебристая пыль на покатях неба дрожащей мгновенной полосою выдает его след к земле за отлетающей душой праведника; а кто бы и увидел ангела въяве, тот бы и ослеп сразу от красоты. И вольной птице, что у ангела в пособлении, что у Господа на посылках, негоже быть в затрапезном одеянии, ютиться на своей колоде в кречатне, как нищему прошаку в притворе сельской церкови. Государь наш до Бога приимчив, поклончив и устрашлив, он всечасно всякого монаха, иль соборного служку, иль отца духовного просит молить у Господа за здравие и отпущение грехов; оттого и кречетов велит уряжать со тщанием и роскошью. И ежли для обыкновенных охот у ловчей птицы полевой наряд из добрых, но простых материй, то для сердечной радости, для похваления и умаления собственной гордости украшивает Алексей Михайлович птицу в шелка и бархаты, осыпает жемчугами и драгоценными каменьями, не прижаливая всяческой дорогови из своей казны…
Вчера царев поезд прибыл в Коломенский дворец, завтра первый выход на весеннюю охоту. Нынче же в передней избе Сокольничьего пути поджидают государя: на лавку кинут ковер диковатый да сголовье полосатое бархатное, а пух в нем из диких уток, против царева места поставлены четыре стула нарядных, а меж стулов втолстую настлано сена, покрытого попоной. Любимко принят кормленщиком на птичий двор за Елезаровой просьбою. Но ему в переднюю избу нет ходу, он украдкою подглядывает в окраек раздернутого волокового окна, как первой статьи сокольник Парфентий Яковлев сын Табалин готовит для показа Любимкиного белого кречета. Стол накрыт ковровой скатертью, и разложена на нем птичья стряпня, сверкающая золотом.
Кречатня за высокими дубовыми палями, въезжие ворота постоянно на засовах, возле – стрелецкая неусыпная вахта: это царев дорогой мир, его единственная сердечная утеха и прибегище, куда доступ для людей прочих редок. Да и что им тут особо смотреть? Жилые избы, поварня, дворы скотские и всякие иные службы для складского хранения; под особым же призором длинное сушило с чуланчиками для птиц, да голубиное житье у дальней стены, откуда соколам несут живую еству. Нынче на Коломенской кречатне особенно пристрастная охрана. С зимы обещалась дурная болезнь, и Алексей Михайлович, волнуясь за целость красной охоты и здоровье служивых, наказывал подсокольничьему Петру Семеновичу Хомякову, чтоб тот запасов всяких свежих наготовил загодя из здоровых мест, а для вящего опасения приискал место или два в лесу, где б близко вода, и те места осек. И Любимко с дворовой подначальной службою, с ловчими и псарями, и дворцовыми топорниками по коломенским лесам и под Покровским, и под Туфиловом ходили с думным дворянином Хомяковым, и в борах лес валили, и делали засеки, и избы новые рубили, и огорожу городили, и дозорные вышки вязали, и на высоких местах погреба копали, и ледники набивали последним, уже сопревшим льдом и уталкивали натуго снегом, и резали скот, и в один месяц управились. Но все, слава Богу, обошлось.
На дворе лужи, серенькое небо глядится, ветер-летник морщит воду меж гривок жирной грязи, в завитерьях уже трава наклюнулась, а на березах грачи развернули свою шумную домовую стройку, ратятся меж собою за добрый отвилок и хворостяную прошлогоднюю шапку. Грустно и странно Любимке. Так рвался к Олисаве и вдруг с охотою спровадил назад родных печищан, как бы обманул их в последнюю минуту, поманился на посулы Елезара и вступил в цареву службу с жалованьем в четыре рубля годовых за клятвою и крестным целованием. Незнаемо, что толковал сокольник Елезар Афанасию Матюшкину, но только ловчий оказался неожиданно благосклонным к молодому парню, сделал уступку и похерил досюльный обычай, ибо в птичьи охотники брали лишь по родове и наследству. Да еще и обещал Матюшкин за белого кречета государеву милость.
А сейчас вот все ждали государя, а больше того Любимко, и сердце у парня часто упадало, зажимало дух. Каков нынче государь? с милостью иль грозою? Может и вон выпроводить, ежли не в духе: повелит, де, ступай-ко, холопишко, прочь, откуда ветром надуло. С год, почитай, не был в престольной, стоял под Ригой, но и из дальних мест не позабывал потешников, слал Афанасию Матюшкину деловые грамотки, даже в боях, за городовыми бронями неотступно помня охотничий регул: «… А будет вам помнитца, что засидятся птицы, иль позабудут добычу, и вам бы Адара и иных, которые поспевают кречеты, пускать в субботу вечером на однова коршака; а будет вам помыслитца, что запускать от субботы в субботу, и тебе б подумать с Васильем и Петром Хомяковым. Как приговорите, так и сделайте: пускать ли до меня иль не пускать, а мне вам указать для того нельзя, ибо долго к вам не буду из походу: теперь кладуся на вас во всем, как лучше, так и делайте. А будет вашим небрежением Адар, или Мурат, или Булат, или Стреляй, или Лихач, или Салтан умрут, или утекут, и вы меня не встречайте. – А в конце письма приписал государь, желая умягчить суровый тон: – Брат, как тебя здесь не стало, то меня и хлебом с закалою накормить некому. Будь здрав…»
Любит Алексей Михайлович, чтоб хлеб с исподу был не пропечен, отдавал сырым тестом, и лишь ловчему Матюшкину удавался такой походный каравашек.
Испереживались охотники, все эти дни готовя птицу к первому полю. Всяк хотел угодить Отцу, потрафить счастливым промыслом в коломенских ухожьях. Случалось же, что кречет, добыв утицу, учнет валяться с ней, рвать черева и, жадно нахватавшись горячих мясов, напившись крови, заленится вдруг и отстанет от дальнейшей потехи. Иной же сокол, своенравный и отбойчивый, взмоет в занебесье, где и острым взглядом птичьего стрелка не отыскать его, и утечет в дальние веси, и тогда в поиски приходится спроваживать во все стороны верховых сокольников и гонцов; но еще обиднее для охотничьего сердца, если при государе сокол не слезает с добычи, не может завершить ставку и смертно мякнуть жертву в зашеек.
Для того и подгадывали кречатники птицу к предстоящему полю, чтобы не осрамиться в глазах государя, доглядывали здоровье челигов, и того сокола, что погадку не скинул, не срыгнул, в поле не брали. Сильных и резвых птиц кормили водяниною и вполсыта, чтобы они не взыграли на охоте, а слабосилых кормили досыта…
Любимко не знал, что делалось на дворе; он притулился, робея, к волоковому окну и видел сейчас лишь четырех начальных сокольников, в столовых червчатых кафтанах с высокими воротами, и подсокольничьего Петра Семеновича Хомякова: был тот по чину в золотной ферязи и бархатной шапке, сдвинутой, искривя, к затылку, и зеленых сафьянных сапогах, расшитых серебряными травами. Голова у Хомякова выбрита и от черной щетины кажется синей; лицо иссмугла с реденькой, в кукишок, бородою, глаза чуть вздернутые, с голубыми крутыми белками и насмешливой коричневой искрой. На впалых висках и яблоках скул вылился пот усердия и послушания. Этакий черкас из плавней, угодивший с разбою в государевы угодья, и недостает ему лишь кривого ятагана за поясом. Хомяков коротко, упруго оборачивался, так что вспухал желваками загривок, ревниво дозирал стол, застланный брусеничными дорогами, и разложенную соколью стряпню, и начальных сокольников, слегка сомлелых от жары и долгой жданки. Близок путевой царский Дворец от кречатни, да долга к ней тропинка; и то, что государь неожиданно мог явиться в любую минуту, пригнетало и утомляло служивых. Голубая ценинная печь была жарко натоплена, так что в пазьях новой бревенчатой клети колыбался моховой волос; в крохотное слюдяное оконце, разделенное переплетом на четвертушки, падал полуденный солнечный луч и искрящимся широким мечом разваливал чистую переднюю избу наполы, настраивал кречатников на праздник.
Медово и пряно пахло свежими опилками, сомлелой древесной плотью, и сеном, и коврами, и кафтанами, выданными из царской казны на торжественный случай, птичьим сухим лайном и кожею – всем тем, чем пахнет охотничий сряд. Рядовые сокольники и поддатни дожидались царя на сушиле, возле птичьих чуланчиков, готовые исполнить волю подсокольничьего; они выросли возле двора, по семейному преданию и по наследству во всем корне знали досюльный обычай и богатый степенный чин, и приход государя на кречатню был им за обыденку, за свычную службу, за рядовое дело, из коего вытекало мудрое житейское правило: чем меньше знаешь, тем дольше проживешь. А этому увальню, этому северному отелепышу, что чудом вдруг проник в Потешный двор, втерся в цареву службу, надобно приобсмотреться и наполучать тумаков да батогов, чтобы с годами выпестовался из него истинный служивый. Вот почему Любимко дожидался царя в сенях, жадно приникнув к продуху, и никто не теснился возле, не гнал прочь.
Прямь его в избе сутулился Парфентий Табалин, искривясь левым плечом и часто однобоко припадая. Седые изжелта косицы волос неряшливо, по-стариковски падали на высокий ворот кафтана, обшитый шелковым голубым позументом. У старого охотника мозжели к перемене погоды кости, но он крепился, чтоб не выдать немощи своей государю, не опечалить его. Парфентий был давно вдов, одинок, бездетен, в тверском поместье кособочилось неоприюченное житьишко. Никто не дожидался Парфентия дома, и он дослуживал жизнь, тянул лямку до смерти. К широкому поясному ремню из лосиной кожи были приторочены яркие крылья, украшенные цветными шелковыми лентами, но эти крылья, опадая по взгорбку спины, не выпрямляли Парфентия в его охотничьей гордости, не красили начального сокольника, но делали унылым и жалким, как бывает неприглядно-тоскливой старая ловчая птица, доживающая свой век на сушиле лишь по прихоти хозяина. И Любимко искренне зажалел Парфентия, как пожалел бы стареющего батьку. Лишь бревенчатая стена мешала ему из сеней приобнять ловчего; он собрался даже окликнуть Парфентия, но тут увидел, как по кромке широкого поясного ремня несуетно, с раздумьями ползет божья тварь в алом зипунишке с черными горошинами. И парень, прыснув в кулак, дурачась, тихонько загугнил: «Божья коровка, вылети на небо, там твои детки…»








