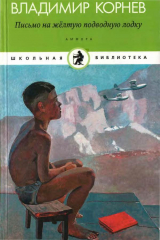
Текст книги "Письмо на желтую подводную лодку (Детские истории о Тиллиме Папалексиеве)"
Автор книги: Владимир Корнев
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

Владимир Корнев
ПИСЬМО НА ЖЕЛТУЮ ПОДВОДНУЮ ЛОДКУ
Детские истории
о Тиллиме Папалексиеве
Посвящается моей дочери Маше

ПТИЧЬИ УРОКИ
В детстве Тиллим отдыхал у бабушки Мани в уральской деревне. Каждое лето отправляли его на отдых в эти глухие лесные места – напиться чистейшего, как ключевая вода, воздуха, подальше от непроницаемого челябинского смога. Тиллим, шестилетний мальчик, представлял свои путешествия далекими-далекими и словно в бабушкину сказку (в городе ведь жизнь совсем другая, а тогда и подавно – деревенская еще больше отличалась от городской). Конечно, после асфальта улиц, шума машин, огромных каменных домов и высоких заводских труб интересно было собирать в бору грибы и ягоды, купаться в озере, наблюдать за домашними животными: коровами, козами, свиньями, курами, которых сельчане держали почти в каждом дворе. Очень любил Тиллим смотреть на лошадей – доброе животное, и глаза у лошадки умные, совсем как у человека. Подолгу мог на них любоваться. А еще видел он много разных птиц, которых в городе или совсем не увидишь, или летают они в высоте, под ноги не попадаются. Не воробьев да голубей – щеглов, малиновок, трясогузок, сорок, грачей, а в лесу – дятла, то с красной головкой, то с желтой.
Вот однажды собрались старшие на сенокос (а дело было в июле – самая пора сено на корм скотинке заготавливать), бабушка с дедом и другие родственники (в деревнях тогда большие были семьи), ну и Тиллишу-малыша взяли: сам хотел, да и дома не с кем было оставить – все в работе. Спешит маленький Тиллим за взрослыми, то на одной ноге вприпрыжку, то широкими шагами – норовит в чужой след попасть на грунтовой деревенской улице; вдруг видит: прямо посередине проезда большая птица прохаживается (в детстве все больше кажется), но как-то странно – на лапку припадает и крыло приволакивает. Оно красивое, точно атласное – шелковое, черное. Тиллим в том возрасте все же мало в птицах разбирался (откуда там?), а эта еще и тем удивила, что другое крыло у нее было белое-белое, точно снег или свежие крахмальные наволочки на бабушкиных подушках, что горкой на кровати лежали – внизу самая большая, а сверху – са-амая маленькая. Спросил Тиллиша бабушку, что, мол, это за птица такая невиданная, крылья разного цвета (а у бабы Мани еще собака на дворе была, тоже черно-белая, по кличке Черныш, и Тиллим любил с ней играть, кормить с рук).
«Да это ж ворона! Редкая какая… – Бабушка всплеснула руками. – Видать, кто-то ее подбил, или кошки подранили. Жаль, пропадет теперь».
Тиллим был мальчик отзывчивый, добрый, любил животных (даже заплакать мог над мертвым кротом или раздавленной кошкой). Сама баба Маня учила его вежливости и доброте, часто, бывало, приговаривала: «Ласковый теленок двух маток сосет» (значит, две коровы его согласятся кормить, а ведь некоторые и своего неохотно кормят, отгоняют). «Добрым и отзывчивым быть хорошо, правильно – люди должны между собой жить в добре» – так наставляли старшие.
Прошлой весной, в конце мая, увидел Тиллим в саду под деревом взъерошенную серенькую пичугу-кроху, которая жалобно пищала в траве. «Птенчик из гнезда выпал!» – решил Тиллим, но гнезда поблизости не нашел, да и птица-мама не летала рядом, видно не заметила пропажу. Юный натуралист, не раздумывая, принес потеряшку в избу. Бабушка, развешивавшая в это время в сенях лечебный ромашковый цвет для сушки, пригляделась к живой находке и с удивлением заметила, что соловьи в их места «сроду не залетали».
«Птенец» оказался самым взаправдашним взрослым соловьем, только чем-то ослабленным (может, кто из детворы подстрелил из рогатки?). Баба Маня связала ему крючком уютное гнездышко из овечьей пряжи, а Тиллим сам выстлал его кошачьим пухом от мохнатой Кисули, который, сколько Кисулю ни чесали, всегда белел клоками по всем углам избы.
Соловей никому не мешал, даже Кисуле, только изредка тихонько попискивал из своего утепленного приюта. Все его любили: бабушка осторожно, чтобы не захлебнулся, тыкала клювиком в блюдце с водой – как же без питья; Тиллиша сам ловил ему комаров и приносил с огорода червяков, которых тот охотно клевал. Несмотря на то что черви иногда были жирные, большие и, казалось, не пролезут в нежное соловьиное горлышко, он отлично с ними управлялся.
Словом, никому соловко не был в обузу, всех радовало, что явно шел на поправку, только упорно не пел.
«Не всякая птица в неволе поет – гордый!» – объясняла внуку много знавшая и повидавшая на своем веку бабушка.
Прошло недели две, и скромная птаха совсем ожила: стала уже летать под потолком из комнаты в комнату, явно тревожась, – ей, конечно, хотелось на свет, на простор, в ясное июньское небо.
Тиллим и не заметил, что баба Маня открыла фортку: он увидел лишь, как соловей мгновенно выпорхнул в сад. Это должно было, разумеется, рано или поздно произойти, но для впечатлительного, привязчивого мальчугана оказалось все же печальной неожиданностью. Ему казалось, что его маленький питомец должен был как-то по-особенному с ним попрощаться. «Он не мог так просто улететь!» – твердил Тиллим сквозь слезы, обижаясь на бабушку – зачем она не дала им попрощаться?! – но та уверяла, что соловей – божья птица и всегда будет помнить добро, сделанное ему человеком.
Детской душе от этих мудрых слов стало легче, и когда малыш брал в руки вязаное гнездышко, всматриваясь в приставшие к нему серые перышки, то ему верилось, что в эти минуты верный друг тоже вспоминает о нем – в новом, настоящем, гнезде.
Однажды ранним июньским утром сидел Тиллим вот так у окошка, и вдруг из куста цветущей сирени донеслись мелодичные звуки, сначала робкие, а затем разлившиеся над садом причудливо-коленчатой, набравшей силу изысканной трелью. Восхищенный Тиллим распахнул створки, и заливистое птичье пение вместе с цветочным благоуханием наполнило комнату! Внучек поспешил поделиться волшебной радостью с бабулей, влетел в кухню, где та хлопотала ни свет ни заря.
«Да уж слышу, слышу! Дождался своего соловку? Эк что выписывает! А мы-то еще думали, не запоет… Это он тебе в благодарность и Богу во славу – Троица ж нынче. Умная птичка все чует: всякое дыхание хвалит Господа!»
Изливался в благодарности и воспевал хвалу цветущему миру своими концертами-утренниками пернатый тенорок изо дня в день до самого конца месяца, пока Тиллим не научился подражать ему затейливым свистом. Такая оказалась удивительно светлая птица…
Год миновал – и вот снова птица, теперь уже большая, но тоже беспомощная. Бедную эту ворону наверняка сбила бы машина, или злые подростки, прежде поиздевавшись, замучили бы совсем; ну уж во всяком случае, ночью она стала бы добычей полудиких деревенских котов, а может, и лисы – из тайги. Вот какая ожидала бы воронушку печальная судьба, если б не спросил Тиллиша у бабушки: «А может, я ее домой отнесу, и мы ее вылечим, правда? Помнишь, как соловья… Ну пожалуйста!»
Баба Маня улыбнулась, как только она одна умела, и согласно кивнула.
Внук подобрал раненую птицу, которая почти не сопротивлялась – видно, чувствовала, что ничего дурного ей не сделают, – мигом вернулся в дом и посадил черно-белую ворону на старинный сундук, покрытый мягкой подстилкой, – место, где сама баба Маня любила сидеть по вечерам за вязаньем или шитьем (такая работа была для нее отдыхом). В этом сказочном сундуке, между прочим, хранилось много интересных вещей, которые давно уже отслужили свое, но их берегли как память о времени, когда даже бабушкина бабушка была молодая. Пожалуй, это было самое уютное место в горнице.
«Ну, здесь воронке будет тепло и мягко, а вернемся – накормим ее и перевяжем», – подумал Тиллим и обрадовался, что теперь у него есть новый пернатый друг, которого нужно будет выхаживать и заодно с ним забавляться (мальчик уже слышал, что ворону можно научить говорить – вот было бы здорово!).
На сенокосе, как всегда, было много интересного: цветы луговые, кузнечики, бабочки и стрекозы, ледяная и вкусная-превкусная вода из ключика на краю покоса; был даже уж, которого чуть не разрубили косой, приняв поначалу за ядовитую гадюку; были и кусачие, жалящие до крови слепни. Тиллим с трудом дотерпел до конца работы: ждал главного – как вернется домой и вместе с домашними будет лечить диковинную ворону. Даже имя пытался ей придумать обратной дорогой, но в кружащуюся от луговых ароматов голову ничего не приходило, да и вороньих имен Тиллиша не знал. Взрослые только посмеивались: «Ворона – она и есть ворона» – или отмахивались: «Не мешай, птицевод!» Им было не до того, чтобы вороне с крыльями разного цвета имя подбирать, и вообще – у взрослых всегда имеются дела куда серьезнее.
То, что все увидели, когда вошли из сеней в жилье, трудно описать словами (здесь нужна была кисть художника): по дому, как говорят в народе, мамай прошел. Всюду виднелись следы погрома, разгула необузданной стихии: посуда со стола сброшена и разбилась, вилки-ложки – под столом, всякие мелочи – бумажки, тряпицы – раскиданы по комнате, под ногами хрустит – солонка с сахарницей тоже лежат на полу, крупы рассыпаны; досталось и цветочным горшкам: герань со столетником, растерзанные, вперемешку с землей и глиняными черепками валялись у подоконников. Настоящий кавардак творился и на печке. Были исклеваны-изорваны даже пестрые занавески и одеяла, из которых клочьями торчала вата. Баба Маня сразу запричитала, поминая недобрым словом того, кто все это натворил. Ленивая Кисуля на такое была неспособна, да она и гуляла где-то уже вторые сутки. Было совершенно ясно – в запертом доме набезобразить могла только Тиллимова воронушка, но даже старшие удивились: как, раненная, она могла учинить такой разор? Причем самой-то черно-белой безобразницы было не видать. Решили, что ее насмерть придавило каким-нибудь ею же уроненным тяжелым предметом.
«Как еще утюги чугунные не раскидала, хулиганка…» – всхлипнула бедная баба Маня.
Тиллиша же испугался за глупую ворону, боясь, что ее найдут раньше него и строго накажут; стал ползать по дому, заглядывая в разные углы, куда дурашка могла бы забиться. Наконец спасенная Тиллимом птица нашлась, но мальчуган не обрадовался, а горько заплакал: его воронушка лежала на сундуке лапками кверху, черно-белые крылья были аккуратно сложены, глазки помутнели, и клюв был плотно закрыт – в общем, безо всяких признаков жизни. Малыш бережно взял ее, не позволяя никому прикасаться к погибшей птичке, и, продолжая плакать, спрыснул водой из рукомойника – вдруг оживет? Но воронушка оживать и не думала. Как Тиллиша тогда ни протестовал, бабушка заставила любимого внучка вынести ее на улицу и оставить где-нибудь на мусорке – пускай кошки подберут, однако тот задумал на закате тайно похоронить бедняжку.
Баба Маня кое-как прибралась в доме и, вздыхая, взялась готовить обед. После обеда (внучек в тот день есть отказался в знак траура по птице) в дом заглянула соседка – обменяться деревенскими новостями. Когда же она увидела еще остававшиеся следы хулиганского разбоя и узнала, что к чему, то тут же закачала головой – дескать, понятно все и вовсе не удивительно. Оказывается, эту ворону с крыльями разного цвета в деревне уже знали: соседи приютили раненую по доброте душевной несколько дней назад и тоже куда-то отлучились, а та устроила им такой «обыск», что до сих пор золотые сережки и колечко обручальное найти не могут – запрятала в какой-нибудь свой тайник.

«Вороны все хитрющие. А эта – двухцветная – так особенно, – уверяла соседка. – Думаете, она кем побитая, больная? Как бы не так! И дохлой точно притворилась – сейчас опять кого-нибудь разжалобить да обмануть норовит».
Мальчик слушал это открыв рот, а потом побежал за огороды посмотреть, на месте ли мертвая ворона. Искал, искал, да без толку – птицы и след простыл, точно улетела! Тиллиму запомнилось, как он тогда обрадовался, подумав: «Пусть она такая проказница, зато живая».
Раньше казалось, будто все это было вчера, а теперь, делясь иногда с кем-нибудь воспоминаниями детства, взрослый Тиллим с грустью понимал, что нет уже бабы Мани, и дома того нет, в общем, многое вокруг изменилось и немало лет уж прошло. И смысл в этом поучительном случае виделся уже другой: точно было Тиллиму в те ранние годы предупреждение на всю жизнь. Сколько потом таких «раненых ворон» он встретил, только уже в человеческом облике. Бывает, люди пожалуются тебе на жизнь, на свои беды и несчастья, помощи попросят. Поверишь им, примешь их рассказы близко к сердцу, поможешь чем-нибудь, а то и на ночлег оставишь и пригреешь. Они твоей помощью воспользуются, войдут в доверие, а через какое-то время такую гадость или подлость сделают, что даже видеть их не хочется. Но чаще они и сами тут же исчезают из твоей жизни – им бы найти, кого еще обмануть, разжалобить, где повыгоднее устроиться, пригреться…
И представлялась Тиллиму уже не двухцветная ворона, а совсем другое – домашнее животное с пятаком вместо носа, тучное и прожорливое. Не зря отзываются о нем в народе: «Посади свинью за стол, а она и ноги на стол».
Да, слишком часто попадаются среди ближних не «соловьи» с чистой душой, а именно коварные «вороны». Но раз уж есть такие на свете, пускай себе живут. Конечно, «соловьями» они не становятся и «пению» их учить бесполезно, но как знать – вдруг да и проснется в них когда-нибудь человеческая совесть? Ведь есть же птица ворон: кажется, разница с бесстыжей хулиганкой только в ударении да в роде, зато благородной мудростью на весь мир славится.
БУЛОЧКА И ТРИ ПОМИДОРКИ
Оля Штукарь была моей первой школьной любовью. Штукарь – не прозвище, не кличка, как можно подумать (да и разве пришло бы мне в голову оскорблять любовь кличкой?), просто у нее была такая фамилия. Редкая, конечно, тут не поспоришь. И писаной красавицей ее вряд ли можно было назвать, – пухленькая, со светлыми кудряшками, она походила на слегка перекормленного ангелочка с открытки (так и хочется написать – с рождественской, но такие открытки я увидел гораздо позже), однако никакая другая девочка не производила на меня тогда впечатления, сравнимого с ангельским очарованием. «Оля» – это имя мысленно и вслух я повторял, пробуждаясь и засыпая, утром и вечером, как молитву или заклинание. А в классе ее прозвали Булочка-Помидорчик. Когда на уроках математики она задумывалась над задачкой, кто-нибудь с первого ряда парт (только не я!) всегда спрашивал ее с шутовской серьезностью шепотом заговорщика: «А если бы в сумочке была булочка и три помидорки?»
Она терялась, краснела, как пион, отчего становилась еще прекрасней.
Не позволяя себе подшучивать над Олей, я, наоборот, даже посвятил ей стихи (сочинять в рифму я начал еще до школы). Мне они показались очень звучными (не хуже, чем у самого Пушкина!) и красивыми, как сама моя одноклассница. До сих пор помню их слово в слово:
Я люблю тебя, Ольга,
Хоть ты толстая станом!
Да, тут есть что любить мне,
Я твержу неустанно:
На моем бедном сердце
Ты как груз полновесный.
Меня любишь ли, Ольга?
Ты признайся мне честно.
Эти стихи я прочел моей музе лично, с выражением, специально дождавшись, когда все, кроме нас, вырвались на переменку после какого-то скучного урока, и был безмерно удивлен, получив вместо восхищенной благодарности и признательной благосклонности со всего маху по голове учебником «Родной речи». Сам удар я еще пережил, но, оказалось, Оля была всерьез расстроена тем, что в своем пламенном послании я назвал ее толстой. В общем, хотел восхитить, а вышло, что обидел, и от этого сам расстроился еще больше. Странные они, эти девчонки! Думают, раз толстушка, то обязательно некрасивая…
Была у меня в детстве одна досадная физическая слабость – горло меня часто подводило. Стоило мне съесть лишнее мороженое, выпить на жаре ледяной газировки за три копейки из автомата или забыть надеть в весеннее-осеннюю слякоть кусачий шарф маминой вязки, как сразу предательски воспалялись гланды, или, как называла их моя интеллигентная городская бабушка, миндалины.
Из-за жара и кашля меня тут же брали под домашний арест и мало того, что периодически запихивали под мышку холодный скользкий градусник, заставляли дома кутаться в нелюбимый шерстяной шарф, так еще, когда приходил доктор, он засовывал в мое бедное горло палочку с тампоном и долго там орудовал, смазывая эти самые покрасневшие гланды-миндалины, которые представлялись мне похожими на персиковые косточки, жгучей лечебной «синькой», а я был вынужден терпеть все эти мучения и издевательства. Правда, в дни болезни не нужно было ходить в школу и делать уроки, напротив – следовало побольше спать, а вместо задач и диктантов можно было запоем читать о приключениях героев Жюля Верна или Фенимора Купера – про индейцев, но зато я надолго лишался возможности любоваться кудрявым затылком моей Олечки и передавать ей под партой записки с признаниями в стихах, что огорчало меня даже больше, чем болезненные процедуры с «синькой».
В минуты отчаяния я даже готов был согласиться, чтобы мне, как некоторым одноклассникам, совсем вырвали эти никчемные наросты в горле, хоть и знал, что это настоящая операция под наркозом, и куда больнее, чем выдрать зуб, но ради настоящей любви я бы все вытерпел, вот только врачи операцию никогда не предлагали – может, жалели меня, а скорее всего мои капризные гланды недостаточно «созрели», чтобы их вырезать.
Днем я всегда оставался с бабушкой, потому что мама допоздна чертила на работе какие-то чертежи, а папа постоянно пропадал в ответственных командировках – бывало, целые месяцы. В общем, возиться со мной больным (да и со здоровым) приходилось в основном моей любимой бабуле. Она была хоть и старенькая, но вполне еще крепкая и активная, вот только постоянно жаловалась на склероз – нет-нет да и забудет что-нибудь по хозяйству, зато во всем остальном память у нее была прекрасная. Она могла часами рассказывать о своей долгой жизни, о молодости, о прежних временах, любила наизусть читать стихи (между прочим, выходило у нее не хуже, чем у некоторых артистов) и даже порой пела романсы, аккомпанируя себе на старом пианино. Поэтому с ней было интереснее, чем с деревенской бабой Маней, доброй и мудрой, но постоянно занятой то скотинкой, то огородом, то хлопотавшей у печки и потому малоразговорчивой…
Нет, бабушка Лёка, Леокадия Евгеньевна, была совсем другая. Казалось, о чем ее ни спроси, она все знает, все может объяснить. Ей самой все было интересно. Всю жизнь бабушка Лёка была учительницей литературы, или, как она говорила, служила преподавателем словесности. Она успела даже поучиться в гимназии и окончила университет в Ленинграде (бабушка говорила «в Петрограде»), поэтому никогда не называла скамейку лавочкой, а мои любимые леденцы в круглой жестяной коробочке всегда называла только «монпансье». Сама она объясняла это грамотным петербургским произношением и строго следила за моей речью.
Мама говорила, что именно бабушка Лёка настояла на том, чтобы мне дали имя Тиллим, в память о герое давно забытого, но любимого ею галантного французского романа. Иногда у нее вырывались отдельные слова и целые фразы по-французски, но такое случалось нечасто и только дома. Бабушка объясняла это тем, что соседи не поймут или поймут неправильно (мне тогда было не ясно, почему неправильно), а она не хочет никого смущать.
Однажды во время очередной ангины бабушка сидела возле моей постели, и я, вспоминая о своей школьной любви, поинтересовался:
– Бабуля, а откуда такая фамилия – Штукарь?
Она, часто посещавшая родительские собрания, с хитринкой посмотрела мне прямо в глаза:
– А разве не из вашего классного журнала? Я помню, что у вас есть такая девочка, по-моему, даже живет в нашем дворе… Так ты, выходит, уже за барышнями ухаживаешь?
Я покраснел до кончиков ушей.
– Ну вот – ты всегда шутишь, а я серьезно…
– Да уж вижу, вижу – серьезный кавалер вырос, а мы и не заметили.
Сев на постели, я не унимался:
– Нет, правда! Ты должна знать, что за фамилия такая странная.
– Действительно, редкая… Как, впрочем, и наша. – Бабушка-словесница задумалась. – У фамилий бывает самое неожиданное происхождение, а Штукарь… Вероятно, кто-то из предков твоей обже[1]1
Предмет ухаживания, от objet (фр.) – объект.
[Закрыть] торговал штучным товаром: были раньше такие лоточники, коробейники. Другая версия: был он искусным мастером и выпускал штучные вещи, в одном экземпляре… А может быть, здесь совсем иное и эта девочка из циркового рода, из акробатов, фокусников, которые выделывали разные штуки, потешали публику. Одним словом, были «штукари»… А сейчас схожу-ка я в аптеку – тебе за лекарством.
– Как здорово, бабуль! – восхитился я. – Ей последнее больше всего подходит: над ней некоторые потешаются, а она такая привлекательная… У нее кудряшки на затылке… Ее Оля зовут.
– Я люблю вас, Ольга… – задумчиво пропела бабушка Лёка, подошла к пианино, открыла клавиатуру и тотчас закрыла, но инструмент успел прозвенеть. – Просто «Евгений Онегин»: Пушкин и Чайковский одновременно… Послушай, Тиллим, а ты ей случайно не писал? Не отпирайся! Ты ведь у нас стихотворец… Неужели потешался над девочкой, как «некоторые»?
И тут я не выдержал и признался бабушке, что посвятил Оле стихотворение, даже прочитал, а та обиделась. Снова краснея и запинаясь, я продекламировал свое сочинение бабуле. Она со вниманием, серьезно (мне, во всяком случае, так показалось) все выслушала и тоном ценительницы поэзии произнесла:
– А по-моему, недурно. Конечно, не Александр Сергеич, но уж не хуже Ленского. Мне особенно понравилось вот это: «толстая станом… есть… неустанно». Красиво! Сам чувствуешь, какая звукопись?
Сам-то я в глубине души чувствовал, но был очень удивлен – получил ведь именно за это, но бабушка пояснила:
– …Только вот дамам не нравится, когда им прямо говорят, что у них есть, так сказать, лишний вес. Мог бы как-нибудь поизящнее выразиться – полная, пышная… А вообще-то не подходит – звукопись теряется… Да ты не расстраивайся, дружок: поэтов никогда не понимали! Хотя я тебя хорошо понимаю – лирическая грусть, элегия. Вот и напиши теперь что-нибудь лирическое… Ну, полно! Совсем ты свою бабулю заболтал, а у бабули склероз. Поспи-ка ты лучше – во сне быстрее выздоравливают, дорогуша! А я сейчас в аптеку сбегаю. В аптеку, пока не забыла, как лекарство называется…
Именно в этот момент мне так не хотелось никуда отпускать бабушку Лёку, которой я доверил самое сокровенное, мою самую чуткую на свете бабулю, которая со своим опытом педагога и воспитателя детских душ так тонко оценила то, что со мной творилось, и тогда я жалобным тоном, каким иногда (очень редко!) выпрашивал у математички оценку, попросил:
– Бабушка Лёка, расскажи мне, пожалуйста, как вы познакомились с дедушкой, как он за тобой ухаживал… Ну расскажи, бабуль!
– Уволь, mon enfant[2]2
Детка, дитя мое (фр.).
[Закрыть]! Рассказывала уже, неоднократно рассказывала. – Бабушка картинно зевнула, прикрывая ладонью рот. – Впрочем, раз уж ты у нас метишь в кавалеры, давай-ка я расскажу тебе о своей первой любви, ну а после – за лекарством.
Я затаил дыхание: раз она вспомнила французский, значит, обязательно расскажет что-нибудь очень дорогое для нее, откроет мне тайну, которую, наверное, хранила много-много лет.
– Voila[3]3
Ну вот (фр.).
[Закрыть]. Ты, Тиллим, знаешь, что твоя бабушка – особа допотопная и старорежимная и поэтому успела пять лет отучиться в гимназии, – тихо начала она. – Ах, как это было давно и какое славное это было время! Жили по-другому, учили по-другому и учились тоже… Я училась в женской классической гимназии – девочки тогда ведь воспитывались отдельно от мальчиков. Но мы, конечно, находили возможности для общения, да и нельзя сказать, что нас в детстве разделяли каменной стеной – все было в рамках разумных приличий. За мной очень трогательно ухаживал один кадет. Он был нашим соседом, учился в Оренбурге, в корпусе, но часто приезжал домой в отпуск. Очень был бойкий и вместе с тем галантный казачонок. Помню, меня смешила его большая папаха, из-под которой всегда вызвался подвитой русый чубчик. У него были шаровары с лампасами и сапожки, которые всегда были начищены и блестели, как лаковые. И все-таки он казался мне настоящим военным, будущим есаулом, и я очень смело для своего отрочества отвечала на его озорные взгляды. Что уж скрывать: по-девичьи любовалась им. А он… Вот ведь и имени его теперь не припомню – склероз, внучек, склероз… Да, он ходил передо мной этаким бравым офицериком, фертиком[4]4
Ходить фертиком, фертом (устар.) – красоваться, щеголять, рисоваться, форсить; от слова «ферт» – старого названия одной из букв русского алфавита.
[Закрыть] таким (да вы теперь и слова этого не знаете). И решился раз мой кадетик – что бы ты думал?
Что я мог думать по этому поводу, когда даже само слово «кадет» было для меня малопонятным? Я лишь ждал продолжения рассказа.
– Так вот, мой кавалер вызвался на глазах барышень-гимназисток переплыть Миасс…
– И переплыл?! – И без того больное горло перехватило от любопытства и нетерпения. Я закрыл глаза и представил себе нашу главную челябинскую реку, совсем не узкую, быстротекущую.
– Разумеется, – с достоинством кивнув, будто бы она сама совершила этот заплыв, ответствовала моя бабушка Лёка. – И, известное дело, обратно вернулся героем. Он ведь имел понятие об офицерской и о казачьей чести… Да-с, то были времена! Как-то потом сложилась судьба этого мальчика…
Но тут бабушка, отведя взгляд, спохватилась (мне показалось, что в глазах у нее стояли слезы), в который раз посетовала на склероз и наконец поспешила в аптеку, оставив меня в полном восторге воображать романтическую картину из ее старорежимного отрочества. И хотя мне трудно было вообразить то загадочное время, потому что «Историю СССР» мы еще не проходили (а когда прошли в соответствии со школьной программой – нескоро, классе в девятом, – в юных головах осталась неперевариваемая каша из песенки «Что тебе снится, крейсер „Аврора“…», маниакального гайдаровского бреда о контуженых бумбарашах, стойких мальчишах-кибальчишах и злых буржуинах, а также циничной кинострелялки про неуловимых мстителей), бабушкины откровения прочно засели в моем детском подсознании.
Очень скоро после этого разговора события приняли вполне предсказуемый для школьной любовной истории оборот.
У меня появился соперник-переросток по фамилии Лопаев – дылда выше меня на две головы, с сорок вторым размером ноги и старше почти на год (у него день рождения был раньше, чем у всех в классе – в сентябре). Прозвище у него было – Эскалоп. Как раз когда наша юная дама, я и мой соперник-акселерат, известный на всю школу спортсмен и драчун, были уже готовы вступить в новый учебный год и стать четвероклассниками, пришло время выяснить, кому выпадет честь проводить Олю Штукарь в школу, а после стать ее почетным портфеленосцем. Заспорили мы, разумеется, не на жизнь, а на смерть.
– А давай биться! – предложил тяжеловес Лопаев, презрительно глядя на меня сверху вниз и коварно усмехаясь в предвкушении легкой победы. – Кто победит, тот и в школу ее поведет. Только, пацан, чур, не хныкать и не закладывать, если я победю и по ходу тебе чё сломаю.
«Хитрющий и наглый! – подумалось мне. – Уверен, что я уже струсил, а он уже победил».
Лопаев, заметив мое замешательство, прищурился:
– Если дрейфишь, лучше сразу к бабке беги, Тиллим-налим!
«Ах так, ты еще обзываться…» – Во мне точно распрямилась какая-то пружина, да и за «бабку» обидно стало.
– Ты знаешь, что больше меня в два раза: наверное, лопаешь за троих, потому и фамилия такая! Ясно, что в драке ты меня тушей задавишь. Так нечестно, а кулаками махать любой дурак может, – сказал я. Тут очень кстати пришелся бабушкин рассказ, и я заявил: – Давай лучше по-благородному соревноваться: кто переплывет Миасс, тот вернется на коне. Пускай даже не наперегонки, главное – переплыть. Ну как, идет?
Видно было, что мой соперник от неожиданности на секунду опешил, однако все же выдавил из себя:
– Да мне не слабо, только на коне… Я на коне никогда… А где мы его возьмем?
– Это выражение такое, – важно объяснил я, чуть не прыснув со смеху. – Означает «с честью».
Лопаев снова расправил плечи:
– Ага! Я согласен, только прямо сейчас.
Сопровождаемые толпой любопытствующих, в основном наших одноклассников, мы отправились на берег.
– Покажи этому Эскалопу-остолопу, как надо плавать! – подбадривали меня.
Надо сказать, плавать я всегда любил и умел; правда, иногда все купание портил вездесущий пес Дроня. Это был Олин пес, ее любимец, верный страж и спутник. Подобранный щенком на улице лохматый симпатяга на длинных тощих лапах, неведомой породы, но с независимо поднятой лобастой головой и преданным взглядом, в котором светилось что-то человечье, несомненно, оправдывал свое «дворянское» происхождение. Он всегда отважно лез в воду и, неуклюже перебирая лапами, плыл за мной, но собачьи силы быстро заканчивались. Неустрашимый на суше, Дроня начинал тоненько поскуливать, захлебываться, наконец подплывал ко мне, как утопающий к спасательному кругу, и пристраивал тяжелые передние лапы на мои мальчишечьи плечи. В такую минуту я был для него последней надеждой, а для меня, учитывая, что стричь псу когти никому и в голову не приходило, его доверие оборачивалось удовольствием ниже среднего.
Наконец компания из нашего двора, желавшая понаблюдать за азартным заплывом-поединком, пришла на место. Мы с Лопаевым, раздевшись (мне накануне купили новый костюм: нарядную куртку с погончиками, серебристыми пуговицами, оранжево-солнечным шевроном на рукаве, изображавшим книгу – источник знаний, и брюки из синей полушерстяной ткани), разгоряченные, тут же полезли в воду. Первого сентября Миасс выглядел неприветливо: по стальной поверхности пробегала лихорадочная рябь, в воде отражалось серое небо. Река оказалась очень холодной, и кожа у меня сразу покрылась пупырышками (совсем как у пуговиц на новой форме), но какое это имело значение для принципиального «кадетского» заплыва? Я даже забыл про свои ненадежные, чувствительные гланды.
Не успели мы отплыть, как подбадривающий шум голосов за спиной заставил меня обернуться – любопытство взяло свое. У самой кромки берега стояла Оля. Как же она была красива в тот день! Золотистые кудрявые локоны, забранные в два хвостика и перевязанные пышными белыми бантами из атласной ленты, развевались на ветру, белоснежный воротник платьица был украшен кружевом, такой же ослепительно белый фартук с широкими воздушными оборками казался то ли раздуваемым парусом, то ли невесомыми крыльями. Я разглядел даже ее ноги в выходных туфельках на едва заметном каблучке и в совсем еще детских ажурных белых носочках. Все это делало девочку-подростка похожей на мотылька или стрекозу. А может быть, уже на гордую чайку? И было такое впечатление, что не мы с Лопаевым удаляемся от берега, а берег с девочкой в белом облаке уплывает прямо в небо…








