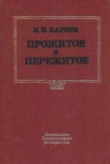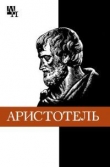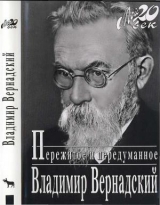
Текст книги "Пережитое и передуманное"
Автор книги: Владимир Вернадский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 22 страниц)
Можно убедиться, что слова и фразы на таких надписях составлялись из разборных отдельных металлических букв; следовательно, были в это время разборные металлические буквы, позволявшие печатать. На это сохранились указания и римских писателей.
Вскоре после открытия книгопечатания гуманисты обратили внимание на некоторые места из Цицерона и Квинтилиана, в которых описывается употребление металлических букв для обучения детей азбуке. Цицерон даже как бы допускает составление из них книг. После прочтения этих мест казалось, что римлянам оставалось сделать один шаг, одно простое соображение для того, чтобы открыть книгопечатание. Ими употреблялись для обучения детей азбуке отдельные формы букв, из которых складывались различные слова. Вырезались таблицы, как и в типографии, – буквы вырезаны в обратном порядке и дают отпечатки слов и фраз на мягком веществе, воске или глине. Один шаг был отсюда до печатания. Но этого шага не было сделано. Штемпели не дали никакого развития, кроме применения в частных печатях и в монетном деле, где на металле издавна отпечатывались отдельные буквы и целые слова.
Гутенбергом был употреблен для типографского дела тот самый пресс – с известными, довольно значительными изменениями, – который употреблялся для штампования монет в монетных дворах.
Таким образом, в результате незаметной работы прошлых поколений в руках человечества уже находились элементы нового дела: подвижные буквы, краска для печатания, пресс. Требовалось только дуновение человеческой мысли, чтобы из этих элементов создать новое дело. Но это была трудная и тяжелая работа. Прошли века, пока она была сделана. Любопытно, что этот последний шаг был почти одновременно сделан в двух местах: на далеком Востоке – в Корее и Японии – и на далеком Западе – в прирейнской области Европы. В обоих местах были известны в общих чертах одни и те же, только что указанные элементы техники, послужившие для выработки книгопечатания. По – видимому, раньше был сделан необходимый шаг на Востоке.
Гутенберг потратил на осуществление своей идеи годы упорной работы, всю свою жизнь. Особенно трудно было изготовление формы букв. Сохранились явные следы многих усилий и неудач, потраченных им на это дело. Буквы истирались, изменялись после первого же отпечатка, т. е. терялось сразу преимущество подвижных букв перед неподвижными резными досками. Они не могли давать много отпечатков, не деформируясь. Задача в этом направлении была решена Гутенбергом только отчасти; лишь его помощник П. Шеффер – в 1450–х гг. – получил необходимый сплав, так называемый типографский металл, или гарт – hart‑blei. Этот металл должен был, с одной стороны, быть легкоплавким, ибо первые типографщики сами лили свои буквы, неизбежно было исправление и выравнивание букв – их легкий ремонт; и в то же время – достаточно твердым, чтобы давать при давлении ясные и точные изображения мелких предметов. Он не должен был быть очень ковок, ибо при этом быстро бы сглаживались все части предметов при давлении, т. е. употреблении шрифта. А между тем в XV столетии были известны только два легкоплавких металла – свинец и олово. Но оба эти металла были в то же время чрезвычайно ковки и мягки. Надо было сделать их твердыми. Это была необыкновенно трудная металлургическая задача для того времени – времени, в котором химия находилась в самом зачаточном состоянии.
Но нельзя упускать из виду, что как раз к этому времени, к середине XV столетия, техника и здесь достигла крупных успехов, подготовленных незаметной работой мастерских в предыдущие столетия, создала новые металлы. Именно к этому времени или немного позже была изобретена в мастерских Нюрнберга латунь лучшего качества, впервые позволившая поставить на широкую ногу технику научных и измерительных инструментов, астрономических аппаратов и произведшая целую революцию в предметах домашнего обихода. В то же время в другой области вошел в дело новый сплав, одна из бронз – артиллерийский металл, способ приготовления которого долго держался в секрете в цехах оружейных мастеров и который получил окончательное развитие или известность в следующем XVI веке. Очевидно, среди ремесленного люда шла в это время горячая экспериментальная работа, и медленно, ощупью, накоплялись знания свойств металлических сплавов.
Какой способ употребил Гутенберг для своих литейных работ – неизвестно, ибо изобретение типографского металла приписывается Шефферу. Он употребил для этого совершенно новый сплав и ввел его в технику: для придания твердости свинцу он сплавил его в известной пропорции с сурьмой. Его открытие было столь удачно, и полученный сплав – гарт – оказался до такой степени подходящим для данной цели, что остался почти без изменения в течение 400 лет, и, в общем, тот же сплав употребляется и в настоящее время. Тот же Шеффер ввел и другое приспособление: буквы уже с самого начала вырезались небольшие, согласно стремлению типографов приблизиться к рукописям. Но все же шрифт Гутенберга был крупный; мелкий шрифт обычного характера – сперва готический – был впервые введен Шеффером. Для этого Шефферу пришлось изменить характер литья форм и в значительной степени изменить всю технику дела. Для литейной формы, почти несомненно, первые печатники, в том числе и Гутенберг, употребляли глиняные или земляные, может быть, гипсовые формы. Но этим путем нельзя было достигнуть тонкой выработки буквы, а вырезать каждую букву из металла представлялось невозможным, ибо для печатания надо было иметь десятки тысяч буквенных форм. Шеффер изобрел резную металлическую – медную – форму для литья гарта и этим путем решил задачу легкого массового производства букв и дал возможность иметь тонкие буквы. Для типографии надо было только знать состав и способ употребления гарта и иметь 40–50 медных формочек для того, чтобы во всяком месте и во всякое время воспроизвести весь свой шрифт.
Решение вопроса о металле, введение станка и краски окончательно решило вопрос о типографском искусстве. Первые типографии были далеки от наших теперешних громоздких и огромных учреждений. Это были в буквальном смысле этого слова кустарные переносные мастерские. Достаточна была очень быстрая выучка, ибо искусство очень скоро выработало простые шаблоны работы, помошь 3–4 человек, известные небольшие знания – способа делания букв, состав сплава, – и ручной типографский пресс. Со своим небольшим скарбом типографы легко переходили с места на место, и в самые же первые годы нам известно много бродячих и летучих типографий. Такие кустарные типографии печатали главным образом летучие листки, небольшие сочинения, брошюры; но иногда они принимали по заказу печатание того или иного сочинения, переезжая в новое место, если в нем получался новый, выгодный заказ. Они появились на ярмарках и, благодаря характеру городской жизни Западной Европы, быстро проникли всюду.
Понятно поэтому, что типографское дело распространилось чрезвычайно быстро. Достаточно было 40–50 лет для того, чтобы типографское искусство и печатная книга проникли всюду в пределах тогдашнего культурного мира. До конца столетия уже создались, кроме первоначального готического, латинский, старославянские шрифты – глаголица и кириллица, а также еврейские печатные шрифты; оказались возможными в этой области различные мелкие усовершенствования.
Таким образом, к началу XVI столетия книгопечатанием был охвачен весь тогдашний культурный мир, и затем с каждым годом все сильнее и сильнее распространялось новое искусство, и все яснее и глубже становилось его влияние на всю умственную жизнь человечества.
Но книги распространялись не только путем открытия местных типографий. Они стали сразу служить предметом торговли, появились на ярмарках, возились далеко. Так, известно, что еще до 1470 г. Париж явился местом, куда сбывались издания Фуста в Майнце. Нюрнберг долгое время был местом, где печатались издания для Польши и т. д. Из писем современников видно, что к началу 1470–х годов Париж, центр тогдашнего образования, был наводнен изданиями разных городов.
До начала XVI столетия было издано до 25–30 тысяч названий книг и брошюр, ныне известных (так называемых инкунабул), т. е. до 15 миллионов экземпляров.
В старинных посвящениях и предисловиях нередко типографское дело называется «святым делом», и его значение встречалось с энтузиазмом.
Из отзывов современников видно, что больше всего их поражали быстрота работы и количество могущих быть выпущенными изданий.
Ученый, епископ Алерийский Иоанн Андреас, в 1468 г. пишет в посвящении Папе Льву II: «Как раз в твое время среди прочих милостей Христа пришел и этот счастливый подарок для христианского мира: за малые деньги теперь и бедняк может приобрести библиотеку».
И действительно, цена книги уменьшилась в несколько десятков раз – из дорогого предмета, почти роскоши, она стала обычным предметом обихода. Трудно оценить все значение этого факта.
То же самое мы видим во всех областях человеческой мысли. Чрезвычайно любопытно проследить те издания, которые явились первыми печатными книгами. Среди них мы, конечно, имеем многочисленные произведения теологов, юристов, медиков, схоластиков, приноровленные к господствующим идеям и воззрениям, но уже в инкунабулы – в произведения XV в. – проникают совершенно другие, чуждые произведения. Издания алхимиков и магиков, религиозные произведения сектантов, отдель – ные сочинения философов и ученых, их переписка, отдельные письма, в которых даются предварительные сведения об их открытиях, постоянно наблюдаются в длинных списках этих произведений. И нередко такие издания сослужили большую службу для сохранения или распространения тех или иных взглядов или идей. Так, например, одним из предшественников Коперниковых идей был кардинал Николай Кузанус (1401–1464), о котором я уже упоминал. Сын немецкого крестьянина, убежденный и горячий деятель Католической церкви, один из оригинальнейших и широчайших умов своего времени. В его трудах мы видим зародыши многих разнообразных идей нашего времени. Он умер в 1464 г., вскоре после открытия книгопечатания; его разнообразные труды были оставлены в рукописях, и им угрожала судьба, общая многим его предшественникам, которые становились известными много позже, когда исчезало всякое живое непосредственное их влияние. Но труды Кузануса избегли этой судьбы. Они были изданы, правда, через 40 лет после его смерти, но много раньше, чем исчезло их прямое влияние. В 1501 году в Риме вышло первое, необычайно ныне редкое их издание. Это было впервые вошедшее в человеческую мысль – после идей древних греков – представление о том, что Земля движется и вокруг оси, и вокруг некоторой точки в пространстве, за которую Кузанус принимал не Солнце, а вокруг особого полюса мира. Высказанная за 40 с лишним лет до издания большого труда Коперника, не раз повторенная в других изданиях сочинений Кузануса, эта – не вполне верная – его идея имеет огромное значение, так как она подготовила почву Копернику. Мы видим всюду в это время влияние этих идей Кузануса, которые были известны и Копернику. Значение трудов Кузануса сказалось и в других областях мысли, и они постоянно цитируются – преимущественно новаторами мысли – в течение всего XVI и XVII столетий. До открытия печатания такие труды совершенно пропадали и гибли бесследно или ждали столетия в пыли одной – двух библиотек.
Не меньшее значение имело изобретение книгопечатания для широкого распространения во всем культурном мире знания, добытого много раньше, но остававшегося уделом немногих ученых. Так, оно сказалось на распространении и укреплении наших индийских (не вполне правильно называемых арабскими) цифр. Значение этой системы обозначения против более обычных раньше римской, греческой или славянской цифровых систем заключается в том, что значение цифры зависит от постановки, от ее места.
В то же время в этой системе впервые вводится нуль (0) – огромный шаг в истории человеческой мысли. Этим необыкновенно упрощаются и улучшаются все вычисления. История наших обычных цифр долгая и далеко не вполне выясненная. По – видимому, в Индии впервые нуль был открыт в IV столетии н. э., может быть, в III столетии, и в течение нескольких столетий в разных местах Индии шло развитие цифровых систем, до сих пор не выясненное. Уже около VII столетия индийские системы проникли в мусульманские государства арабов, причем восточные и западные государства арабских династий взяли различные индийские системы обозначений. Долгое время принимали, что в Европу они проникли через мусульманских ученых, но ряд данных приводит при этом к не вполне выясненным противоречиям, и весьма вероятно, что здесь было непосредственное влияние Индии на неопифагорейцев, причем около II столетия в Александрию проникло индийское обозначение до открытия нуля, без него. Следы его мы имеем в счете так называемыми абакусами (при помощи счетных досок). Но первые указания на знакомство с нулем имеются от начала XII столетия, и с тех пор до второй половины XV столетия мы имеем указания на медленное распространение этой системы обозначения.
В 1471 г. впервые издается одно из сочинений Петрарки с обозначением страниц «арабскими цифрами», в 1482 г. они проникают в счетные книги в печатных изданиях Петценштеднера, и с тех пор победа этого обозначения достигнута. В начале XVI столетия оно становится народным достоянием; это видно по разным изданиям одних и тех же книг: так, первые издания счетных книг Кебеля (1514) дают счет только с римскими цифрами, но в более новых изданиях, в 1520 г., уже выступают наши цифры. То же самое и у Ризо (издание 1518 г. – без цифр, 1522 г. – с арабскими цифрами). С середины XVI столетия они входят в жизнь, в протоколы и т. д.
Можно ясно проследить здесь влияние книгопечатания: то, что не могло распространиться в течение почти 500 лет, распространилось за немногие десятки лет. Там, куда книгопечатание не проникло, например в России, старое обозначение держалось много дольше.
Таким образом, книгопечатание всюду чрезвычайно быстро фиксировало и распространяло идеи, знания, применение их к жизни. По своему характеру оно было чрезвычайно демократическим принципом, придавшим значение личности.
Чрезвычайно быстро оно вошло в жизнь. Так, уже сейчас же в 1460–х годах появились объявления и публикации, которые вошли и в торговлю.
Аналогично влияние книгопечатания на быстрое распространение анатомических знаний. Только этим путем, благодаря рисункам и атласам и их изданиям, быстро распространились и вошли в общее сознание новые методы работы – трупосечение и т. д.
Таким образом, к концу XV в. в европейской жизни окреп и появился новый фактор, который могущественно увеличил силу человеческой личности и мысли и не дал исчезнуть появившимся к этому времени зачаткам нового научного мировоззрения – мировоззрения нашего времени.
Оно проявилось раньше всего в изменении воззрений на форму, размеры и положение земного шара, а следовательно, и человека в мировом порядке.
Памяти M. B. Ломоносова
…Друг, я вижу, что я должен умереть, и спокойно и равнодушно смотрю на смерть; жалею только о том, что не мог я совершить всего того, что предпринял я для пользы отечества, для приращения наук и для славы Академии, и теперь, при конце жизни моей, должен видеть, что все мои полезные намерения исчезнут вместе со мною…
I
4 апреля 1765 г. в Петербурге неожиданно скончался после непродолжительной болезни в полном расцвете сил, в разгаре научной и художественной работы писатель и ученый академик М. В Л омоносов [83]83
Интерес к творческому наследию М. В. Ломоносова никогда не покидал В. И. Вернадского. Он задумал создать обширное монографическое исследование о жизни и деятельности великого ученого. Ряд статей из подготовленных материалов был опубликован в 1911–1912 гг., но в целом замысел остался неосуществленным.
[Закрыть].
Смерть его произвела большое впечатление на современников. В нем ценили знаменитого русского писателя – поэта, своеобразную сильную личность, пробившуюся в первые ряды людей своего века из крестьянской среды архангельского захолустья.
Но едва ли кто тогда думал о нем как о великом ученом.
Ломоносов – поэт стал на грани новой русской литературы.
О том, что он был ученый, забыли.
Об этом вспомнили и загов’орили о его научных трудах через сто лет, когда Академия наук, Московский, Казанский, Харьковский университеты торжественно помянули годовщину его смерти, а Академия наук издала материалы для его биографии.
Но и в 1865 г. его значение не рисовалось в истории научной мысли в таких ярких красках, в каких оно стоит теперь перед нами сорок шесть лет спустя, через 200 лет после его рождения.
Годы идут – и какие годы в истории естествознания! – а фигура старого, недавно забытого русского натуралиста становится перед нами, его потомками, все более яркой, сильной, своеобразной. Из его работ, написанных по – латыни или стильным русским языком древнего мастера, перед нами открываются поразительные прозрения науки нашего времени.
Как это ни странно, но это так. Ряд идей М. В. Ломоносова ближе, яснее и понятнее в начале XX в., чем они были в середине века прошлого.
II
История научных идей никогда не может быть окончательно написана, так как она всегда будет являться отражением современного состояния научного знания в былом человечества. Каждое поколение пишет ее вновь. История биологии, написанная в эпоху Кювье, не может быть похожа на ту, которую даст последователь Дарвина. История физики, набросанная строгим приверженцем эфирной теории света, не будет одинакова с той, какую нарисует современный натуралист, проникнутый идеями о явлениях лучистых истечений. Человечество не только открывает новое, неизвестное, непонятное в окружающей его природе – оно одновременно открывает в своей истории многочисленные забытые проблески понимания отдельными личностями этих, казалось, новых явлений. Движение вперед обусловливается долгой, незаметной и неосознанной подготовительной работой поколений. Достигнув нового и неизвестного, мы всегда с удивлением находим в прошлом предшественников.
III
В первой половине XVIII в. М. В.Ломоносов был таким провозвестником нашего века в области науки о мертвой природе. Физика, химия, минералогия, геология, геофизика, физическая химия были полем его самостоятельной мысли, упорной научной работы.
Научная работа каждого натуралиста слагается: 1) из точного констатирования фактов, 2) из их объяснения – научных идей и 3) из оценки фактов и идей – методики научной работы в широком смысле этого слова.
М. В. Ломоносов всю жизнь упорно работал в области конкретных фактов; отдельные его наблюдения над минералами, опыты электрические и над явлениями замерзания, наблюдения над полярными сияниями или морским льдом и т. д., несомненно, в свое время имели значение и не прошли бесследно. Однако не они заставляют нас сейчас вспоминать Ломоносова. Гений Ломоносова наиболее резко проявился в других областях, в областях научных идей и научной методики.
В отличие от натуралистов своего времени Ломоносов резко порвал со схоластической традицией, охватывающей естествознание первой половины XVIII в. Логику сильного ума он направил к точным фактам, какие сам наблюдал в природе или которые брал от наблюдателей, далеких от школьных предрассудков. Благодаря этому он пришел к современному нам пониманию некоторых областей знания. В работе «О слоях земных» (1763) он дал первое по времени изложение современной геологии, тогда еще не существовавшей. Он исходил в этой работе от представления о единстве процессов во времени, о необходимости объяснять прошлое Земли, исходя из ее настоящего. Эта работа стоит почти одиноко во всем XVIII в., как провозвестник будущего. До середины XIX в. она сохраняла свежесть новизны. Еще резче сказалась сила его гения по отношению к двум областям знания, сложившимся на наших глазах, – геофизике и физической химии. Как геофизик Ломоносов не оценен до сих пор. Его значение в физической химии было понято лишь в конце XIX в., ибо в это время только была создана эта наука. Она является блестящим созданием конца XIX столетия; сейчас она охватывает все области знания, всюду мы сталкиваемся с полем явлений, к ней относимых, – в минералогии, биологии, медицине, технике. А между тем мечты о создании такой науки, попытки ее синтеза среди общего непонимания шли здесь, в Петербурге, в глухое, тяжелое время и в грубой обстановке 1740–1760–х годов. Большая часть относящейся сюда работы Ломоносова осталась в рукописях и не была в свое время напечатана.
Наряду с такой методологической работой Ломоносов сделал ряд научных обобщений, получивших признание и открытых другими много позже его времени. Ему принадлежит первенство в открытии закона постоянства массы (закона Лавуазье). Он явился предшественником Лавуазье в понимании явлений горения. Среди насмешек и непонимания он стоял на почве волнообразной теории света, упорно работал над доказательством идеи, что теплота есть движение. В связи с этим у него мелькали яркие мысли о законе сохранения энергии. Он первым дал правильное толкование явлениям замерзания морской воды. До Вернера, указав на различие возраста минеральных жил, дал правильное объяснение происхождению чернозема, металлоносных россыпей, окаменелостей, землетрясений…
IV
Можно было бы долго перечислять отдельные – крупные и мелкие – идеи нашего времени в миросозерцании и работе великого русского ученого половины XVIII в. Это перечисление не может быть дано здесь, в краткой статье. Оно сделано и сейчас делается русскими натуралистами, по всей Руси сейчас поминающими Ломоносова.
Но вспоминая Ломоносова, нельзя не остановиться еще на одной характерной черте его научной деятельности, сближающей его с нашим веком. Он все время стоял за приложение науки к жизни, он искал в науке сил для улучшения положения человечества. Наряду с философскими обобщениями его все время привлекало прикладное естествознание. Не чуждаясь широких обобщений, он неуклонно имел в виду возможную «пользу», он стоял непрерывно в соприкосновении с жизнью. Это стремление охватывало в XVIII столетии широкие круги натуралистов; в связи с ним стояли многие из изобретателей, изменивших в конце века картину промышленной жизни; оно привело к тому росту техники, который характеризует XIX век.
Для Ломоносова это стремление принимало характерную форму этических положений. Стремясь к истине, он в то же время верил в гуманитарное, человеческое ее значение. Полный жизни и энергии, он сейчас же стремился воплотить эту свою веру в жизнь.
Может быть, именно поэтому, благодаря искренности, активности и цельности его личности, так жив и близок для нас его образ по прошествии двух столетий.