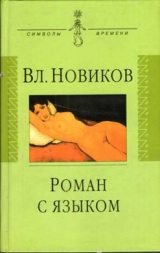
Текст книги "Три эссе"
Автор книги: Владимир Новиков
Жанр:
Критика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 6 страниц)
4. Шпрехен ю франсе?
– Смесь языков?
– Да, двух, без этого нельзя ж.
А.С. Грибоедов, «Горе от ума».
В филологическом романе – от «Евгения Онегина» до «Голубого сала» – актуализируется внутренне присущая романному жанру стихия «разноречия и разноязычия» (выражение М. М. Бахтина). Это только в советской словесности господствовала противоестественная одноязычная диктатура. Уже сейчас довольно комично смотрится фигура писателя, открывающего в процессе путешествия по Германии, что «Адлер» – это «орел», и не стесняющегося с непосредственностью дошкольника выкладывать сие наблюдение читателю. Откровенно говоря, раздражение вызывают набившие оскомину писательские размышлизмы о том, что нам целый мир – чужбина, что «тамошние» люди нас никогда не поймут, – при том, что их авторы ни разу не беседовали ни с кем, кроме опекавших их зарубежных славистов. За этим, как правило, стоит отсутствие не столько способностей языковых, сколько настоящего интереса к жизни и к людям. Такой тип мироотношения и поведения обозначается уже вошедшим во многие языки словом sovok. Впрочем, данный тип писателя неминуемо уходит в прошлое, как и реликтовый тип литературного редактора-нефилолога, не знающего простейших латинских афоризмов и не способного без подсказки написать слово «rendez-vous».
Уже набегающая на современную прозу волна разноязычия несет с собой, однако, скорее ощущение вавилонской путаницы и информационного хаоса, чем богатой и внутренне системной полифонии. Я имею в виду и двуязычные каламбуры Виктора Пелевина типа «тачанка – touch Anka» (слова понятны, если бы еще кто-нибудь и юмор объяснил!), и претенциозно-мертвые словесные гербарии Анастасии Гостевой, и «китайские слова» в «Голубом сале». Функция любого языка – коммуникация (это относится и к творческой «зауми»), стратегия многоязычия – полнота понимания и описания мира. Все начинается с диалога языков – сошлюсь на хрестоматийный пример Набокова, у которого, вспомним, Шарлотта Гейз в русской версии «Лолиты» называется «Гейзихой» (неосознанное «цитирование приема» из Достоевского – в «Униженных и оскорбленных» есть «Смитиха»).
Многоязычный коллаж – конструкция простейшая. Иное дело, когда в контакт вступают языковые менталитеты. Тонко работает с этим материалом не склонная кичиться своим полиглотством Людмила Улицкая: к примеру, в «Медее и ее детях» супружеские отношения Маши и Алика поясняются непередаваемым одной русской лексемой немецким словом «Geschwister» («брат и сестра») – из чужого языка берется не какой-нибудь случайный «Адлер», не внешний знак, а единица смысла. Такие филологические «микроэлементы» – полезная добавка к читательской пище. Остроумна и прозрачна лингвистическая рефлексия в «Довлатове и окрестностях». В филологическом романе, и в романе вообще, этот «процесс пошел», и следить за ним будет интересно.
5. Второе пришествие формалистов
Думаю, очень бы удивился Каверин, узнав, что некоторые персонажи «Скандалиста» семьдесят лет спустя окажутся еще раз выведены и вторично переименованы и сам он вместе с ними явится в романе, название которого будет, так сказать, контрафактурой его «Открытой книги». «Закрытая книга» Андрея Дмитриева – роман с филологическим прологом, можно даже сказать – с филологическим разбегом. Самое начало уже намекает на игровой эксперимент: «Идет он за полночь бульваром Белы Куна. Трещит мороз, едва мигают фонари». Этот «он» идет не только по Псковщине, где родился Каверин и учился в гимназии Тынянов, но и по самой границе стиха и прозы: тут ведь шестистопный ямб, вполне поющийся на мелодию «Когда фонарики качаются ночные…».
Итак, Тынянов здесь назван Плетеневым, Шкловский – Новоржевским, Каверин – Свищовым, а его брат Лев Зильбер предстает как академик Жиль. Немножко смутил слишком уж внешне-эмпирический способ выбора имен. Тынянов, любивший заниматься историей фамилий, до корней своей собственной так и не добрался. Тут он переименован по принципу: «тын – плетень», – ладно, только почему не «Плетнев» – и с необходимым вычетом беглой гласной, и к пушкинской эпохе поближе? В этой эпохе нашел, кстати, свое литературное имя и Каверин, совершенно не помышлявший о кавернах и свищах. Ну, наверное, у Дмитриева установка была такая – на прозаизацию, на приземление. Он ведь не просто переименовывает – он, по сути дела, вступает с формалистами в спор. На место разработанной Шкловским идеи «остранения» («остраннения») здесь подставляется «ослоение»: «Литература в целом и писатель в частности, познавая суть вещей, снимает с нее слой за слоем и вместе с тем, созидая словесную ткань, наслаивает ее – слой за слоем». Любопытная трансформация: авангардный Шкловский, веривший в неисчерпаемые возможности постоянного обновления, обретает двойника-постмодерниста, заявляющего: «Лишь сама игра является выигрышем, и лишь сами свечи стоят свеч…»
И сам сюжет «Закрытой книги» складывается из эпохальных «слоев»: дед – интеллигент дореволюционной закваски, отец – диссидент поневоле, внук – культурный бизнесмен перестроечной эпохи, неизбежно попадающий в скверную историю. Вот за ним уже охотятся киллеры, но роковой выстрел принимает на себя отец, переодевшийся в плащ сына. Поначалу возникает элементарный вопрос: но ведь убийцы все равно будут искать намеченную жертву, однако потом понимаешь – тут конец истории. Не фабульной истории, а всеобщей, согласно Фукуяме.
С меланхоличной историософией Андрея Дмитриева, воплощенной в его добротном, ровном, но довольно тягучем, «автоматизованном» (пользуясь термином Шкловского, «первичного» и подлинного Шкловского) письме, трудно спорить: российская действительность нашего столетия не дает оснований для оптимизма. Но порой думается, что, заглядывая в будущее, стоит все-таки страховаться и на возможность социального прогресса: а ну как сверхновые русские возьмут да приведут страну к процветанию, причем наше мрачное время и созвучная ему мрачновато-эмпиричная литература уйдут в небытие? «Открытая книга» – не бог весть какое оригинальное название, Каверин просто воспользовался общеязыковой метафорой, слишком бесспорной и потому не имеющей антонима. Жизнь может быть только открытой книгой, выражение же «закрытая книга», как мне кажется, можно отнести лишь к замкнутой в себе и в своем времени инерционной словесности.
6. Филологизм без снобизма
Из русских писателей больше всего люблю Гофмана и Стивенсона.
В. Каверин. «Серапионовы братья о себе». – «Литературные записки», 1922, № 2.
А мне сегодня хочется сказать, что из современных русских прозаиков я больше всего люблю Дэвида Лоджа. Несколько слов о том, как дошел я до жизни такой. Весной девяносто третьего года я ехал поездом из Граца в Инсбрук, дорога предстояла довольно длинная. Сначала я разговорился с высокой черноволосой немкой, которая, в очередной раз опровергая расхожее мнение о скрытности западноевропейцев, минут за сорок успела изложить всю повесть своей жизни – незамысловатую, но содержащую немало того, чего не узнаешь из журнала «Иностранная литература». Однако на станции Леобен попутчица вышла, и, чтобы скоротать оставшееся время, пришлось взять в руки «пингвиновский» покет-бук, которым снабдили меня в Граце коллега-высоцковед Хайнрих Пфандль и его жена Ингрид, защитившая диссертацию о творчестве автора покет-бука – Дэвиде Лодже. Книжка называлась «Small World. An Academic Novel»[8]8
Не так легко перевести простое название «академического романа». Некоторые считают, что по-русски оно должно звучать «Мир тесен», хотя, например, французский перевод книги называется «Un tout petit monde», то есть все-таки «Маленький мир».
[Закрыть]. Через несколько минут и страниц я уже забыл, где и с какой целью нахожусь, отрешившись от железнодорожного хронотопа и полностью погрузившись в причудливые отношения англо-американских литературоведов, постоянно летающих с одной международной конференции на другую (conference freak – так называют человека, подверженного этой мании). Как читатель я оказался пойман сразу на несколько крючков: это и авантюрная интрига, и юмористическая эротика, и виртуозное пародирование фрейдизма-марксизма-структурализма-деконструкционизма: Лодж, многолетний профессор Бирмингемского университета, автор нескольких теоретико-литературных книг, знает все эти школы не понаслышке. Вот несколько персонажей начинают бороться за место шефа кафедры литературной критики при ЮНЕСКО – хорошо оплачиваемую международную синекуру. Да, живут же люди… – успеваю вместе с ними подумать и я, не сразу соображая, что это мистификация, что меня просто разыграли, а такой должности не существует в природе. В общем, было над чем посмеяться – это не нынешние отечественные литературные мистификации, которые либо слишком очевидны, либо являют собой несмешные и утомительные ребусы.
Потом я прочитал роман «Changing Places. A Tale of Two Campuses»[9]9
Уже после опубликования данной статьи, в 2000 году, в издательстве «Независимой газеты» вышел русский перевод этого романа (О. Макаровой) под названием «Академический обмен».
[Закрыть] (по отношению к которому «Small World» является «сиквелом»), где встретился с теми же двумя героями – чистосердечным занудой Филипом Своллоу из Англии и цинично-раскрепощенным американцем Морисом Зэппом. Лодж, судя по всему полностью избегает автобиографизма, не подсаживая в сюжет какого-либо alter ego, но образ автора – азартного и ироничного исследователя человеческой природы, носителя всепобеждающего здравого смысла – отчетливо предстает на пересечении всех сюжетных линий, как итог художественного сопоставления разных характеров и типажей. Третий из филологических романов (все вместе они выходили единым «омнибусом») называется «Nice Work» («Хорошенькая работенка») и повествует о трогательной любовной интрижке между университетской профессоршей и заводским менеджером. Там, в частности, замечателен взгляд «технаря» на нашу науку: многое он считает заумным вздором, но вот, скажем, категории метафоры и метонимии признает дельными и полезными (заметим в скобках, что одна из научных монографий Лоджа называется «Способы современного письма. Метафора, метонимия и типология современной литературы»). Так, спрятавшись за «простого» героя, Лодж-литературовед мог отвести душу и оценить новейшие филологические «навороты» с категоричностью, невозможной в научном дискурсе.
Мне не раз казалось, что свободный дух русского формализма, присущая этой веселой науке самоирония, эстетически утонченный вкус не только к текстам, но и к живой жизни каким-то загадочным образом передались бирмингемскому писателю-филологу. Показателен один диалог в «Small World», где Филип Своллоу, вспоминая пережитую им страстную влюбленность, философически обобщает: «Наверное, то, чего мы все ищем, – это желание, не ослабляемое привычкой». Более начитанный Морис Зэпп отвечает: «У русских формалистов было для этого слово… Ostranenie…», после чего цитирует Шкловского в английском переводе: «Искусство существует для того, чтобы помочь нам восстановить ощущение жизни». Американец здесь более прав, чем многие из наших соотечественников: искусство для русских формалистов не было самоцельной «игрой».
Признаюсь также, что в моей читательской жизни последних лет Лодж сыграл роль своеобразного энергетического спонсора. Ведь, честно говоря, чтение «по мандату долга» российской толстожурнальной прозы – занятие энергоемкое, оно забирает сил во много раз больше, чем возвращает потом. Покрывать этот энергетический дисбаланс приходится за счет иных читательских источников, и найти их бывает не так легко, особенно тем, у кого аллергия на Маринину и прочее чтиво. А вот есть же, хоть и за морем, авторы, умеющие писать и для филологов, и для нормальных людей одновременно! «Small World» и «Nice Work» в разное время входили в шорт-лист Букера (британского, естественно) – и вместе с тем по этим двум романам были поставлены телевизионные сериалы. Что же надо сделать в России, чтобы создать такую же эффективную литературную технологию?
Лодж не боится пользоваться откровенно беллетристическими приемами, поданными порой под знаком иронии, а иногда – под знаком скрашенной юмором сентиментальности. Принципы беллетризма как такового пародийно обрисованы в одном из эпизодов «Changing Places», когда высокоумный Морис Зэпп случайно открывает несолидную книжечку под названием «Let's Write а Novel» («Давайте напишем роман»), принадлежащую перу некоего Бимиша. Далее следуют цитаты (по-видимому, они являются плодом очередной мистификации Лоджа). «Каждый роман должен рассказывать историю» – таков основной постулат учебника романистики. Затем истории подразделяются на те, что заканчиваются счастливо, те, что заканчиваются несчастливо, и те, что не заканчиваются никак. Лучшей разновидностью признается история со счастливым концом, далее по иерархии следует история с несчастливым концом, а худший вид – история, совсем не имеющая конца. Эта категорическая классификация смотрится здесь тем смешнее, что «Changing Places» завершится потом открытым финалом, то есть финалом худшего, третьего сорта.
Но шутки шутками, а невольно задумываешься о том, что беллетристическое письмо – это необходимый техминимум всякой литературы. Прозаики, мнящие себя «элитарными», но при этом не умеющие «рассказать историю» так, чтобы не усыпить читателя на второй или третьей странице, стоят не выше, а ниже беллетристики. И кому как не писателям-филологам знать из исторического опыта мировой словесности, что высокая литература не размножается делением, что новая «элита» всякий раз вырастает из «младших жанров», из того, что вчера считалось «не литературой»! По-настоящему филологичная проза свободна от снобизма, внутренне демократична, готова открывать и использовать любые источники новой эстетической энергии.
Сочетание «филологический роман», наверное, не станет ходовым наименованием, а сам жанр, о котором у нас шла речь, и дальше будет существовать главным образом негласно, не кичась ученостью и культурностью, представая, быть может, в скромных одежках биографического исследования или мемуаров, романа приключенческого или женского, книги утилитарной или просветительской, – если внутри текста есть животворящий филологизм, то не так уж важно, чтобы он был кем-то отмечен особо. Место филологического романа – на самой границе слова и жизни, оно по определению не может быть слишком престижным и уютным, но зато интересные и неожиданные встречи здесь гарантированы на много лет вперед.
1999








