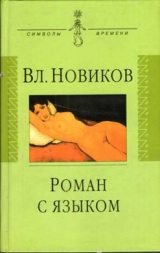
Текст книги "Три эссе"
Автор книги: Владимир Новиков
Жанр:
Критика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 6 страниц)
Владимир Новиков
Три эссе
Pro domo sua
Родился в 1948 году в Омске. Выбор профессии был во многом определен семейной традицией. Отец, историк, работавший в педагогическом институте, окончил перед уходом на фронт Московский Институт философии, литературы и истории (ИФЛИ). Мать, учительница русского языка и литературы, была выпускницей Ленинградского Герценовского института.
Лет с пяти я сделался рьяным чтецом. Первыми книжками были иллюстрированные издания «Горя от ума» и «Ревизора», потом принялся за полные собрания – от Пушкина до Чехова. «Огоньковские» многотомники Бальзака и Стендаля прочел намного раньше, чем Дюма и Конан-Дойла. Рано стал следить и за современной словесностью – журнал «Юность», например, отчетливо помню с момента основания, то есть с моего первого класса, примерно в то же время начал заглядывать и в приходившую домой «Литературную газету». Травлю Пастернака в свои десять лет воспринимал достаточно осознанно, хотя выражение «положа руку на сердце» из вынужденно-покаянного письма поэта понимал буквально, представляя человека, от боли прикрывшего сердце ладонью. Пятью годами позже переживал за Солженицына, когда «Одному дню Ивана Денисовича» не дали советской премии. А за процессом Синявского и Даниэля следил уже в Москве, поступив летом 1965 года на филологический факультет МГУ. Наш курс оказался последним выпуском, закончившим обучение в старом здании на Моховой. Здесь, в Большой Коммунистической (теперь – Большой Академической) аудитории, впервые увидел Булата Окуджаву, отважно ответившего на записку по актуальному поводу «Я против уголовного суда над писателями».
Теперь, треть века спустя, я прихожу в тот же старинный дом с колоннами как профессор кафедры литературно-художественной критики факультета журналистики, всякий раз радуясь тому, что наш факультет остался здесь, напротив Кремля и Манежа. От этой точки удобнее вести отсчет и времени, и пространства: вектор Воздвиженки устремлен в вечность, и далекий холм Монмартра на этой оси соседствует с Крылатским холмами, на которых я живу. Дух столичности: московский, питерский, парижский – отвечает моему вкусу и темпераменту, все же попытки компромисса с духовным провинциализмом оказались тщетными.
Филфак второй половины шестидесятых годов был подвержен неизбежным политическим деформациям, тем не менее там можно было обрести стойкие навыки филологизма. Четыре года я занимался теорией литературы и Достоевским в семинаре профессора Г.Н.Поспелова, беспартийного марксиста, скорее даже гегельянца, (не подписавшего, кстати, письма против Синявского и Даниэля), который нередко начинал разговор словами «в нашем бюрократизованном государстве», и требовал от нас читать Евангелие как необходимый источник для комментария к «Братьям Карамазовым». Детерминистскую схему Поспелова я вскоре отверг, но она по-своему оказалась полезной – как та фольклорная «мертвая вода», которой сбрызгивают доброго молодца на первом этапе воскрешения: я понял, что нужна системная ясность, не переходящая в схоластику, и научность, не убивающая артистизм. Живой же водой для меня стал Тынянов, освоить которого, однако, удалось только с годами. Постигая Тынянова, пытаясь его продолжить, а порой уточнить или оспорить, занимался я наукой, соискав на этом пути кандидатскую (1980) и докторскую (1992) ученые степени.
Работа и «служба» – понятия не совсем тождественные. Служить мне доводилось в разных литературных и научных конторах, а вот мест работы по-настоящему было только два: письменный стол дома и вузовская кафедра. Начав преподавать на факультете журналистики МГУ, я затем на пять лет попал в Литературный институт имени Горького. Университет и Литинститут – два совершенно разных типа культуры. Встречаясь еще в молодые годы с литинститутскими выпускниками, я с удивлением отмечал, как они не похожи на нас: не знают латыни, пьют много водки и без малейшей иронии говорят о собственной «гениальности». Заходя с Тверского бульвара во двор творческого вуза, я всякий раз чувствовал, что здесь кончается столица и начинается провинция со своими локальными ценностями и авторитетами. Работая в Литинституте, в том числе два года в качестве проректора, я предпринял кое-какие попытки проветрить помещение: учинил в 1991 году большую конференцию «Постмодернизм и мы», потом организовал клуб «Постмодерн», но все это было всуе. Несколько лет спустя я прочитал газетное интервью одного неброского прозаика, который с теплотой говорил о Литинституте как «островке провинции» в Москве – в положительном смысле. А я-то именно с этой провинциальностью пытался бороться! С тех пор не хожу в чужие монастыри со своим уставом.
Доводилось преподавать и за рубежом. Особенно дорогие воспоминания связаны у меня с Цюрихом, где в 1991 году я провел семестр, читая курс «Смех в русской литературе», ведя семинары о Достоевском и о русской новеллистике, с Венской школой поэзии 1993 года, с французским городом Экс-ан-Прованс, где весной 1999 года предметом одного моего курса был Пушкин, а другого – Окуджава, Высоцкий и Галич. Ездил с лекциями по Германии: Ольденбург, Бремен, Бохум, Гамбург, Мюнхен. Выступал в Сорбонне и в парижском Институте восточных языков, в американских университетах Стэнфорда и Лос-Анджелеса, в аудиториях Норвегии и Швеции. Бывал на научных конференциях в Англии, Израиле, Польше. Мои единомышленники во Франции – Леон Робель (общая почва – авангард и поэзия Геннадия Айги), Мишель Окутюрье (вкус к новаторству) и Марк Вайнштайн (тоже тыняновец), в Германии – Райнер Грюбель («филологической наивность» и вера в здравый смысл), по-своему – и Игорь Смирнов с его филологическим «дэндизмом».
Если же говорить о научных единомышленниках в отечестве, то в первую очередь должен назвать Михаила Викторовича Панова, живой диалог с которым, начавшийся в 1975 году, считаю одной из главных удач своей жизни. Большую роль в моей судьбе сыграли встречи и совместная работа с И.Кавериным. С ним и с его женой Лидией Николаевной Тыняновой мы (то есть Ольга Новикова и я) познакомились в 1980 году. Результатом общения стали наша с О.Новиковой книга «В.Каверин. Критический очерк» (1986), а также монография «Новое зрение. Книга о Юрии Тынянове» (1988), где Каверин и я написали в раздельном соавторстве примерно поровну; мне принадлежат главы о научном наследии Тынянова. Каверин всегда считал Тынянова своим учителем и в какой-то степени посвятил меня в тыняновские ученики.
Что еще успел я сделать за письменным столом? Главным своим научным трудом считаю большую «Книгу о пародии» (1989). В 1991 году вышла книга «Писатель Владимир Высоцкий», где я поставил перед собой задачу вписать нестандартное творчество великого барда в историко-литературный контекст, дать философско-эстетическую интерпретацию всей совокупности песен поэта. Участвовал (совместно с Андреем Крыловым) и в подготовке книжных изданий Высоцкого. Сегодня высоцковедение бурно развивается вширь и вглубь, что очень радует меня как одного из пионеров этой молодой филологической отрасли. После выхода подготовленной мной учебной антологии-монографии «Авторская песня» (1997, 2000) я задумал большое академическое исследование «Окуджава – Высоцкий – Галич. Поэзия и время», над которым предстоит еще немало потрудиться.
Филология не просто наука, она не отделена от своего предмета резкой границей, а любовь к слову может выражаться не только в его исследовании, но и в творческом владении им. Отсюда – такой промежуточный жанр двадцатого века, как филологический роман, лучшие образцы которого явили у нас Тынянов, Каверин и Битов, а за рубежом – англичанин Дэвид Додж, исключительно остроумный писатель, в прошлом профессор и теоретик литературы. Вдохновляясь этой традицией, я в 1997 году принялся за вымышленное повествование «Сентиментальный дискурс», последние поправки в который внес в ночь с 1999 на 2000 год. Жанр этого сочинения я определил как «роман с языком», а героя сделал лингвистом. Фабула здесь переплетена с филологической рефлексией, и для меня самого эта вещь неотделима от моих ранее написанных литературоведческих книг. «Я думаю, что беллетристика на историческом материале теперь скоро вся пройдет, и будет беллетристика на теории. У нас наступает теоретическое время» – эти слова Тынянова из письма Шкловскому постоянно вспоминались мне в процессе работы. Когда я закончил первый в своей литературной практике роман, возник вопрос: что с ним делать? В памяти всплыли строки: «Ступай же к невским берегам, новорожденное творенье…», после чего я положил рукопись в большой конверт, вывел на нем адрес петербургского журнала «Звезда» и имя одного из соредакторов Андрея Арьева. Вскоре роман был напечатан в двух номерах «Звезды» (№№ 7–8, 2000).
С середины семидесятых годов занимаюсь литературной критикой, регулярно печатаясь в разнообразных периодических изданиях. На основе таких публикаций выпустил два авторских сборника: «Диалог» (1986) и «Заскок. Эссе, пародии, размышления критика» (1997). В 1997 году стал одним из учредителей академии критики, получившей, к сожалению, неточное и громоздкое название «Академия русской современной словесности (АРСС)». В семидесятые-восьмидесятые годы главным критерием оценки для меня была степень эстетической новизны и оригинальности произведений, политическую прогрессивность считал фактором второстепенным. В девяностые годы, когда эстетизм стал общим местом, а «эстетная» с виду словесность сделалась дохлой и скучной, считаю своим первейшим долгом защиту интересов нормального читателя, выпавшего из нынешнего литературного процесса. «Алексия» (т. е. неспособность к чтению) – так назывался цикл моих эссе в «Независимой газете» в 1992 году. Увы, этот недуг оказался затяжным, и сегодня «жить не по лжи» для литературного критика – значит говорить правду о произведениях, непригодных для чтения.
При этом я отнюдь не сторонник облегченности и общедоступности. Мои поэты – непонятные пока для многих Геннадий Айги и Виктор Соснора, раньше всех заговорившие на русском языке двадцать первого века. По сравнению с ними Бродский, например, мне представляется поэтом слишком элементарным, не очень решительным в обращении со словом. Свой трезвый взгляд на Бродского, а также еще на двух временных кумиров – Венедикта Ерофеева и Николая Рубцова – я развернул в триптихе «Три стакана терцовки»: самый жанр такого откровенно-гиперболичного, сугубо «авторского» эссе назван в честь Абрама Терца. С А.Д. Синявским и М.В. Розановой я познакомился в Париже в 1988 году и был дружен несколько лет, ряд принципиальных для меня эссе печатался в их «Синтаксисе».
Отнюдь не будучи добряком, я тем не менее высоко ценю многих современных писателей. Среди «положительных героев» моих статей последнего времени – А.Солженицын и В.Богомолов, Андрей Битов и Валерий Попов, Юнна Мориц и Александр Еременко, Владимир Сорокин и Антон Уткин. Писатели очень разные, и у каждого есть стилевая динамика, сопряженная с силой авторской личности. Однако главное для меня – не «раздача слонов», не расстановка плюсов и минусов рядом с писательскими именами. Я занимаюсь критикой не описательно-хроникальной, не эмпирической, а стратегической, стремлюсь ставить на остросовременном материале теоретико-литературные и общеэстетические вопросы. Моя мечта – написать свою теорию литературы, но из опыта предшественников я хорошо знаю, что новое теоретическое озарение приходит только одновременно с мощным рывком художественной практики. С этой точки зрения миновавшие девяностые годы были не самым благоприятным временем: «живые классики» в основном стояли на месте, а большинству новых авторов фатально не хватало новизны. Одну из статей 1995 года я закончил грустной эпиграммой на современную словесность в целом:
Всюду дутые фигуры.
Что ни опус – дежа-вю.
До живой литературы
Доживу, не доживу?
Надеюсь все-таки не только дожить, но и принять участие в ее строительстве.
31 декабря 2000
Ноблесс оближ
О нашем речевом поведении
1
… И все-таки мы продолжаем говорить и писать, продолжаем вести себя – хотя и неизвестно куда. О том, как мы это делаем, и пойдет речь. В самых разных аспектах – от фонетического и грамматического до этического и политического.
Меньше всего хотелось бы, чтобы это как приобрело оттенок нормативности или императивности. «Говорите правильно, пишите грамотно и будьте взаимно вежливы», – ради такого убогого призыва не стоит даже брать в руки перо или компьютерную «мышь». «Все говорят, что здоровье дороже всего; но никто этого не соблюдает», – заметил Козьма Прутков. Действительно, все нормы – гигиенические, орфоэпические, моральные – не столько соблюдаются, сколько нарушаются. Поэтому интересно не провозглашать заповеди в очередной раз, а наблюдать их позитивно-негативное бытование.
А уж если позволить себе категоричность, то только в одном тезисе: никто никого не имеет права поучать. Нет большего бескультурья, чем поправлять собеседника во время разговора. Нет большей пошлости, чем кичиться своими речевыми манерами и возвышаться над теми, кто говорит иначе (к сожалению, таким занудным высокомерием отмечены книги иных отечественных языковедов на темы «культуры речи»). Не могу удержаться от примеров «из жизни». Много лет назад в одной компании кто-то завел речь о кедрОвых орехах. Молодая филологиня перебила говорящего: «кЕдровых». Я был абсолютно убежден, что она не права, но промолчал, хотя, наверное, следовало бы защитить невинно обиженного. Дома сверился с Аванесовым и Ожеговым: конечно же, «кедрОвых» – и только так. Вышеозначенная дама навсегда обрела в моей памяти ярлычок «хамка», и когда я увидел в книжном магазине выпущенную ею монографию на какую-то экзотическую тему – даже не захотелось открыть ее и полистать: такому филологу я доверять не могу. Но сколько раз потом мне доводилось сталкиваться с аналогичной ситуацией в научно-педагогическом и редакционно-издательском быту. «Это не по-русски», «так нельзя писать», – любят выдать некоторые совершенно «от фонаря», а потом, уличенные в неправоте и некомпетентности, даже пардону не попросят.
Припоминаю, как журналисты третировали М.С. Горбачева за словечко «мЫшление». И тоже несправедливо! «нАчать», «Азебарджан» – действительно ошибки, но «мЫшление» – это устаревающий и тем не менее допустимый вариант. Полагаю, Горбачев мог слышать его от университетских философов и усвоить в студенческие годы вместе с некоторыми навыками свободного мышления (уже все равно с каким ударением, семантика важнее!). Кстати, в знаменитом фильме Михаила Ромма «Девять дней одного года» эта языковая красочка была удачно использована в сцене спора двух физиков. «Узость мышлЕния!» – восклицал персонаж Михаила Козакова, мечтавший о полетах в дальние галактики. «Нет, трезвость мышления!» – отвечал ему герой Евгения Евстигнеева, более реально глядевший на вещи. Тут речь уже не о правилах, а о стилях произношения.
Вообще за «правильность» нередко ратуют те, кто не очень обременен знанием «истории вопроса». Пуристы (от «purus» – «чистый») – это не то чтобы самые чистые люди, это критически настроенные по отношению к другим (не к себе) чистоплюи. Они не подметают улицу, а борются со срывщиками кампании по борьбе за подметание. Вот только что услышал двух таких неистовых ревнителей. Звонят они в прямой эфир радиостанции «Эхо Москвы» и стучат Алексею Венедиктову с Сергеем Бунтманом на работающих там журналистов: дескать, Андрей Черкизов незаконно употребляет несуществующее деепричастие «пиша», а Лев Гулько искажает французский язык, говоря вместо «тет-а-тет» – «тет на тет». К чести лидеров «Эха», они достойно защищают в подобных случаях и своих товарищей, и здравый смысл, деликатно разъясняя лишенным чувства юмора пуристам, что в живой разговорной речи подобные вещи вполне допустимы. К слову сказать, «Эхо Москвы» едва ли не первым сменило институт бездушного дикторства с размеренно-дистиллированным казенным «вещанием» (вызывающим у некоторых непонятную мне ностальгию) на естественный человеческий разговор ведущих со слушателями. Есть здесь, впрочем, и просветительская передача «Говорим по-русски», где Ольга Северская и Марина Королева в игровой, веселой форме рассказывают о языковых нормах, неизменно подчеркивая вариативность и плюрализм многих из них.
Как ни странно, свобода в выборе из двух равноправных вариантов для многих оказывается излишней роскошью. Людям непременно хочется объявить «свой» вариант единственно верным. На этой почве порой вырастают мифы, получающие широкое распространение. Зарубежный коллега на одной конференции признался, что привык считать интеллигентными людьми тех русских, что произносят «одноврЕменно», а не «одновремЕнно». Но это все равно что, признавая интеллигентами, к примеру, бородатых мужчин, безбородым в интеллигентности отказывать, или наоборот. Один из признаков «образованщины» (если уж пользоваться этим небесспорным термином) – этакая самодовольно-снисходительная усмешка при осознании своего орфоэпического превосходства. Но зачем нужна «культура речи», если она становится языковым барьером, препятствует контакту и взаимопониманию? Даже когда собеседники находятся в отношениях воспитателя и воспитуемого, педагогу стоит не перебивать и не поправлять собеседника, а выслушать его по сути и высказать свои замечания потом, во вторую очередь. Все-таки главная функция языка – коммуникативная.
Все, что происходит в языке, с языком, сначала должно быть понято и проанализировано и лишь потом – оценено. Снобизм уводит от истины и филолога, и писателя. Немало любопытных мыслей и фактов на этот счет содержится в вышедшей недавно и считающейся на Западе «лингвистическим бестселлером» книге Стивена Пинкера «Языковой инстинкт». Приведу один пример, достаточно наглядный и для русского глаза. Сравнивая «стандартный американский английский» с «черным английским» (Black English), на котором говорят в Гарлеме, Пинкер отмечает, что «есть сферы, где «черный английский» точнее, чем «стандартный английский». He be working означает, что некто вообще работает, что у него, может быть, есть постоянное занятие. He working означает только, что он работает в тот момент, когда произносится фраза. В «стандартном английском американском» Не is working не может передать этого различия»[1]1
Pinker S. The Language Instinct. The New Science of Language and Mind. Penguin Books, 1995. P. 30.
[Закрыть].
Давайте и мы попробуем полюбить носителей нашего родного языка и «беленькими», и «черненькими»! А уж потом соберемся в своем «беленьком» кругу и поговорим по самому строгому (к самим себе) счету.
2
Ужасно крамольную мысль хочу сейчас высказать: меня совершенно не беспокоит косноязычие наших властителей. Более того, дежурные сарказмы по поводу очередных правительственных перлов кажутся уже порой проявлением истерического бессилия мыслящей части общества. Неужели непонятно, что эти комариные укусы только потешают адресатов наших смелых инвектив? Филологические обвинения – самые безопасные из всех возможных. И вот уже телевизионные «Куклы» теряют былую остроту: престарелый персонаж с постоянным «понимаешь» – это прямо-таки очередной дед Щукарь, простой, трогательно-народный и, конечно, без малейшего коварства. То же и его свита. Но маски ведь бывают не только пластические, но и речевые. И их весьма неглупые носители умеют приватизировать и перевести на счета родственников пару-тройку миллиардов (или хотя бы миллионов), а потом не без тонкого расчета придуряться, неся публично безграмотную невнятицу, чтобы снисходительные сограждане отвели душу и посмеялись: ну, какие там миллионы-миллиарды могут быть у такого недотепы!
И мы простодушно клюем на «обманку», меряя все на филологический аршин и по-прежнему полагая, что «в начале было Слово». Между тем в сфере житейской и хозяйственной прагматики гораздо уместнее выдвинутая у Гёте Фаустом позитивистская формула: «В начале было Дело». Если бы у наших правителей хватило совести не бомбить нефтепровод, чтобы потом не приниматься за его восстановление, – то пусть бы произносили «нефтепровод», мы бы им это простили. Если вдруг найдется государственный муж, который справится с бедностью и обнищанием народа, – то пусть себе неправильно ударяет «обеспечЕние»: поверьте, обеспеченные нормальной зарплатой и пенсией, мы просто не услышим, не заметим орфоэпического огреха.
Сама по себе речевая культура ничего не гарантирует: и Ленин, и многие члены большевистского правительства отлично владели русским устным и русским письменным. Нет, здесь не годится тоталитарный принцип: мол, кто говорит правильно и красиво – тот наш, а кто запинается, оговаривается, путается в словах и формах – тот нам не подходит. Предлагаю дифференцированный подход: будем терпимы к слабостям тех, для кого устная и письменная речь не является профессией, у кого есть какое-то дело помимо слова, – и одновременно будем предельно строги к тем, кто работает только языком (то есть к нашему брату филологу, литератору, журналисту). Предупреждаю, что много буду уделять внимания «мелочам», но убежден, что именно с них начинаются большие беды нашей словесности.
Богатый лингвистический материал дают телевизионные ток-шоу – сам термин в наших целях можно немножко переосмыслить: подобные передачи могут наглядно показать (show), кто и как умеет разговаривать (talk). В прежние времена (особенно в брежневские) литераторы выступали на телевидении во много-много раз чаще, чем теперь. Но что это были за выступления! На экране бубнили свой заранее заготовленный текст скованные и перепуганные, «зажатые» (как говорят в театре) субъекты. А наличие «зажима» в кадре – это брак, что всегда понимали телевизионщики и очень редко – наши с вами коллеги. Приведу единственный известный мне случай самокритичного отказа от съемки. В начале 80-х годов телевизионный редактор, с которой (да, приходится говорить и писать: «редактор, с которой», – а какой вариант вы предложите взамен?) мы делали передачи о Каверине и Шкловском, рассказала: пришел к ним сниматься Юрий Селезнев, руководитель серии «ЖЗЛ», старательно добивавшийся, чтобы в каждой книге было что-нибудь против «масонов» и сам написавший очень серый том о Достоевском. Проговорив перед камерой несколько минут, борец с масонством почувствовал, что получается плохо, встал и, не сказав ни «извините», ни «до свидания», навсегда удалился из «Останкина» (позвольте уж мне по-старинному склонять наши топонимы: душа не принимает формы «из «Останкино»», и статью эту я намереваюсь привезти в редакцию из Переделкина, но ни в коем случае не «из Переделкино»!).
Сейчас персональные писательские программы на ТВ не в ходу. Регулярно лишь «сладкоголосая птица нашей юности», гений пошлости Эдвард Радзинский произносит свои бесконечные монологи, удачно избегая идейных крайностей. Если же говорить о явлении писателя народу, об участии литератора в массовых «акциях», то тут есть интересный, он же единственный, случай – Мария Арбатова в «женском» ток-шоу «Я сама». Несколько передач этого цикла показались мне крайне занятными с речевой точки зрения. Так называемые «простые» люди отлично владеют языком. Своим языком. Не вдаваясь в метафизические прения, не щеголяя престижными именами, терминами и цитатами, старые и молодые участники обоего пола ясно и четко выражают свои взгляды (как правило, не навязывая их другим), коротко, без «эпического» занудства умеют рассказать свои семейно-любовные истории, находя для весьма интимных реалий вполне пристойные и в то же время не чопорно-ханжеские лексико-стилистические эквиваленты. Да и писательница-феминистка, когда она говорит «по-простому», отлично вписывается в демократичный ансамбль. Она даже может сбросить идейные цепи и совсем не «по-феминистически», а по-нашему, в духе нормальной коммунально-советской логики отчитать молодую женщину, соблазнившую семидесятилетнего профессора «ради карьеры и квартиры». Не вижу беды в такой милой непосредственности, поскольку для живого контакта лучше, чтобы все говорили на одном языке! Но вот Арбатова вспоминает о своей роли «эксперта» по феминизму и о своем писательском сане. Сразу пошли громоздкие синтаксические конструкции, пространные поучения, обрывы мысли, в которые – почти в каждой фразе – вставляется спасительное «как бы». «Как бы» – словечко-паразит, обитающее исключительно в интеллигентских языковых организмах. Это вам не простонародное «бля» («блин»), но функция у него, должен заметить, та же самая (и, конечно же, тождественная пресловутому «понимаешь»).
3
Частица КАК БЫ требует, однако, отдельного разговора, причем в комплекте с неопределенным местоимением НЕКИЙ. КАК БЫ и НЕКИЙ – это как бы некие символы нашей культурной эпохи. От современного литератора вполне можно услышать сообщение: «Я как бы написал некий текст». Причем говорящий подобным образом, конечно же, понимает, какие слова в этой фразе лишние. Он мог бы сказать просто: «Я написал текст», – но почему-то боится. Наше время не любит решительных глаголов и оценочно-выразительных эпитетов. Мы как бы живем некоей жизнью.
Было бы крайне наивно призывать к избавлению от этих лишних и заведомо бессмысленных слов. Ну, не хотят люди твердости и определенности в своей речи – дело хозяйское. Они же только свою личную речь засоряют, не вписывают в Пушкина: «Я как бы помню некое мгновенье…» А может быть, в языке нашем просто не хватает неопределенных артиклей и «некий» – эквивалент англо-франко-немецких «а», «un», «ein»? Правда, нельзя забывать, что тут имеется и легкая негативная коннотация: «некий писатель», «некий критик» обычно произносят с неприязнью. В «Чукоккале» есть составленный Э. Казакевичем иерархический перечень эпитетов к слову «писатель»: на первом месте «величайший», а в самом низу Б. Заходером добавлено «некий». Такая «табель о рангах» сформировалась в годы проработок, и с тех пор никому не было по вкусу, когда его фамилию сопровождали подобным определением. Но так или иначе, с годами популярно-заразные пустые словечки из языка уйдут, уступив место новым вирусам и инфекциям, которые для «великого и могучего» хотя и неприятны, но, конечно же, не смертельны.
Однако пресловутое КАК БЫ имеет и экстралингвистический смысл. Это знак на глазах устаревающей модернистской моды, когда никакое фабульное событие нельзя воспринимать наивно-реалистически, все происходит понарошку, как бы происходит. Своеобразной реакцией на засилье заведомо условных сюжетов стала мемуарно-автобиографическая тенденция («о том, что было»), но она вытянуть литературу не в состоянии. Самым отчаянным новаторством сегодня, по-моему, стало бы создание такого сюжета, который держится на иллюзии подлинности («не было, но могло быть»). Естественно, что для этого понадобится и качественно новый, непривычный и в то же время органичный язык.
С этой точки зрения мне все же представляется достаточно худосочной и устаревающей творческая тенденция, явленная в нашумевшем романе Виктора Пелевина «Чапаев и Пустота». Двуплановость повествования не создает «третьего измерения», поскольку, на мой вкус, оба плана (Петр с Чапаевым и Петр в сумасшедшем доме) слишком вторичны и умозрительны. Несмотря на все декларации автора по поводу «буддизма», я вижу здесь вполне европоцентристский литературный штамп: в сумасшедшем доме слишком много времени провел и романтизм прошлого века, и модернизм века нынешнего, эта почва уже безнадежно истощена.
Изо всех сил старался вслед за Ириной Роднянской («Новый мир», 1996, № 9) отыскать в сухом, бумажном пелевинском тексте и «отвращение от жизни», и «к ней безумную любовь», но не получилось, и я скорее солидаризуюсь с Александром Архангельским, считающим, что у Пелевина нет языка («Дружба народов», 1997, № 5). Пресловутая «пустота» только декларируется в нудных диалогах Чапаева, Петра и Котовского, для нее не найдено ни образно-композиционного, ни словесного эквивалента. Сравните речевую ткань Пелевина с языком детективов и НФ в глянцево-цветных переплетах – никакой качественной разницы. Пелевин сегодня – едва ли не самый успешный писатель (существует такая уродливая и, надеюсь, недолговечная калька с английского), по его успех – это поражение русского языка.
Не могу «для баланса» не привести пример из противоположного литературного лагеря: вот роман Владимира Курносенко «Евпатий», тоже двуплановый, тоже квазиисторический. Автор работает и древнерусскими, и тюркскими языковыми красками, но, к сожалению, большого петуха пускает, ведя рассказ на современном русском. Одна только фраза: «С осторожностью он засунул тетрадь в пакет, с которого с охальным естеством гениальной женщины скалила зубы со щербиной Алла Пугачева». Это по каким же стилистическим законам можно допустить в недлинной фразе скопление четырех предлогов «с»! (Один, правда, заменен на «со» – и это элементарная ошибка: правильно не «со щербиной», а «с щербиной» – и только так!) Извините, я обещал не заниматься поучениями, но авторы иных «чистых и сильных романов» (так аттестован «Евпатий» в журнале «Москва» Валентином Курбатовым) нуждаются в повторении азов школьной грамматики.
Пожалуй, не найти сегодня литератора, который бы не разделял (теоретически) положения о первостепенной важности языка. Но и здесь, как слишком часто бывает в России, «кричащее» противоречие между теорией и практикой.
4
«Нас опустили», – можно услышать сегодня из уст профессиональных литераторов, драматически переживающих снижение своего социального и материального статуса. Мне не очень нравится такая лексико-стилистическая форма высказывания: едва ли стоит прибегать в разговоре на социокультурную тему к лагерному жаргону, да еще с намеком на весьма низменные сексуальные реалии. Но – давайте по содержанию, по сути.
Для начала переведем конструкцию из неопределенно-личной в личную: кто опустил? Тот, кто когда-то поднял, – то есть пресловутая Софья Власьевна, содержавшая армию писателей, где только дивизия профессиональных поэтов насчитывала более двух тысяч человек? Да нет же, та власть почила в бозе, а теперешняя – Капитолина Власьевна (так, наверное, можно окрестить наше руководство эпохи дикого капитализма – тем более, что у нее те же самые партноменклатурные предки) – литературным бытом не занимается. Нынешнюю ситуацию диктует сама жизнь, считающая, что писатель – это тот, у кого есть читатели. Писателей попроще, нормальных беллетристов, читатель кормит прижизненно, а писателей посложнее – читают и почитают уже по прошествии ими их первой и короткой земной жизни. Таков нормальный, естественный порядок, такова объективная, вечная иерархия, и опустить никто никого никуда не может.








