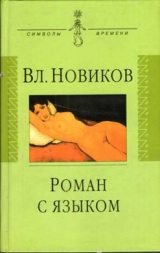
Текст книги "Три эссе"
Автор книги: Владимир Новиков
Жанр:
Критика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)
А вот сами опуститься мы очень даже в состоянии. Ведь по своей доброй воле, скажем, сочиняет для «Мегаполис-Экспресса» Зуфар Гареев грязные квазиэротические фельетоны (заглянув туда пару раз, решительно замечу: Генри Миллером или даже Чарльзом Буковски там отнюдь не пахнет, а пахнет совсем другим). Не под угрозой расстрела идут приличные прозаики в «негры» к «раскрученным» детективщикам и пишут за них, стараясь делать это попримитивнее и побескультурнее. Никого не осуждаю персонально, но отдавать себе отчет в действиях безусловно вредных для культуры и для читателя литературное сообщество как целое, как единый организм все-таки должно. Когда за грязную работу платят в сто раз больше, чем за чистую, когда жизнь требует быть грубее, небрежнее, небрезгливее – особой роскошью становится элементарная гигиена, в том числе речевая.
Уж сколько раз твердили миру, например, о разнице между паронимами «одеть» и «надеть», а людей, владеющих этим нехитрым различением, становится все меньше, в том числе среди профессиональных литераторов и гуманитариев. Чуткие филологические уши и души просто не в состоянии перенести подобный лингвистический «беспредел»! Меня спасает от страданий сформулированный выше дифференцированный подход. Когда я слышу сочетание «одел пальто» из уст гардеробщицы – я нахожу это вполне системным для ее речи. Но когда Ирина Хакамада объясняет в интервью, почему она «одевает черное», – ее интеллигентный имидж, по моим понятиям, несет небольшую, но потерю. Для человека, работающего словом и со словом, это ошибка не менее грубая, чем пресловутое «ложить».
Печально бывает слушать по «Эху Москвы» передачу об одежде «Дэнди-стайл», невольно ставшую публичным разоблачением знаменитостей: даже утонченно-ироничный Леонид Броневой «одевает галстук», словно какой-нибудь анекдотический «новый русский». Если на то пошло, «дендизм» – это не только «шмотки», это стиль всего поведения, в том числе и речевого. И «одеть» вместо «надеть» – все равно что спущенный чулок или жирное пятно на галстуке.
В одном из новых учебников по русскому языку для 5-го класса (под редакцией М. В. Панова, автор раздела «Лексика» – И. С. Ильинская) предложен простейший дидактический прием усвоения этой нормы: надеть одежду – одеть Надежду. Сохраняю надежду, что новое поколение справится со столь грандиозной задачей, не решенной в советский период. Забавная подробность: в вышедшем в 1974 году словаре «Трудности словоупотребления и варианты норм русского литературного языка» была статья про «одеть – надеть», проиллюстрированная двумя примерами. Один – из Юрия Германа, которого в молодые годы Алексей Максимович беспощадно отчитал за смешение двух глаголов: мол, это основы ремесла. А перед тем – пример из повести Горького «Детство», где Цыганок каждую пятницу «одевал» полушубок. Так что: «врачу, исцелися сам!» (Многие ли, кстати, помнят сегодня, что «врАчу» здесь с ударением на первом слоге как реликт древнего звательного падежа?)
Но вот до меня доносится голос поэта, открывшего в своих песнях столько глубин русского языка, создавшего целый ансамбль индивидуальных фразеологизмов и крылатых слов:
Ну и что? Ему можно, а нам – нельзя!
5
Нет, это мы сами опускаемся, позволяем себе ошибки и небрежности, немыслимые прежде. Когда-то, слушая Высоцкого, все дружно смеялись над персонажем, который «целовался на кухне с обоими» (то есть и с Клавкой, и с ее подругой). Никому не надо было объяснять, что форма женского рода – «обеими». Но вот я слышу недавно по «Свободе» интересный рассказ Анастасии Вертинской об отце и его отношении к дочерям. «Он обожал обоих», – резюмирует актриса. Тут, как говорится, конец цитаты – добавить просто нечего.
Или вот еще одна грубая ошибка, взятая, так сказать, в диахроническом срезе. Тридцать с лишним лет назад М. В. Панов в своей замечательной книге о русской орфографии собрал коллекцию странных рифм «ни был» – «небо». Дело было в том, что не слишком грамотные поэты вместо усилительной частицы «ни» употребляли отрицательную «не», а под ударением, да еще в рифменной позиции это торчало совершенно неприлично. И где бы я не был, восклицали неотличимые друг от друга лирики, везде помню родное небо, запах хлеба и т. п. Редакторы переправляли не на ни, жертвуя во имя грамотности тривиальной рифмой. Важно при этом отметить, что в устной речи образованной публики тогда повсюду звучали правильные варианты: «где бы я ни был», «кто бы ни был этот человек», «что бы там ни было».
Теперь же, слыша по радио или по телевидению частицу «ни» в ударной позиции, я радостно подпрыгиваю: кто же это у нас такой душка, такой мастер родной речи? Ибо правильность здесь стала редкостью, хотя ни малейших оснований для пересмотра данной нормы нет и быть не может.
А совсем недавно я был просто убит, прочитав в очень приличном журнале стихи с тройной рифмой «хлеба» – «не был» (конечно, вместо правильного «ни был», и притом ошибка уже никем не исправлена) – «небо». Кто автор? Один из крупнейших авторитетов современной культуры, так что имя его я не открою даже под пыткой. Для меня в данном случае важнее само явление, весьма и весьма грустное…
Числительные у нас учат склонять в пятом классе, и слишком рано учат, потому что, став взрослыми, люди обыкновенно эти правила забывают. Может быть, перенести эту тему в вузовскую программу? Чтобы теле– и радиоведущие не буксовали перед необходимостью поставить, скажем, число 666 в родительный или творительный падеж, чтобы у того же Пелевина Петр Пустота не производил в стихах дефектную форму «семиста» (вместо «семисот»), рифмуя ее со своей фамилией («И пиля решетку уже лет, наверное, около семиста… Убегает сумасшедший по фамилии Пустота»). Правда, стихи как бы пародийные, да еще сочиненные сумасшедшим… Ладно, пусть судят те, кто способен уловить здесь комизм, но ошибка, по-моему, и непреднамеренная, и несмешная.
6
Фонетический термин «артикулировать» перекочевал в сферу общеупотребительную: «надо артикулировать принципы», «он артикулировал свою концепцию». Тем не менее мы артикулируем (в первичном, буквальном смысле) очень неважно. Глотаем звуки, усекаем слова – причем не в разговорно-бытовой, а в публичной речи, где нужны четкость и плавность. «Скоко», «токо», «поскоку», «сёдни», «пиисятые» и «шиисятые» годы, «контиционный» суд… Редко кто умеет нормально проартикулировать слово «конъюнктура», не такое уж громоздкое и мудреное.
Очень тонкая материя – твердые и мягкие согласные перед э. Скажем, произношение «бутЭрброд» было узаконено С. И. Ожеговым в его «Словаре…» не без колебаний, как уступка времени. Прежде бутерброды рекомендовалось готовить и есть с мягким «т» («потому что это не термин»[3]3
См.: Панов М.В. История русского литературного произношения XVIII–XX вн. М., 1990. С. 149.
[Закрыть], а бытовое слово). Сравнительно недавно можно было слышать от пожилых людей «музЭй», «шинЭль», «пионЭр» – и это было скорее не ошибкой, а данью устаревшей традиции. Здесь множество вариативных и интересных случаев. Жизнь становится жестче, согласные – мягче, но тем не менее диковато слышать мягкое «т» в главном слове нашей эпохи – «компьютер», как и чрезмерную мягкость в наименовании весьма кровавого жанра («дитиктив»). Есть, впрочем, еще более уродливое произношение «деДектив», не имеющее никаких оправданий.
Не след нам поступаться таким священным принципом, как мягкое произношение зубных перед мягкими зубными. Вот, скажем, слово «рецензия» – оно из обихода людей образованных; «н» здесь перед мягким «з» должно быть мягким – это, как говорится, однозначно. Тем не менее мне доводилось слышать некорректное произношение бедной «рецензии» с твердым «н» от докторов филологических наук! А ведь все так любят вдохновенно цитировать: «Сохрани мою речь…», «И мы сохраним тебя, русская речь…». А акмеисты-то перед мягкими зубными зубные мягко произносили! Надлежит нам сохранять и эту сторону речи!
Бывают, правда, и немотивированные орфоэпические «пассеизмы». Представьте, что телевизионный ведущий показался бы на экране в современном костюме, но при этом на голове у него – парик екатерининских времен. Нечто подобное совершает Евгений Киселев, когда в свою в целом нормативно выдержанную речь вдруг вводит мягкие губные перед заднеязычными: «слухи об отста[ф']ке». Ему подражают другие ведущие НТВ, не желающие, очевидно, оказаться «в отставке». Но это слишком старая норма – даже не прошлая, а позапрошлая. В фундаментальном труде М. В. Панова, где произносительные системы условно названы по цветам спектра (мы живем в основном в «алой» системе, начиная с 20-х годов формировалась система «оранжевая»), подобное произношение описано как элемент «желтой» и «зеленой» систем, то есть периода середины XIX – начала XX века. Р. И. Аванесов в 60-е годы уже относил реликты такой мягкости к просторечию. Не всегда старое заведомо лучше нового: не станем же мы в подражание Петру Первому и Ломоносову слово «первый» произносить как «перьвый»!
А ежели кто желает придать своей речи благородно-старинный оттенок, то для этого есть возможности как раз в сфере плюрализма норм. Элегантно звучит замена твердых зубных на мягкие перед мягкими губными (например, мягкое [с'] в словах «свет», «спина», «смелый»), мягкое [ж'] в слове «позже». Говоря так, мы и в рамках нормы остаемся, и пребываем в составе элитарного орфоэпического меньшинства.
В речевой сфере тоже есть свои конформисты и свои диссиденты. Замечаю, что почти никто уже не произносит слово «жюри» с мягким, «французским» [ж'], как рекомендуют и орфоэпический словарь, и словарь для дикторов. Почти все опустились до грубого «жури». Может быть, словари устарели и в новых изданиях «жури» будет узаконено? Тем не менее, услышав старинное мягкое «ж» в этом слове, я сразу проникаюсь симпатией к говорящему. Изобилующую ошибками примитивную речь можно сравнить с затхлым, несвежим запахом, речь нормативно-безупречную – с отсутствием запаха вообще, а тонкое, осознанное и уместное использование старинных вариантов, неназойливые орфоэпические окказионализмы – с ароматом дорогих духов. Каждый выбирает для себя и по себе, как пахнуть.
Выскажу несколько вкусовых, субъективных соображений о речевых однодневках, которые мне кажутся не очень благовонными. Полагаю, ревнителям родного слова не к лицу всякие «подвижки», «наработки», усеченные обороты типа «обратились к президенту оказать помощь» (вместо «обратились с просьбой оказать…») или «он воспринимается лидером» (вместо «воспринимается как лидер»). Пока бьется сердце, буду сопротивляться употреблению уродливого бюрократического глагола «задействовать».
«Мы не нормализаторы»[4]4
«Русский язык конца XX столетия (1985–1995)». М., 1996. С. 14.
[Закрыть], – говорит авторитетный лингвист Е. А. Земская, руководитель коллективного труда о современном живом языке. Мне приятно и лестно, что Е. А. Земская сочувственно упоминает предложенную автором этих строк идею «русофонии» – непредвзятого описания и осмысления нынешнего состояния языка (пожалуй, еще в совокупности с ближайшими экстралингвистическими фактами и факторами; поначалу этот предмет обозначался термином «дискурс», но потом термин совершенно изнасиловали и лишили всякого смысла постструктуралисты и псевдофилософы). Конечно же, идущий «в народ» филолог должен не замечания делать, а слушать, внимать, записывать, всесторонне анализировать. В этом сходятся задачи и лингвиста, и писателя, транслирующего и трансформирующего речь своих небезупречных современников. Брезгливость тут неуместна – как в работе врачей, имеющих дело с патологией и нечистотами. Сам я, к примеру, услышав в позапрошлом году на улице неизвестное мне прежде трехэтажное отглагольное прилагательное, не испытал ни малейшего возмущения, а надолго задумался о словообразовательной модели и о способе написания заковыристого неологизма: то ли с «не» он начинается, то ли с «ни», да к тому же еще здесь, наверное, необходимо посередине написание твердого знака, не предусмотренное пока существующими правилами.
Но слушать и говорить – не одно и то же. Считаю, например, что незачем нам подчиняться агрессивной экспансии предлога «по» (этот процесс описывает в уже упомянутом коллективном труде М. Я. Гловинская). И если приведенный ею пример из речи московского мэра «Теперь по моркови» протеста не вызывает: была бы морковь, – то чья-то газетная фраза «Он был артист по жизни» выглядит удивительно неартистично. Между тем это – извините за резкость – плебейское «по жизни» уже проникает в речь тех, кто себя относит к духовно-интеллектуальной элите.
У элиты должны быть свои «шиболеты» – контрольные слова для определения уровня речевой культуры. Раньше мне одним из таких «шиболетов» представлялось отношение к глаголу «довлеть»: тот, кто понимает смысл изречения «Довлеет дневи злоба его», не станет говорить «над нами довлеет» (то есть «тяготеет»). Однако в новейшем издании словаря С. И. Ожегова (скончавшегося, как известно, в 1964 году) и примкнувшей к нему – почему-то в качестве соавтора – Н. Ю. Шведовой вульгаризованному значению глагола «довлеть» дан зеленый свет. Мне уже доводилось высказывать в прессе свое глубочайшее сожаление по этому поводу. Правда, утешили составители потихоньку выходящего двадцатитомного «Словаря современного русского литературного языка»: они в четвертом томе дали в статье «довлеть» перед значением «господствовать, тяготеть» помету «прост.». Чисто теоретически можно было бы поспорить с отнесением к просторечию слова во всех значениях довольно книжного, но тактически меня это устраивает: ведь филологам и литераторам пользоваться просторечием позволительно в цитатах и в речи персонажей. Пусть же нам довлеет овеянное традицией, хотя и оскорбленное пометой «устар.» словоупотребление (довлеть – «быть достаточным, удовлетворять»)!
«Ноблесс оближ» – как говорил легендарный кот из легендарного романа. (Кстати, мне по душе булгаковское написание русскими, а не французскими буквами. Вообще я сторонник максимальной «кириллизации» иностранных слов и выражений: никак не могу понять тех, кто до сих пор норовит писать латиницей такие русские слова, как «уик-энд» или «хеппи-энд».) Иногда данное французское речение неточно переводят, как «положение обязывает». Нет, правильнее: благородство обязывает. Продолжим же речь о веригах, налагаемых благородством.
7
Надоело говорить и спорить о нормах употребления «ненормативной» лексики в устной и письменной речи. Не в императивно-запретительной, а в констатирующе-описательной тональности скажу вообще-то благородные люди не матерятся. Исключение всегда составляла артистическая богема (впрочем, причастность к богеме предполагала сознательный отказ от претензий на благородство). Что же касается художественной литературы, то здесь приходится вновь припомнить знаменитые слова Л. Щербы: «…прелесть обоснованного отклонения от нормы», В современной прозе и поэзии такая прелесть и такая обоснованность использования мата – минимальны, случаи талантливого сквернословия – единичны. Наша словесность периода гласности и свободы слова в целом не справилась с этим специфичным, трудным для эстетической обработки материалом. Опять откроем «Чапаева и Пустоту» с его эклектическим и потому показательным языком. Мат используется Пелевиным количественно редко (чувство меры у автора есть), но удивительно неметко, что и вызывает мои претензии. Вот на тачанке изображена «грубо намалеванная белой краской» стихотворная надпись (теперь повсюду табу сняты, но – извините мою стыдливость – я все-таки две буквы заменю точками): «СИЛА НОЧИ, СИЛА ДНЯ / ОДИНАКОВА..ЙНЯ». Туг я, как один тургеневский герой, могу только недоуменно спросить: «Что, это остроумно?»
Наиболее дальновидные писатели сегодня уже матюгаться перестают, понимая, что это бесперспективно. Предположим два разных варианта развития литературно-эстетических нормативов. Первый: новая художественная эпоха может оказаться утонченно-целомудренной – и теперешняя грубая поэзия и проза будут в XXI веке таким же нелепым анахронизмом, как ханжеская стилистика соцреализма. Второй: новое литературное поколение сможет наконец найти более сложную и эстетически полноценную форму подачи обсценной лексики – но тогда нынешние сквернословы будут выглядеть примитивными «плотниками» на фоне грядущих умелых «столяров». А в общем, никого ни к чему не призываю: хотите писать тексты бренные и тленные – пишите.
8
Существующий (пока еще) тип благородного речевого поведения восходит к традиции, сформировавшейся в конце XIX – начале XX века у тогдашней научно-художественной интеллигенции. Научное описание этой поведенческой модели, условно именуемой «интеллигентностью», по-видимому, впереди (и это может быть сделано не менее увлекательно, чем исследования Ю. М. Лотмана о дворянской культуре). Я же сейчас говорю только о речевой стороне поведения, не касаясь других факторов. С этой точки зрения носителями интеллигентной речи могут выступать таланты и посредственности, остроумцы и зануды, труженики и сибариты, моралисты и циники, альтруисты и себялюбцы, верующие и агностики… И политическая ориентация тут может быть различной. Отнюдь не всех представителей либерально-прогрессистского стана я причислю к данной поведенческой модели – в то же время в лагере националистическом не могу не отметить интеллигентное речевое поведение В. В. Кожинова и П. В. Палиевского (чьих идей отнюдь не разделяю), резко контрастирующее с неинтеллигентной речью и манерами С. Ю. Куняева, А. А. Проханова, В. Г. Бондаренко, да и «писателя» Г. А. Зюганова.
Главная особенность (и, быть может, главная слабость) неписаного интеллигентского этикета состоит в чрезвычайной трудности (а то и невозможности) следования ему на каждом шагу. Этот этикет – идеал, которому в реальности на сто процентов не соответствует никто. Приведу лишь несколько «позиций», в которых мы все то и дело спотыкаемся. Когда я говорю «Здравствуйте!» или «Добрый день!», я отдаю себе отчет в том, что это учтивость не полная, а половинная. Подлинно интеллигентная манера требует непременного добавления имени адресата приветствия («Здравствуйте, Иван Иванович!»). Именно так вел себя, к примеру, А. А. Реформатский, что замечательно описано в зорких мемуарах его жены Наталии Ильиной.
Этот этикет требует в устной беседе непременно раза два обратиться к собеседнику по имени – безликое «вы» недопустимо. А с незнакомым лицом в долгий разговор можно пуститься только при условии предварительного представления друг другу. (Для контраста замечу: в наших «домах творчества» обитатели по полвека не ведают, «ху из ху». В редакциях и издательствах хозяева кабинетов крайне редко знакомят «пересекающихся» гостей, хотя прежде такой жест был автоматически-обязательным.) Надписывая конверт, интеллигент старого закала физически не мог вывести «И. И. Иванову», а писал ф. и. о. полностью – так делал, например, Блок, приглашая па читку своей пьесы малоизвестного тогда двадцатидвухлетнего филолога Сергея Михайловича Бонди. Презентуя кому-либо свою книгу, автор в «инскрипте» (дарственной надписи) характеризовал (по возможности лестно) только получателя дара, по не себя и не свой опус.
В рамках этого негласного кодекса просто немыслимо было сказать на конференции или в дискуссии: «Как уже здесь говорилось…» Такая безличная отсылка к предшествующему оратору исключалась: соглашаетесь вы с ним или спорите – извольте назвать по имени-отчеству.
Устарели эти церемонии? Может быть. Но хотя бы как объект культурологического изучения этикет «уходящей расы» не должен быть забыт. И еще одну особенность этой поведенческой модели, скорее содержательную, чем формальную, хотел бы отметить. Носитель интеллигентного речевого поведения не возвышается над собеседником, а дает ему «фору», условно предполагая в нем и образованность, и способность понять любую сложную мысль. Читая лекции в Саранске, Михаил Михайлович Бахтин, по свидетельствам бывших студентов, «позволял себе напомнить» пространные латинские цитаты, а не кокетничал ими. А вот пример попрозаичнее. В дамском телевизионном ток-шоу Алла Пугачева сообщает, что в минуту усталости летала отдохнуть в Цюрих: «Взяла с собой Лолиту…» Ее собеседница Галина Старовойтова радостно кивает, полагая, что речь идет о романе Набокова (признаюсь, что и я на долю секунды снаивничал, предположив в поп-звезде страсть к такого рода чтению). Увы, выяснилось, что Лолита имелась в виду без кавычек, это имя эстрадной певицы (извините, фамилии не знаю)…
Замечу, что «фора», о которой я говорю, может быть продиктована не только искренним порывом – за ней вполне может стоять тонкое лукавство, если не коварство. Русская интеллигентность во многом рифмуется с английским джентльменством – об этом я, в частности, слышал от британского эксперта по хорошему тону Мартина Дьюхерста. А хитрые обитатели Альбиона говорят: «The fool flatters himself, the wise man flatters the fool» («Дурак льстит себе самому, умный льстит дураку»). Не так уж ценна искренность, если с нею выплескивается зависть, вздорность, агрессивность. Наше литературное сообщество явно нуждается в выработке нового этикета, который позволял бы не тихо (или шумно) ненавидеть друг друга, а, несмотря на психологические отталкивания, поддерживать терпимость, плодотворно и деловито сотрудничать, вместе вытаскивать литературу, культуру из той ямы, в которой они (то есть мы) оказались.
9
Новый этикет, очевидно, будет более сухим и прагматичным, а артистизм, остроумие, игровые моменты будут из публичного общения оттеснены в сферу сугубо дружеских контактов. Вернется дореволюционная форма обращения «господин такой-то» уже не в качестве ярлыка (Хрущев когда-то так напугал молодого поэта словами «господин Вознесенский», что тот до сих пор об этом кошмаре вспоминает). Войдет в наш быт иностранно-буржуазный ритуал телефонных разговоров, когда звонящий представляется первым, когда время и деньги не тратятся на бессмысленные фразы: «А что передать?» – «Да нет, ничего…» (Такую деловитость, кстати, можно только приветствовать, и я даже нашел, в чем согласиться с Пелевиным, точнее, с его персонажем-японцем, который в ответ на российское расхлябанное: «Сейчас… Ручку возьму», – с совсем, правда, не японской резкостью поучает: «А почему у вас блокнота с ручкой возле телефона нет?.. Деловому человеку надо иметь».)
Но главное, что в нынешних трудных, жестких, но пока еще не безнадежных условиях по-новому ставится вопрос: как должны говорить о себе писатели, как должна заявлять себя литература в целом? Ведь про современную отечественную словесность никак не скажешь, что она «в рекламе не нуждается». Очень нуждается – и литература как таковая, и все без исключения ее отдельные представители.
Максима «Быть знаменитым некрасиво» сегодня не очень работает, поскольку в тысячу раз некрасивее быть скромным, никому не известным сочинителем никому не известных произведений. Скромность отнюдь не всегда считалась первой добродетелью художника. К примеру, футуристическое и обэриутское «яканье» было неотъемлемым элементом поэтики, серьезной и ответственной установкой творческого поведения. Уже никого не смешит строка: «Я, гений Игорь Северянин», – да, своего рода гений, в рамках собственного иронико-поэтического мира. А теперь, в конце века и тысячелетия, заведомо нескромной предстает любая попытка добавить что-нибудь свое к огромному, целостному, по-своему завершенному и недоступному для сколько-либо полного освоения на протяжении читательской жизни тексту «Мировая литература». Нет, сегодня я предложил бы Борису Леонидовичу маленькую поправку к строке «Но надо жить без самозванства». Что значит «надо»? Приятно жить без самозванства тому, кого уже знают, кого уже прочли. А так – каждый, кто впервые говорит «Я поэт», «Я писатель», – уже есть самозванец.
Тут уже возникает вопрос о духовно-эстетическом оправдании «нескромности», о том, соответствует ли шумная самореклама качеству поставляемого литературного товара. Вот, например, телевизионный ведущий спрашивает Виктора Ерофеева: «Почему ваша проза имеет такой успех за рубежом?» – «Потому что она хорошая», – просто и доходчиво отвечает писатель. «Айгенлоб штинкт!» – воскликнул по этому поводу мой немецкий коллега, в переводе на русский его реплика означает: «Самохвальство воняет». Думаю, что у нас все-таки существует и общественное мнение, и общественное обоняние, которое в конце концов пронюхает истину и разберется, что почем. А печальные примеры самозахвального блефа не означают, что писатели в принципе не должны «высовываться».
Одно дело – когда известность завоевывается, что называется, со взломом, и совсем другое – когда литератор, выходя на авансцену общественного внимания, честно отрабатывает это внимание содержательностью своих деклараций, новизной заявляемых идей, искусством диалогического контакта с аудиторией. Надеюсь именно этого дождаться от литературных новобранцев наступающего столетия.
«Что скажут о тебе другие, коли ты сам о себе ничего сказать не можешь?» – вопрос Козьмы Пруткова остро стоит перед каждым, кто пытается сегодня остаться профессиональным литератором. Если мне не изменяет память, о своем намерении стать «профессиональным литератором» заявлял юный персонаж детской прозы Анатолия Рыбакова – Крош. Тогда это была одна из возможных профессий, сегодня это невероятная роскошь и счастье – писать, и притом не делать ничего другого «для прокорма». И это потребует от литератора не только полной выкладки за письменным столом, но и мужественного умения бороться за свои авторские права, за уважение к своему труду, за читателя, дорогу к которому преграждает сегодня не цензура, а новые «темные силы» – мафиозные издательские и книготорговые структуры да равнодушные к настоящей литературе СМИ (не сегодня-завтра эти два мутных потока соединятся, и нам еще предстоит читать организованные ловкими издателями бесстыдно-апологетические отзывы о таких «классиках», как Доценко и Маринина, – вот что будет вместо «литературной критики»).
Но об Анатолии Рыбакове я вспомнил прежде всего в связи с его произведением под названием «Роман-воспоминание». Эта вещь производит впечатление, что называется, неоднозначное, многое напрашивается на иронию, начиная с неадекватного названия: непонятно, зачем опытному и признанному романисту понадобилось выдавать за «роман» утилитарный текст, насыщенный интересной и полезной информацией, являющий собой синтез жизнеописания (порой почти делового curriculum vitae) и своеобразной «охранной грамоты». «Известность «Детей Арбата» опережала их публикацию», «После этого «прорыва» ВААП начал заключать контракты. «Дети Арбата» изданы в 52 странах». Согласитесь, что стилистика не романная. К тому же «роман» – это выдумка, где ничего нельзя принимать за чистую монету, а приведенному выше мы, безусловно, верим.
Но довольно придирок: как факт литературного поведения этот нехудожественный по жанру и по фактуре текст Рыбакова примечателен и поучителен. Перед нами темпераментный литератор-профессионал, преданный своему делу, верный своим заветным мечтам и целям, умеющий постоять за себя и за свои книги. Немало претерпевший от властей и от цензуры, Рыбаков никому не позволяет себя унизить, принизить реальное значение своей работы. Совершенно справедливо «выдает» он за все грехи и за малодушие М. С. Горбачеву, который в своих двухтомных и довольно пустых мемуарах высокомерно отозвался о художественных достоинствах «Детей Арбата». С замечательной искренностью рассказывает Рыбаков о своих несложившихся отношениях с Бродским, который назвал «Детей Арбата» «макулатурой», что было и несправедливо, и неблагородно. Показательны и слова Рыбакова о Бродском, сказанные перед зарубежной аудиторией: «Как поэта я Бродского не знаю. Но моя жена, мои друзья говорят, что он очень одарен. У меня нет оснований им не верить, и я присоединяюсь к их суждению: Бродский – талантливый поэт».
Кому-то кажется наивным итог социально-политических раздумий Рыбакова: «Истинный путь России – демократический социализм. Его отвергли и Сталин, и нынешние руководители». Но что, вы считаете своим идеалом нынешний дележ власти между бывшими партаппаратчиками и криминальными нуворишами? Снова готовы влачить жалкое существование «применительно к подлости», сгибаясь в три погибели перед высокопоставленными хамами, от которых воняет грязными деньгами? В чем никак нельзя отказать Рыбакову, так это в том, что называется старинным словом «самостоянье». А это первейшее условие благородства. Может быть, Рыбаков чересчур строг к тем своим коллегам, что были вынуждены идти на политические компромиссы, и слишком уверен в собственной безгрешности, но в главном он прав: нельзя молиться за царя Ирода. Опусы ненаивных, хитроумных писателей устаревают за несколько лет, а новых увлеченных читателей романов Рыбакова я встречаю среди своих восемнадцатилетних студентов.
В общем, можно говорить о себе гордо, громко, без ложной скромности. Но для этого необходимо одно условие: нужно иметь общеинтересный жизненный опыт, иметь судьбу – такую, как у автора книги «Бодался телёнок с дубом», или хотя бы такую, как у автора «Детей Арбата».
Поэтому достаточно жалкими и недостойными выглядят попытки сделать себе имя и репутацию до приобретения трудного опыта, до написания чего-то значительного. Один юный репортер, занимающийся поденной работой, но, как все журналисты, собирающийся написать роман, выступил недавно в «Знамени» с «неким как бы текстом», где предпринял попытку заранее вписать себя в современный литературный пейзаж. Фантазия журналиста достаточно бедна: он изображает именитых писателей вылетающими из окна редакции «Знамени»: «Впереди летел Юрий Буйда… Буйда был пьян, как его персонажи… Летела Токарева, Татьяна Толстая…» Сколько уже мы видели подобных полетов! С искренним недоумением прочел следующее: «В коридоре журнала «Знамя» я вдруг увидел профессора Владимира Новикова. Некоторое время я размышлял, подавать ему руку или нет. Дело в том, что профессор оскорбил одного моего знакомого поэта, Мишу Кукина, предположив в ответ на его стихи, что Миша не гений». Мучительно вспоминаю, как может выглядеть автор сего сочинения, но через несколько строк все разъясняется. Юный мистификатор признается: профессор «проследовал мимо меня, так и не догадавшись о моем существовании». Ну, кому может быть интересен такой «стебовый» междусобойчик? Не лучше ли, чем пристраиваться в хвост к знаменитым прозаикам, чем заигрывать с критиками, взять да и написать стоящий текст, благодаря которому мы бы все вместе с читателями «догадались о существовании» еще одного автора. Но для этого одной развязности мало.








