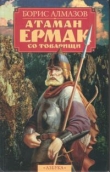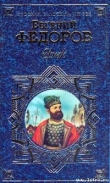Текст книги "Последний атаман Ермака"
Автор книги: Владимир Буртовой
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Глава IV
Москва смутная
– Слава Господу, добрались-таки до Москвы! – Атаман Матвей Мещеряк, стоя на коленях, перекрестился, обнажив голову, когда санный обоз с ермаковцами по заснеженной и унавоженной дороге въехал в ворота Китай-города, огражденного недавно возведенной каменной стеной. – А снегу нынешней зимой предостаточно не только в северных землях, но и в белокаменной столице. Сподобил Господь полюбоваться здешними церквями да боярскими хоромами, отродясь здесь не бывал еще ни разу.
Рядом с ним, поджав под себя ноги, на коленях сидел в санях Ортюха Болдырев, из-под черной бараньей шапки оглядывал высокие терема за тесовыми воротами вдоль знакомой ему Никольской улицы, сумрачно проворчал:
– Дран был я нещадно в конце этой улицы, у торговых рядов, потому, должно, обе ягодицы некстати зачесались! До сей поры помню красную рожу московского ката, чтоб черти по ночам его бабку за ноги по кладбищу таскали! Люто сек, без жалости к моим не так уж и толстым ягодицам! Ну и мы опосля ему крепко насолили – ночью влезли на крышу избы, в трубу набили соломы сырой, подпалили да тряпьем сверху накрыли, так что весь дым в горницу повалил, домочадцев выкурил, как клопов на крещенский мороз!
Казаки, которые сидели позади атамана, засмеялись, а пожилой возница, придерживая уставшую каурую кобылу, едва проехали под воротной башней, объявил, смахнув рукавицей иней с седых усов и бороды, тако же радуясь концу тяжкой зимней дороги:
– Вона, караульные встречь вам вышли, спрос учинят, кто да по какой надобности на Москву пожаловали. А вона по левую руку, за угловым домом с зелеными ставнями, церковь Иоанна Богослова, сымайте, казаки, шапки да молитесь, чтоб какого лиха с вами здесь не приключилось!
– Белая у тебя голова, Фомка, а каркаешь под стать черному ворону, прости, Господи, его, непутевого, – подал голос старец Еремей, истово крестясь на деревянные кресты церкви, над куполом которой лениво кружились голодные крикливые вороны. Тринадцать саней казацкого обоза прижались к каменной стене, чтобы не загораживать проезд сзади идущим крестьянским саням – везли оброк московским боярам к близкому Рождеству Христову жители сел и деревень, кому удобнее было добираться до Москвы владимирской дорогой.
К обозу подошел немолодой уже бородатый стрелецкий сотник, внимательно всмотрелся в розовые от холода лица сидящих в санях странно одетых людей, увидел атамана Мещеряка, понял, что он главный над приехавшими, представился Степаном Онучкиным, осведомился:
– Кто есть такие? Своей ли волей в Москву въехали альбо званы кем? – А суровые светло-голубые глаза смотрят настороженно, словно ожидая неминучей беды от нежданно объявившегося отряда вооруженных и бывалых людишек в нездешних одеждах – на них под изношенными в заплатках шубами видны цветастые, тоже изношенные азиатские ватные халаты и разноцветные шелковые пояса, за которые у каждого засунуты сабли в ножнах.
– Мы из воинства завоевателя Сибири атамана Ермака Тимофеевича. К Москве званы для сказа о делах тамошних, за Каменным Поясом, да везем в казну государев сибирский ясак. В Москве более двух лет живут наши товарищи с есаулами Иваном Черкасом да Саввой Болдырем. Вот и нам бы, стрелецкий голова, где ни то рядом одним станом разместиться ради удобства.
Стрелецкий голова левой рукой помял толстые, заросшие бородой щеки, несколько раз кивнул головой, что-то прикидывая или вспоминая о чем-то, потом махнул рукой вдоль улицы и сказал более приветливым голосом:
– Езжайте неспешно за мной. О вашем атамане вся Москва наслышана, а когда Ермаковы сеунщики[14]14
Сеунч – радостная весть. Сеунщик – вестник (устар.).
[Закрыть] привезли государю Ивану Васильевичу сибирские меха числом немеренным, многие из нас просились в поход за Каменный Пояс в полк воеводы Семена Болховского. Да в тот полк набирали стрельцов не в Москве, а на востоке, где-то в Перми, в Свияге, да еще, сказывали, от Строгановых были людишки.
Матвей Мещеряк пошел по утоптанной снежной дороге впереди обоза рядом с низкорослым стрелецким сотником, одной фразой заставил собеседника на всю жизнь перестать сожалеть о том, что не попал тогда в новый сибирский поход:
– Стрельцы того несчастного воеводы за малым числом в первую же зиму поумирали от голода. Князь Семен, не упрежденный о делах сибирских, облегчая стрелецкие струги на переволоках, повелел оставить едва ли не бóльшую часть съестного припаса. Мыслил прокормиться среди местных жителей, да хан Кучум не очень хлебосольным хозяином оказался. Вот так-то, брат Степан, добывается сибирский ясак.
Стрелецкий сотник споткнулся на ровном месте, гримаса ужаса исказила полнощекое лицо, глаза широко раскрылись от удивления:
– Матерь божия! Надо же такому случиться! Неужто и воевода Мансуров тако же оплошает, как оплошал князь Болховской? Что тебе, атаман, ведомо об этом?
– Слух был, когда мы с Печоры-реки перешли на Каму и прибыли в Соль-Камский городок, что воевода Мансуров уже ушел за Каменный Пояс с большим отрядом стрельцов. И сказывали нам строгановские люди, будто взял он с собой изрядный запас ратного и харчевого довольствия. Кабы знали мы в Кашлыке, что воевода идет к нам, не оставили бы ханскую столицу татарам. – Последние слова атаман Мещеряк проговорил с заметной долей печали, что по неведению ему и казакам пришлось оставить кровью политую сибирскую землю во власти коварного Кучума. «Кто знает, каково теперь, в лютую зиму, воеводе Мансурову и его стрельцам приходится, – подумал со вздохом Матвей, – вместе, глядишь, сдюжили бы стоять против татарского воинства…»
Встречные жители Китай-города уступали дорогу казацкому обозу, где на санях бугрилась укрытая парусиновым полотном поклажа, а по бокам сидели с измученными, почерневшими от морозного ветра лицами странные диковатого вида люди с пищалями в руках. Из-под закрытых ворот неистовым лаем их провожали разномастные собаки, щедро обнажая мощные клыки. Стрелецкий сотник, время от времени продолжая покачивать головой, переживая жуткую смерть собратьев в далекой Сибири, на ходу пояснял Матвею, какие строения разместились на Никольской улице, по которой они приближались к московскому Кремлю:
– Вот эти хоромы по левую руку – бояр Шереметевых, а вон в том по правую руку срубовом доме с пристроем проживает великий человек, государев печатник, бывший дьякон Иван Федоров. Этим летом в печатном дворе выпечатана им вторая книга на Руси – «Часословец». Печатный двор подальше будет. Вот слева дома знатных людей московских Телятевских, а вот справа Никольский греческий монастырь. Вона как чернокафтанники чистят подворье после бурана, только подрясники на ветру треплются! Рядом с монастырем и есть постройки печатного двора и жилье для тамошних умельцев. Теперь по правую руку Заиконоспасский белокаменный монастырь, а насупротив него, за кирпичными стенами, старейший в Москве Богоявленский монастырь, поставленный, как говорят монахи, еще при московском князе Данииле Александровиче. Чуток подальше, на Ильинке, хоромы князей Шуйских, там несколько крепких, за дубовыми воротами, подворий.
«Повидаться бы с князем Шуйским да порассказать славному воителю о походах Ермака Тимофеевича», – пронеслось в голове Матвея Мещеряка, в то время, как словоохотливый сотник продолжал рассказывать о строениях Никольской улицы.
– Ну и вот, по левую руку на весь Китай-город стоят, как видишь, атаман, торговые ряды, а у стены справа Земский двор. Вам надобно явиться туда, а уж они скажут, где вам поселиться да когда предстать пред государевы очи. Но прежде, конечно, вам надо повидать думного дьяка Дружину Пантелеева, главу Казанского Дворца. Мимо него вам к государю Федору Ивановичу не пройти. Да и государева шурина Бориса Федоровича Годунова не миновать одарить соболями. На его сестре Орине Годуновой женат сам царь Федор Иванович, потому он у государевой постели первейший советник, а иные промеж себя открыто величают Бориса Федоровича истинным правителем Московского царства. Говорю вам это, казаки, чтобы вы в речах своих простолюдинских какую охулку не допустили. Кругом послухи с поросячьими ушами, а слово, ведомо вам, не птаха, вылетело из-под усов, так сызнова не ухватишь и за зубы не запихаешь. А вот и Земский двор. Туточки вас примет дьяк Ларион, укажет место, где стоять вам на посте. Поклонитесь ему каким-нибудь подношением, он отдарит вас щедрой улыбкой, да и в делах московских может какую ни то лепту полезную принести.
– Спаси бог и тебя, сотник, – поблагодарил провожатого атаман Матвей, развязал котомку, которую всегда возил с собой в санях, вынул переливчатую соболью шкурку, протянул служивому. – Возьми в гостинец от казацкого воинства, Степан. А в церкви будешь – поставь поминальную свечу перед иконой за упокой души атамана Ермака и всех казаков, погибших в Сибирском царстве.
Стрелецкий сотник с нескрываемой радостью принял соболя, сунул его за пазуху кафтана, поблагодарил казацкого атамана:
– Бог даст, еще свидимся, атаман Матвей! Москва – большой город, да улочки, сам видишь, тесноватые. Нужда будет – сыщи меня в стрелецкой слободе за Москвой-рекой, авось чем и пригожусь. Домишко мой поменьше расписных хором князя Шереметева, с резными наличниками, да тамошние жильцы хорошо знают, где я провожу свои дни, когда не на службе, аккурат над обрывом реки стоит, а над водой близ окраины слободы, небольшая осокоревая роща, место приметное. Теперь стучись в ворота Земского приказа, дьяк Ларион, должно, уже воротился после обеда к службе.
Узенькие хитроватые глазки седовласого дьяка Лариона враз округлились, когда с поклоном атаман Матвей вынул из-за пазухи заранее приготовленного соболя, разгладил искристый мех рукой, положил его на стол перед дьяком.
– Прими, дьяк Ларион, в поклон от всех казаков, покоривших Сибирское царство, этого соболя-одинца[15]15
Одинец – соболь самого высшего разбора, не идущий в сороки (соболь средней цены, продавался в связке по 40 штук на шубу).
[Закрыть], да укажи, где нам стан держать, да как известить государя и царя Федора Ивановича о привозе нами собранного с сибирских народцев государева ясака.
Соболь-одинец исчез в ящике дьякова стола, словно и не покидал никогда своего укромного лесного жилища, да так быстро, что Матвей Мещеряк и глазом не успел моргнуть.
– Все ли твои казаки дошли, атаман? И в сохранности ли государев сибирский ясак, о котором ты только что сказывал, не своровали ли сколько шкур по дороге? Известил великого государя и царя Федора Ивановича чердынский воевода Василий Пелепелицын, что возвращается из Сибири Ермаковское воинство малым числом, а стрельцов головы Ивана Глухова с излишним ратным вооружением, от Ермака оставшимся, он оставил на Чердыне для бережения от татар. Велики ли человеческие потери в вашем сибирском походе? Сколь вас числом теперь, атаман, и где ваш обоз? – ласково, почему-то полушепотом осведомился дьяк Ларион, натягивав поглубже на седые космы песцовую высокую шапку.
«Знал бы ты, дьяк, какое излишнее оружие оставили мы чердынскому воеводе!» – улыбнулся своим мыслям Матвей, но вслух сказал о другом:
– Во двор сюда въехали мы на тринадцати санях, а всего нас возвратилось из Сибири девять десятков человек в полном здравии, да десятка три оставили на излечение в Нижнем Новгороде, поопасился я везти их по морозу в Москву, могли скончаться, поскольку все ранены в сибирских баталиях. Государев ясак довезли в сохранности, ни единой собольей шкурки не продали себе в пропитание, а кормились тем, что от атамана Ермака Тимофеевича получили в зачет ратной службы. Государев ясак сдадим по описи, писанной самим атаманом и за его войсковой печатью, чтоб никакого убытку не случилось. Скажи, дьяк Ларион, а посыльщики от атамана Ермака Тимофеевича Иван Александров сын Черкас да Савва Болдырь с товарищи в Москве ли? Быть может, и мы к ним пристанем жить общим котлом, тамо у нас добрые знакомцы, они помогут нам быстрее и без порухи обжиться в Москве – город велик и в нем свои порядки, казакам не ведомые! Мало ли что натворить могут, сами того не желая!
– Идем, атаман, на подворье, оттуда укажу, в каком месте ваши посыльщики уже два года с лишком проживают. – Дьяк Ларион довольно резво для своих годов поднялся на худых длинных ногах, набросил на плечи просторный тулуп с ярко-синей бархатной подкладкой и вслед за Матвеем вышел на резное крыльцо двухэтажного дома Земского приказа. Отсюда через высокий тесовый забор он указал на длинные одноэтажные срубовые строения с добрым десятком печных труб, три из которых дымились сизыми столбиками, уносимыми легким ветром вдоль Никольской улицы к Никольским же воротам Кремля.
– Вон там и обретают ваши сотоварищи. И вам туда переехать, благо совсем рядышком. Я пошлю с тобой, атаман, подьячего Фролку с ключами от горниц, а ты сам и размести казаков, как тебе удобнее. А государеву пушную казну поклади в темный чулан с крепкими запорами да караул держи наистрожайший! Случись какая поруха – от правителя Бориса Федоровича не миновать лютого спроса и петли пеньковой, потому как государево добро он бережет пуще своего, – постращал напоследок дьяк Ларион, а когда Матвей отвесил ему поклон и собирался уже было сойти с высокого крыльца на утоптанный снег, добавил то, что больше всего атаман хотел услышать: – А думного дьяка Дружину Пантелеева, главу Казанского дворца, я сам оповещу. От него вам скажут, в какой день государь и царь Федор Иванович соизволит вас принять для подношения сибирского ясака.
Слух о том, что в Москве объявились казаки полусказочного богатыря – атамана Ермака, покорителя Сибири, быстро облетел ежели не весь Китай-город, то по Никольской и соседней Ильинке прошел достоверно, и одними из первых встретили атамана Мещеряка посыльщики Ермака к царю Ивану Васильевичу во главе с есаулами Иваном Черкасом и Саввой Болдырем. Радостные крики, шутливые поцелуи в заросшие небритые щеки, крепкие похлопывания по спине и по загривку, а громче всех слышался хрипловатый голос Ортюхи Болдырева, который, схватив за пояс такого же высоченного ростом, одинакового почти прозвищем и давнего дружка Савву Болдыря, пытался поднять его над землей и с надрывом орал, выкруглив под черными бровями большие серые глаза:
– Ага-а, верста коломенская! Отъелся на московских пирогах с требухой, разжирел, почти братец ты мой единопрозванный! Дай-ка я на тебе, боров жирный, всю злость свою вымещу, которую не успел на Кучумку клятого низвергнуть!
С курчавой головы Саввы слетела серая баранья шапка, губы растянулись в радостной улыбке – любил он своего меньшого друга-балагура за необузданную жизнерадостность. Его привлекательное добродушное лицо не портил даже грубый шрам от ногайского кинжала, который в восемьдесят первом году, в сече на переправе у реки Самары, рассек надвое нижнюю губу и оставил сизо-розовый след на подбородке под густой темно-русой бородой.
– Легче, дьявол, обед наружу выдавишь! А ты чего такой безбрюхий, а? – смеялся Савва Болдырь, пытаясь разжать руки Ортюхи, крепкие словно ветки кряжистого дуба.
– Да оттого безбрюхий, дружище, что Сибирь да дальняя зимняя дорога весь жир на мне съела!
Матвей Мещеряк и Иван Черкас обнялись сдержанно, похлопали друг друга по спинам.
– Идем, Матвей, в горницу. Вижу, казаки не скоро угомонятся, расшумелись, будто грачи на деревьях после долгого весеннего перелета… – коренастый, среднего роста с бельмом на левом глазу, с длинной, как у старого попа бородой из прямых черных волос, он был всегда и в словах и в делах осмотрителен, уравновешен, но единожды хорошо все обдумав, вершил намеченное с упрямством норовистого быка.
– Погоди малость, Иван, велю казакам внести государеву пушнину в чулан для бережения, чтоб, охмелев, не раздуванили соболя да по московским кабакам не пропили на радости, что живыми из Сибирской земли возвратились в родные края. Бежать тогда нам из столицы, как затравленным волкам от гончих, так что и на Волге не схоронимся! Фролка, бери ключи да поищем чулан понадежнее! – Матвей подозвал к себе десятника Ивана Камышника и и велел ему и его казакам бережно снести мешки с пушниной в дом и, заперев, поставить караульщика, а ключ передать на сбережение лично ему.
– Так будет сохраннее, – негромко выговорил Мещеряк, принимая ключи на суровой толстой нитке от Ивана Камышника, и еще раз наказал двум дюжим бородатым караульщикам никого к двери не допускать, а будет кто нахрапом лезть, бейте так, чтоб на ногах не стоял: я потом самолично спрос строгий учиню – с каким умыслом в чулан с государевым ясаком лезли? Идем, Иван, – обернулся к молчаливому Ивану Черкасу, – поговорим о делах сибирских и московских, ты тут за минувшие годы изрядно осмотрелся.
Оба есаула, ермаковские сеунщики, заняли отдельную угловую горницу с одним окном на Никольскую улицу, другим на Никольские ворота Кремля, который был хорошо виден в конце улицы, а чуть правее, у самого кремлевского рва, стояло двухэтажное срубовое здание Земского приказа. На крыльце приказа переминались четыре стрельца с бердышами, а перед ними в овчинных серых тулупах толклись с десяток просителей, а может кого и к спросу призвали или кто тяжбу какую затеял с соседом.
– Попервой скажи, Матвей, каким образом покоряли вы Сибирь после нашего с Саввой ухода, да как случилось, что Ермак Тимофеевич погиб? Стрелецкий голова Иван Киреев, привезя в Москву царевича Маметкула, был спрошен пред очами царя да боярами, с нами видеться не захотел, с тем и отъехал прочь. А более никаких вестей от вас не приходило, потому и не знали мы, что с вами в Сибири приключилось далее. И почему нас не послали за Камень, когда снарядили большой полк с воеводой Мансуровым – не ведаем! В полку, сказывали, семьсот человек, а теперь поговаривают, что по весне восемьдесят шестого года в Сибирь пошлют большое войско. Должно быть, и нас отправят всех вместе с тобой и твоими казаками. Садись, Матвей, вот плетеное кресло у окна, я присяду на табурет. Пока нам сготовят обед, мы успеем беспомешно поговорить.
Матвей осторожно опустился в скрипучее, из ивовых прутьев сплетенное кресло, на минуту задумался, глядя на проезжающий мимо к торговым рядам крестьянский обоз с уставшими лошадьми, от которых шел на морозном воздухе сизый пар.
– Стрелецкий голова Киреев не иначе сказал государю, в каком бедственном положении оказались мы и стрельцы по прибытии князя Болховского с пустыми стругами! Оттого атаман Ермак и настоял, чтобы Иван Киреев с государевым ясаком да с царевичем Маметкулом спешно воротился на Москву с надежной охраной. Ведало атаманово сердце, что придется нам тяжко от бескормицы, но и он не мог предугадать, что зима выдастся настолько суровой…
Матвей без спешки, с остановками для вспоминания, рассказывал о той минувшей зиме, о сражениях под Кашлыком, у Бегишева городка, о ратном походе оставшихся в живых казаков в верховья Иртыша на выручку бухарского каравана, которого либо вовсе не было, либо он был, да злоехидный Кучум успел перенять и купчишек его использовал для приманки, чтобы заманить казаков в западню и погубить, подгадав ночевку ермаковцев после дневного похода по реке Вагай, да еще и буря как на грех нежданно разразилась в канун ночи…
– И все же не совсем удалась Кучуму его ратная хитрость! – закончил свой печальный рассказ Матвей, невольно поглаживая шершавый шрам над левым глазом – след татарской стрелы, как память о последнем сражении с кучумовцами. – Кабы не смерть негаданная атамана Ермака, так и вовсе осрамился бы он со своей затеей, потому как всего лишь семь казаков погибло той ночью вместе с атаманом. И погибли те, кто в дозоре малым числом стоял и первыми встретили татарскую толпу в несколько сот человек!.. Думаю, – добавил Матвей, разминая затекшие плечи, потом улыбнулся, уловив проникшие в горницу запахи жареного с чесноком гуся, – воеводе Мансурову полегче будет, чем нам. У него и войска больше, да и лучшие воины Кучума полегли уже в драках с нашими казаками. Слышь, Иван, мой живот урчит, как утроба голодного волка в лютую зиму! – Матвей трижды хлопнул ладонями о колени. Видно было, что только теперь, достигнув Москвы и сохранив в целостности государев ясак и своих казаков, он начал, что называется, оттаивать душой после сибирских потрясений и долгой многотрудной дороги от Кашлыка до Москвы. – Не пора ли нам с тем гусем разделаться, а о делах московских поговорим, когда урчание в кишках поутихнет, чтобы слова можно было хорошо расслышать!
Иван Черкас скупо улыбнулся, погладил длинную бороду левой рукой, на которой отсутствовал мизинец, поднялся с табурета, подмигнул серым правым глазом, пошутил:
– Правду старики сказывали, что сытый волк добрее голодной собаки! Вы с дороги, проголодались, а я с расспросами… Покличу кашевара, принесет нам, чем бог нынче наш котел артельный пожаловал! После обеда протопим баню на берегу Яузы, чтобы твои казаки отмылись с дороги, надели чисто белье, а снятое исподнее отдадим тутошним бабам, они за умеренную плату отстирают ваши рубахи да портки со щелоком, чтоб ни одна вша не уцелела! После бани и поговорим о делах московских, в меру того, что мы успели узнать от простолюдинов – в Боярскую думу для беседы казаков не приглашают.
За долгую и холодную дорогу в санях по льду Камы, Волги, Оки, а от Коломны по Москве-реке, казаки истосковались по горячей бане, а потому и неистово парились душистыми вениками. Иные из них с красными от жары телами с воплем выскакивали из разбухших дверей и с головой ныряли в пушистые сугробы недавно выпавшего снега. Балагур Ортюха Болдырев, вспоминая давние годы своей развеселой скоморошьей жизни, силком выволок за руку орущего диким голосом длинноногого рыжего Яшку Ясыря, хлестал его по распаренной спине березовым веником и горланил припевку:
Баба сеяла, трусила,
Что-то бабу укусило!
Баба юбку кверху – хлоп!
Оказалося, что клоп!
С последними словами свалил Гришку в сугроб, перевернул два раза окаменевшего от ужаса казака, потом взвалил себе на спину и с хохотом потащил снова в баню, из-под притолоки которой густыми клубами вырывался на волю пахнувший мылом и вениками белоснежный пар.
Матвей Мещеряк и оба есаула Иван Черкас и Савва Болдырь, отдыхая после парной, сидели в своей горнице при свече, пили хмельной мед небольшими глотками и обсуждали последние московские новости.
– Ныне в Москве, – неспешно рассказывал Иван Черкас, – оживилось большое боярство, которое при царе Иване Васильевиче понесло от опричников изрядный урон как в людях, царем казненных, так и в имуществе, в землях, отнятых и отданных в пользу служилого дворянства. Царь Иван Васильевич скончался восемнадцатого марта прошлого года, а первого мая, на день памяти святого пророка Иеремии, венчался на царство Федор Иванович. Да только слух по Москве ходит, что новый царь умом слаб, все больше в молитвах пребывает, а всеми делами заправляет первейший среди родственников царевны Ирины наипервейший из бояр конюший Борис Федорович Годунов, ее братец. В Боярской думе ныне идет едва ли не открытая грызня среди бояр старой знати и тех, кто возвысился из опричников. Среди новых бояр служилые князья Шуйские, Трубецкие и родственники царицы многочисленные Годуновы. Старые бояре уже изгнали из Думы многих близко бывших к царю Ивану Васильевичу опричников, таких, как Бельский, Нагие, Зюзины. А зачалась свара с того, что племянник злославного Малюты Скуратова Богдан Бельский сотворил смуту в Кремле и вознамерился возродить опричнину, как то было при царе Иване Васильевиче. А еще говорили старые бояре, что Бельский порешил убрать от царя Федора опекунов, которых назначил царю Федору его батюшка незадолго до своей кончины – князей Мстиславского, Ивана Шуйского и Никиту Романовича Юрьева. Убрав из Москвы опекунов, Богдан Бельский мыслил править сам всей Русью! Во как, а!
– И что же случилось? Где теперь Богдан Бельский? Убит, должно, ежели правителем значится Борис Годунов? – уточнил Матвей, немало удивляясь тому, что они в Сибири все эти годы полагали, что у них за спиной в Москве тишь да гладь да божья благодать! А оказалось, что бояре в Кремле жалят друг друга пуще ядовитых пауков, кинутых в тесный горшок!
– А случилось то, что Богдан Бельский ввел в Кремль верных ему стрельцов, обещав им великое от государя Федора Ивановича жалование. Дело это выпало на девятое апреля, в день отъезда из Москвы литовского посла Сапеги. Бояре узнали, что Богдан Бельский затворил ворота Кремля, поспешили туда, но стрельцы Бельского не впустили их. Долго препирались, но двум государевым опекунам Ивану Мстиславскому и Никите Юрьеву удалось пройти за кремлевские стены, однако их стражу стрельцы задержали. Слуги убоялись, что Богдан Бельский убьет их бояр, захотели силой пройти и в кремлевских воротах затеялась нешуточная драка. На шум стали сбегаться со всех концов Москвы горожане. Стрельцы Бельского бросили махать кулаками и схватились за оружие. Горожане навалились на ворота Фроловской башни, секли их топорами. Вон, видишь, Матвей, аккурат около Земского двора строение? Это арсенал. Горожане открыли его двери и захватили всякого оружия, порох. Иные кинулись громить торговые ряды… Такая свара поднялась – хоть святых из города выноси – стыдно им видеть все это.
– А что же бояре в Кремле? – поторопил Матвей умолкнувшего было Ивана Черкаса, и тот, с сожалением отставив пустую деревянную кружку, вновь продолжил речь о московских событиях прошлого года.
– На Лобном месте стояла большая пушка. Так стрельцы с посада поворотили пушку на Кремль и готовились было уже стрелять ядрами. Видя такое возмущение в народе, бояре помирились между собой, а чтобы горожане не пожгли их дворы, выехали из Кремля и объявили, что царь Федор Иванович прощает им вину за мятеж. Тогда народ стал кричать думному дворянину Безнину, который был, сказывают, воспитателем теперешнего царя, и дьяку Щелкалову, что Богдан Бельский и его близкие бояре от опричнины изменники и воры, что князя Мстиславского уже верно убили. А пуще всего посадские кричали, чтобы им выкинули из Кремля Богдана Бельского для расправы!
– Славно! – не удержался и прихлопнул ладонями о столешницу Матвей Мещеряк. – Получается, что когда народ чего захочет, то и стены Кремля ему не помеха! И что же?
– Видя такое смятение московского люда, бояре в Кремле и вовсе пришли в крайний страх, что чернь ворвется и им всем достанется испытать на себе гнев толпы. За благо сочли объявить народу, что Боярская дума постановила отослать Богдана Бельского в ссылку из Москвы в Нижний Новгород!
– Должно, в темницу упекли строптивого Богдашку, ась? – засмеялся Матвей и, радуясь такому обороту дела, подмигнул Ивану.
– Как же! Ворон ворону глаз не выклюет! – скептически ответил Иван Черкас, скомкал беспалой левой рукой длинную бороду. – Богдана Бельского услали в Нижний Новгород воеводой на кормление.
– Вот так та-ак! – Матвей был снова поражен словами есаула. – Выходит, изловили серого волка в коровнике, посрамили словесно да и кинули в овчарню грехи замаливать! Тем и кончилась московская смута? Ну и чудеса в решете! И что народ? Засмирел?
– Да, Матвей! Кипел московский котел недолго, весь пар из него разом вышел. После этих событий созвали Собор и венчали Федора Ивановича на царство.
– А вы, часом, в той смуте не были замешаны? – поинтересовался Матвей Мещеряк, с хитрецой поглядывая на есаулов, словно давая понять, что сам он вряд ли усидел бы дома, когда в городе такое волнение простолюдинов против боярства.
– Свои собаки грызутся – чужая не встревай! Так говорят в народе. Московские посадские подрались да и разошлись по домам, где у каждого своя печь и горшок с кашей, а мы харчишки от московских правителей имеем. Не угодим чем – так живо припомнят нам прежние грехи и про цареву службу в Сибири забудут!
Матвей думал над словами есаула не долго, нашел доводы разумными, согласился:
– Твоя правда, Иван. Москва – не вольная степь, тут свой норов не враз покажешь, мигом окоротят руки, а то и само туловище! Ну, а ныне каково в Москве? Надобно знать нам доподлинно, чтобы не обмишулиться ненароком. Случись чему быть, а мы поставим не на ту боярскую шапку, так и сами получим ослопом по загривку!
– Ныне в Москве затишье, ежели не считать, что летом были сильные пожары и в Кремле, и здесь, в Китай-городе, и в Белом городе.
– Видели мы, проезжая Никольской улицей, в некоторых местах большие погорелые места, где теперь новые срубы ставят, – подтвердил Матвей. – Что еще важного знать нам надобно?
– Ныне в Кремле благоволят в некоторой мере служилым дворянам, которые весьма истощались военными сборами, да бегством крестьян к богатым боярам. И между собой те бояре часто сговариваются, чтобы удалить от престола кого из опасных им ближних к царю. Так поступили с главным опекуном Федора Ивановича боярином Иваном Федоровичем Мстиславским. Поговаривали тишком, что он строил заговор, чтобы развести царя и его неплодную жену Ирину, сестрицу Бориса Годунова, а это было бы гибельно для Бориса, вот он и добился царского указа об опале боярина Мстиславского. И еще один опекун, старый боярин Никита Романович Юрьев отошел от дел по болезни, так что у Годунова теперь за главного недруга князь Иван Петрович Шуйский с родичами, да князья Воротынские, Головины да Колычевы. Да их сторону держат многие служивые люди, за них же ратуют городские людишки, недовольные тем, что худородные Годуновы через сестру Ирину прибрали власть в свои руки.
– Выходит, Иван, что супротивники в Боярской думе с обеих сторон затаились, будто волки в кустах перед овечьим стадом, ждут нужного часа вцепиться жертве в горло. Так ли?
– Выходит, что так. Не следует забывать, что в городе Угличе со своей матушкой Марией Нагой проживает царевич Дмитрий, малолетний сын царя Ивана Васильевича. А семья Нагих велика, и за так-запросто не захотят упустить законного случая посадить на царский трон Дмитрия, случись смерти бездетного царя Федора Ивановича. – Есаул Иван помолчал, поглядывая здоровым глазом на атамана, недобро усмехнулся. – Мы еще увидим большие потрясения на Руси. Только нам не с руки в их кашу ввязываться, можно и голову потерять. Мудрый ворон с вершины дуба посматривает, как волк телка клыками режет, знает, что и ему что-то да останется от этого кровавого пиршества.
Савва Болдырь на слова Черкаса молча улыбнулся, покривив порченную ножом нижнюю губу, а Матвей Мещеряк смолчал, подумал про себя: «Обжились есаулы в Москве, домоседским духом пропитались, отвыкли от степного ветра да от плеска волн о борта стругов». Сказал после минутной тишины, которая наступила после слов Черкаса:
– Случись какой смуте боярской быть – поднимемся скопом и уйдем на Волгу, а с Волги на Яик, к давнему знакомцу атаману Богдану Барбоше с товарищами. Ну, други, будет ныне головы всякими думками нагружать, устал дюже с дороги. Давайте спать, а там поглядим и на Москву, и на дела московские, каким боком они к нам обернутся… Господь добр, да черт проказлив, – неожиданно вспомнилась любимая присказка покойного атамана Ермака.