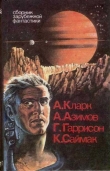Текст книги "Человек, который дружил с электричеством (сборник)"
Автор книги: Владимир Баканов
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– Сто девять тысяч восемьсот семьдесят два.
– Ну перестань. Сорок?
– Тридцать.
– Нет, в самом деле? – Она счастлива. – Значит, между нами всего десять лет разницы.
– Ты любишь меня, Лиззи?
– Я хочу, чтобы между нами что-то было.
– Неужели обязательно со мной?
– Я понимаю, это бесстыдно. – Она опустила глаза. – Мне кажется, женщины всегда вешались тебе на шею.
– Не всегда.
– Ты что, святой? То есть… понимаю, я не головокружительно красива, но ведь и не уродлива.
– Ты прекрасна.
– Так неужели ты даже не коснешься меня?
– Я пытаюсь защитить тебя.
– Я сама смогу защититься, когда придет время.
– Время пришло, Лиззи.
– По крайней мере, мог бы оскорбить меня, как битницу перед лифтом.
– Подсматривала?
– Конечно. Не считаешь ли ты, что я буду сидеть сложа руки? Надо приглядывать за своим мужчиной.
– Твоим мужчиной?

– Так случается, – проговорила она тихо. – Я раньше не верила, но… Ты влюбляешься и каждый раз думаешь, что это настоящее и навсегда. А затем встречаешь кого-то, и это больше уже не вопрос любви. Просто ты знаешь, что он твой мужчина.
Она подняла глаза и посмотрела на меня. Фиолетовые глаза, полные юности, решимости и нежности, и все же старше, чем глаза двадцатилетней… гораздо старше. Как я одинок – никогда не смея любить, ответить на дружбу, вынужденный жить с теми, кого ненавижу. Я мог провалиться в эти фиолетовые глаза.
– Хорошо, – сказал я. И посмотрел на часы. Час ночи. Тихое время, спокойное время. Боже, сохрани мне английский… Я снял пиджак и рубашку и показал спину, исполосованную шрамами. Лиззи ахнула.
– Самоистязание, – объяснил я. – За то, что позволил себе сдружиться с мужчиной. Это цена, которую заплатил я. Мне повезло. Теперь подожди.
Я пошел в спальню, где в правом ящике стола, в серебряной коробке, лежал стыд моего сердца. Я принес коробку в гостиную. Лиззи наблюдала за мной широко раскрытыми глазами.
– Пять лет назад меня полюбила девушка. Такая же, как ты. Я был одинок в то время, как и всегда. Вместо того, чтобы защитить ее от себя, я потворствовал своим желаниям. Я хочу показать тебе цену, которую заплатила она. Это отвратительно, но я должен…
Вспышка. Свет в доме ниже по улице погас и снова загорелся. Я прыгнул к окну. На пять долгих секунд погас свет в соседнем доме. Ко мне подошла Лиззи и взяла меня за руку. Она дрожала.
– Что это? Что случилось?
– Погоди, – сказал я.
Свет в квартире погас и снова загорелся.
– Они обнаружили меня, – выдохнул я.
– Они? Обнаружили?
– Засекли мои передачи уном.
– Чем?
– Указателем направления. А затем отключали электричество в домах во всем районе, здание за зданием… пока передача не прекратилась. Теперь они знают, в каком я доме, но не знают квартиры.
Я надел рубашку и пиджак.
– Спокойной ночи, Лиззи. Хотел бы я поцеловать тебя.
Она обвила мою шею руками и стала целовать; вся тепло, вся бархат, вся для меня. Я попытался оттолкнуть ее.
– Ты шпион, – прошептала она. – Я пойду с тобой на электрический стул.
– Если бы я был шпионом… – Я вздохнул. – Прощай, моя Лиззи. Помни меня.
Soyez ferme[11]11
Будьте стойкими (франц.).
[Закрыть]. Колоссальная ошибка, как это только могло сорваться у меня с языка. Я выбегаю, и тут этот маленький дьявол скидывает туфельки и рвет до бедра узенькую юбчонку, чтобы та не мешала бежать. Она рядом со мной на пожарной лестнице, ведущей вниз к гаражу. Я грубо ругаюсь, кричу, чтобы она остановилась. Она ругается еще более грубо, все время смеясь и плача. Проклятье! Она обречена.
Мы садимся в машину, «астон-мартин», но с левосторонним управлением, и мчимся по Пятьдесят третьей, на восток по Пятьдесят четвертой и на север по Первой авеню. Я стремлюсь к мосту, чтобы выбраться из Манхаттана. На Лонг-Айленде у меня свой самолет, припасенный для подобных случаев.
– J’y suis, J’y reste[12]12
Я здесь, я здесь и останусь (франц.).
[Закрыть] – не мой девиз, – сообщаю я Элизабет Чалмерс, чей французский так же слаб, как грамматика… трогательная слабость.
– Однажды меня поймали в Лондоне на почтамте. Я получал почту до востребования. Послали мне чистый лист в красном конверте и проследили до Пикадилли, 139, Лондон. Телефон: Мейфэр 7211. Красное – это опасность. У тебя везде кожа красная?
– Она не красная! – возмущенно воскликнула Лиззи.
– Я имею в виду розовая.
– Только там, где веснушки, – сказала она, – Что за бегство? Почему ты говоришь так странно и поступаешь так необычно? Ты действительно не шпион?
– Вероятно.
– Ты существо из другого мира, прилетевшее на неопознанном летающем объекте?
– Это тебя пугает?
– Да, если мы не сможем любить друг друга.
– А как насчет завоевания Земли?
– Меня интересует только завоевание тебя.
– Я никогда не был существом другого мира.
– Тогда кто ты?
– Компенсатор.
– Что это такое?
– Знаешь словарь Франка и Вагнелла? Издание Франка X. Визетелли? Цитирую: «То, что компенсирует, устройство для нейтрализации местных влияний на стрелку компаса, автоматический аппарат для выравнивания газового давления в…» Проклятье!
Франк X. Визетелли не употреблял этого нехорошего слова. Оно вырвалось у меня, потому что мост заблокирован. Следовало ожидать. Вероятно, заблокированы все мосты, ведущие с 24-долларового острова. Можно съехать с моста, но ведь со мной чудесная Элизабет Чалмерс. Все. Стоп, машина. Сдавайся.
– Kamerad, – произношу я и спрашиваю: – Кто вы? Ку-клукс-клан?
Он пристально смотрит на меня, наконец открывает рот:
– Специальный агент Кримс из ФБР, – и показывает значок.
Я ликую и радостно его обнимаю. Он вырывается и спрашивает, в своем ли я уме. Мне все равно. Я целую Лиззи Чалмерс, и ее раскрытый рот под моим шепчет:
– Ни в чем не признавайся. Я вызову адвоката.
Залитый светом кабинет на Фоли-сквер. Так же расставлены стулья, так же стоит стол. Мне часто доводилось проходить через это. Напротив – неприметный человек с блеклыми глазами из утренней подземки. Его имя – С. И. Долан.
Мы обмениваемся взглядами. Его говорит: я блефовал сегодня. Мой: я тоже. Мы уважаем друг друга. И начинается допрос с пристрастием.
– Вас зовут Абрахам Мейсон Сторм?
– По прозвищу Бейз.
– Родились 25 декабря?
– Рождественский ребенок.
– 1929 года?
– Дитя депрессии.
– Я вижу, вам весело.
– Юмор висельника, С. И. Долан. Отчаяние. Я знаю, что вы никогда ни в чем не сможете меня обвинить, и оттого в отчаянии.
– Очень смешно.
– Очень грустно. Я хочу быть осужденным… но это безнадежно.
– Родной город Сан-Франциско?
– Да.
– Два года в Беркли. Четыре во флоте. Кончили Беркли, по статистике.
– Стопроцентный американский парень.
– Нынешнее занятие – финансист?
– Да.
– Конторы в Нью-Йорке, Риме, Париже, Лондоне?
– И в Рио.
– Имущества в акциях на три миллиона долларов?
– Нет, нет, нет! – Яростно. – Три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать три доллара тридцать три цента.
– Три миллиона долларов, – настаивал Долан. – В круглых числах.
– Круглых чисел нет, есть только формы.
– Сторм, чего вы добиваетесь?
– Осудите меня! – взмолился я. – Я хочу попасть на электрический стул, покончить со всем этим.
– О чем вы говорите?
– Спрашивайте, я отвечу.
– Что вы передаете из своей квартиры?
– Из какой именно? Я передаю изо всех.
– Нью-йоркской. Мы не можем расшифровать.
– Шифра нет, лишь набор случайностей.
– Что?
– Спокойствие, Долан.
– Спокойствие!
– Об этом же меня спрашивали в Женеве, Берлине, Лондоне, Рио. Позвольте мне объяснить.
– Слушаю вас.
Я глубоко вздохнул. Это всегда так трудно. Приходится обращаться к метафорам. Время три часа ночи. Боже, сохрани мне английский.
– Вы любите танцевать?
– Какого черта?!.
– Будьте терпеливы, я объясню. Вы любите танцевать?
– Да.
– В чем удовольствие от танца? Мужчина и женщина вместе составляют… ритм, образец, форму. Двигаясь, ведя, следуя. Так?
– Ну?
– А парады… Вам нравятся парады? Масса людей, взаимодействуя, составляют единое целое.
– Погодите, Сторм…
– Выслушайте меня, Долан. Я чувствителен к формам… больше, чем к танцам или парадам, гораздо больше. Я чувствителен к формам, порядкам, ритмам Вселенной… всего ее спектра… к электромагнитным волнам, группировкам людей, актам враждебности и радушия, к ненависти и добру… И я обязан компенсировать. Всегда.
– Компенсировать?
– Если ребенок падает и ушибается, его целует мать. Это компенсация. Негодяй избивает животное, вы бьете его. Да? Если нищий клянчит у вас слишком много, вы испытываете раздражение. Тоже компенсация. Умножьте это на бесконечность и получите меня. Я должен целовать и бить. Вынужден. Заставлен. Я не знаю, как назвать это принуждение. Вот говорят: экстрасенсорное восприятие, пси. А как назвать экстраформенное восприятие? Пи?
– Пик? Какой пик?
– Шестнадцатая буква греческого алфавита, обозначает отношение длины окружности к ее диаметру. 3,141592… Число бесконечно… бесконечно мучение для меня…
– О чем вы говорите, черт побери?!
– Я говорю о формах, о порядке во Вселенной. Я вынужден поддерживать и восстанавливать его. Иногда что-то требует от меня прекрасных и благородных поступков; иногда я вынужден творить безумства: бормотать нелепицу, срываться сломя голову неизвестно куда, совершать преступления… Потому что формы, которые я воспринимаю, требуют регулирования, выравнивания.
– Какие преступления?
– Я могу признаться, но это бесполезно. Формы не дадут мне погибнуть. Люди отказываются присягать. Факты не подтверждаются. Улики исчезают. Вред превращается в пользу.
– Сторм, клянусь, вы не в своем уме.
– Возможно, но вы не сумеете запрятать меня в сумасшедший дом. До вас уже пытались. Я сам хотел покончить с собой. Не вышло.
– Так что же насчет передач?
– Эфир переполнен излучениями. К ним я тоже восприимчив. Но они слишком запутанны, их не упорядочить. Приходится нейтрализовывать. Я передаю на всех частотах.
– Вы считаете себя сверхчеловеком?
– Нет, никогда. Просто я тот, кого повстречал Простак Симон.
– Не стройте из себя шута.
– Я не строю. Неужели вы не помните считалку: «Простак Симон вошел в вагон, нашел батон. Но тут повстречался ему Пирожник. „Отдай батон!“ – воскликнул он». Я не Пи-рожник. Я – Пи-человек.
Долан усмехнулся.
– Мое полное имя Симон Игнациус Долан.
– Простите, я не знал.
Он взглянул на меня, тяжело вздохнул, отбросил в сторону мое досье и рухнул в кресло. Это сбило форму, и мне пришлось пересесть. Он скосил на меня глаза.
– Пи-человек, – объяснил я.
– Ну, хорошо, – сказал он. – Не можем вас задерживать.
– Все пытаются, – заметил я, – никто не может.
– Кто «все»?
– Контрразведки, убежденные, что я шпион; полиция, интересующаяся моими связями с самыми подозрительными лицами; опальные политики в надежде, что я финансирую революцию; фанатики, возомнившие, что я их богатый мессия… Все выслеживают меня, желая использовать. Никому не удается. Я часть чего-то гораздо большего.
– Между нами, что это были за преступления?
Я набрал воздуха.
– Вот почему я не могу иметь друзей. Или девушку. Иногда где-то дела идут так плохо, что мне приходится делать пугающие жертвы, чтобы восстановить положение. Например, уничтожить существо, которое люблю. Я… имел собаку, лабрадора, настоящего друга. Нет… не хочу вспоминать. Парень, с которым мы вместе служили во флоте… Девушка, которая любила меня… А я… Нет, не могу. Я проклят! Некоторые формы, которые я должен регулировать, принадлежат не нашему миру, не нашему ритму… ничего подобного на Земле вы не почувствуете. 29/51… 108/303… Вы удивлены? Вы не знаете, что это может быть мучительно? Отбейте темп в 7/5.
– Я не разбираюсь в музыке.
– И не надо. Попробуйте за один и тот же промежуток времени отбить правой рукой пять раз, а левой – семь. Тогда поймете сложность и ужас наплывающих на меня форм. Откуда? Я не знаю. Эта непознанная Вселенная слишком велика для понимания. Но я должен следовать ритму ее форм, регулировать его своими действиями, чувствами, помыслами, а какая-то чудовищная сила меня подталкивает вперед и выворачивает назад наизнанку…
– Теперь другую, – твердо произнесла Элизабет, – Подними.
Я на кровати. Половина (0,5) в пижаме; другая половина (0,5) борется с веснушчатой девушкой. Я поднимаю. Пижама на мне, и уже моя очередь краснеть. Меня воспитали гордым.
– Оm mani padme hum, – сказал я. – Что означает: о сокровище в лотосе. Это о тебе. Что произошло?
– Мистер Долан сказал, что ты свободен, – объяснила она. – Мистер Люндгрен помог внести тебя в квартиру. Сколько ему дать?
– Cinque lire. No. Parla Italiana, gentile Signorina?[13]13
Пять лир. Нет. Вы говорите по-итальянски, милая синьорина? (итал.).
[Закрыть]
– Мистер Долан мне все рассказал. Это снова твои формы?
– Si.[14]14
Да (итал.).
[Закрыть]
Я кивнул и стал ждать. После остановок на греческом и португальском английский, наконец, возвращается.
– Какого черта ты не уберешься отсюда, пока цела, Лиззи Чалмерс?
– Я люблю тебя, – сказала она, – Забирайся в постель… и оставь место для меня.
– Нет.
– Да. Женишься на мне позже.
– Где серебряная коробка?
– В мусоропроводе.
– Ты знаешь, что в ней было?
– Это чудовищно – то, что ты сделал! Чудовищно! – Дерзкое личико искажено ужасом. Она плачет, – Что с ней теперь?
– Чеки каждый месяц идут на ее банковский счет в Швейцарию. Я не хочу знать. Сколько может выдержать сердце?
– Кажется, мне предстоит это выяснить.
Она выключила свет. В темноте зашуршало платье. Никогда раньше не слышал я музыки существа, раздевающегося для меня… Я сделал последнюю попытку спасти ее.
– Я люблю тебя, – сказал я. – Ты понимаешь, что это значит. Когда ситуация потребует жертвы, я могу обойтись с тобой даже еще более жестоко…
– Нет. Ты никогда не любил.
Она поцеловала меня.
– Любовь сама диктует законы.
Ее губы были сухими и потрескавшимися, кожа ледяной. Она боялась, но сердце билось горячо и сильно.
– Ничто не в силах разлучить нас. Поверь мне.
– Я больше не знаю, во что верить. Мы принадлежим Вселенной, лежащей за пределами познания. Что, если она слишком велика для любви?
– Хорошо, – прошептала Лиззи. – Не будем собаками на сене. Если любовь мала и должна кончиться, пускай кончается. Пускай такие безделицы, как любовь, и честь, и благородство, и смех, кончаются… Если есть что-то большее за ними…
– Но что может быть больше? Что может быть за ними?
– Если мы слишком малы, чтобы выжить, откуда нам знать?
Она придвинулась ко мне, холодея всем телом. И мы сжались вместе, грудь к груди, согревая друг друга своей любовью, испуганные существа в изумительном мире вне познания… страшном, но все же ожжж иддд аю щщщщщ еммм…
Лестер Дель Рей
КРЫЛЬЯ НОЧИ
– Черт подери всех марсияшек! – Тонкие губы Толстяка Уэлша выплюнули эти слова со всей злобой, на какую способен оскорбленный представитель высшей расы. – Взяли такой отличный груз, лучшего иридия ни на одном астероиде не сыщешь, только-только дотянули до Луны – и, не угодно ли, опять инжектор барахлит. Ну, попадись мне еще разок этот марсияшка…
– Ага. – Тощий Лейн нашарил позади себя гаечный ключ с изогнутой рукояткой и, кряхтя и сгибаясь в три погибели, снова полез копаться в нутре машинного отделения. – Ага. Знаю. Сделаешь из него котлету. А может, ты сам виноват? Может, марсиане все-таки тоже люди? Лиро Вмакис тебе ясно сказал – чтобы полностью разобрать и проверить инжектор, нужно два дня. А ты что? Заехал ему в морду, облаял его дедов и прадедов и дал ровным счетом восемь часов на всю починку. А теперь хочешь, чтоб он при такой спешке представил тебе все в ажуре… Ладно, хватит, найди-ка лучше отвертку.
К чему бросать слова на ветер? Сто раз он спорил с Уэлшем – и все без толку. Толстяк – отличный космонавт, но начисто лишен воображения, никак не позабудет бредятину, которой пичкает своих граждан Возрожденная Империя: о высоком предназначении человека, о божественном промысле – люди, мол, для того и созданы, чтоб помыкать всеми иными племенами. А впрочем, если бы Толстяк его и понял, так ничего бы не выиграл. Лейн и высоким идеалам цену знает, тоже радости мало.
Он-то к окончанию университета получил лошадиную дозу этих самых идеалов да еще солидное наследство – хватило бы на троих – и вдохновенно ринулся в бой. Писал и печатал книги, произносил речи, беседовал с официальными лицами, вел переговоры в кулуарах, вступал в разные общества и сам их создавал и выслушивал по своему адресу немало брани. А теперь он ради хлеба насущного перевозит грузы по трассе Земля– Марс на старой, изношенной ракете. На четверть ракета – его собственность, а тремя четвертями владеет Толстяк Уэлш, который возвысился до этого без помощи каких-либо идеалов, хотя начинал уборщиком в метро.
– Ну? – спросил Толстяк, когда Лейн вылез наружу.
– Ничего. Не могу я это исправить, слабовато разбираюсь в электронике. Что-то разладилось в реле прерывателя, но по индикаторам не поймешь, где непорядок, а наобум искать опасно.
– Может, до Земли дотянем?
Тощий покачал головой.
– Навряд ли. Лучше сядем где-нибудь на Луне, если ты сумеешь дотащить нашу посудину. Тогда, может, и найдем поломку, прежде чем кончится воздух.
Толстяку тоже это приходило в голову. Пытаясь как-то уравновесить перебои в подаче горючего и кляня лунное притяжение – хоть и слабое, оно порядком мешало, – он повел ракету к намеченному месту: посреди небольшой равнины он высмотрел на редкость чистую и гладкую площадку, без каменных обломков и выбоин.
– Пора бы тут устроить аварийную станцию, – пробурчал он.
– Когда-то станция была, – сказал Лейн. – Но ведь на Луну никто не летает, и пассажирским кораблям тут садиться незачем, проще выпустить закрылки и сесть в земной атмосфере, чем тратить здесь горючее. А грузовики вроде нас не в счет. Странно, какая ровная и чистая эта площадка. Высота не больше мили, и ни одной метеоритной царапинки не видно.
– Стало быть, нам повезло. Не хотел бы я шлепнуться в какой-нибудь поганый кратер и сбить дюзу или пропороть обшивку. – Толстяк взглянул на высотомер и на указатель скорости спуска. – Мы здорово грохнемся. Если… Эй, что за черт?
Тощий Лейн вскинул глаза на экран: в тот миг, как они готовы были удариться о поверхность, ровная площадка раскололась надвое, половинки плавно скользнули в стороны – и ракета стала медленно опускаться в какой-то кратер. Он быстро расширялся, дна не было видно. Рев двигателей вдруг стал громче. А экраны верхнего обзора показали, что над головой опять сошлись две прозрачные пластины. Веря и не веря собственным глазам, Лейн уставился на указатель высоты.
Опустились на сто шестьдесят миль и попались в ловушку! Судя по шуму, тут есть воздух. Что за капкан, откуда он взялся? Бред какой-то!
– Сейчас не до того. Обратно не проскочить, пойдем вниз, а там разберемся. Черт, неизвестно еще, какая внизу площадка.
В таких вот случаях очень кстати, что Толстяк не страдает избытком воображения. Делает свое дело – опускается в исполинский кратер, будто на космодром в Йорке, и занят только неравномерностью вспышек из-за барахлящего инжектора, а что ждет на дне, ему плевать. Тощий удивленно посмотрел на Толстяка, потом вновь уставился на экраны – может, удастся понять, кто и зачем построил этот капкан.
Лъин лениво поворошил кучку песка и истлевшего сланца, выудил крохотный красноватый камешек, с первого раза не замеченный, и медленно поднялся на ноги. Спасибо Великим, очень вовремя они послали ему осыпь: старые грядки столько раз перерыты, что уже совсем истощились. Чуткими ноздрями он втянул запах магния, немножко пахло железом, и серы тут сколько угодно, все очень, очень кстати. Правда, он-то надеялся найти медь – хоть щепотку. А без меди…
Он отогнал эту мысль, как отгонял уже тысячи раз, и подобрал грубо сработанную корзину, набитую камешками пополам с лишайником, которым заросла эта часть кратера. Свободной рукой растер в пыль осколок выветрившегося камня заодно с клочком лишайника и все вместе отправил в рот. Благодарение Великим за эту осыпь! Приятно ощущать на языке душистый магний, и лишайник тоже вкусный, сочный, потому что почва вокруг неистощенная. Если бы еще хоть крупицу меди – больше и желать нечего.
Лъин печально вильнул гибким хвостом, крякнул и побрел назад, к себе в пещеру; мельком глянул вверх, на далекий свод. Там, наверху, за много миль, ослепительно сверкал луч света и, постепенно слабея и тускнея, слой за слоем пронизывал воздух. Значит, долгий лунный день близится к полудню, скоро солнце станет прямо над сторожевым шлюзом, и луч будет падать отвесно. Шлюз чересчур высоко, отсюда не увидишь, но Лъин знает: там, где покатые стены исполинской долины упираются в свод, есть перекрытое отверстие. Долгие тысячелетия вырождалось и вымирало племя Лъина, а свод все держится, хоть опорой ему служат только стены, образующие круг около пятидесяти миль в поперечнике, неколебимые, куда более прочные, чем сам кратер – единственный и вечный памятник былому величию его народа.
Лъин об этом не задумывался, он просто знал: свод создан не природой, его построили в те времена, когда Луна теряла остатки разреженной атмосферы и племя напоследок вынуждено было искать прибежища в самом глубоком кратере, где кислород можно было удержать, чтобы не улетучивался. Лъин смутно ощущал протекшие с тех пор века и дивился прочности сводчатой кровли, над которой не властно время.
Некогда народ его был велик и могуч, тому свидетельство – исполинская долина над сводом. Но время не щадило его предков, оно состарило весь народ, как старило каждого в отдельности, отнимало у молодых силу и растило в них медленные, сосущие всходы безнадежности. Какой смысл прозябать здесь, взаперти, одинокой малочисленной колонией, не смея выйти на поверхность собственной планеты? Их становилось все меньше, они позабыли многое, что знали и умели прежде. Машины сломались, рассыпались в прах, и новыми их не заменили. Племя вернулось к первобытному существованию, кормилось камнем, который выламывали из стен кратера, да выведенными уже здесь, внизу, лишайниками, что могли расти без солнечного света, усваивая энергию радиоактивного распада. И с каждым годом на грядках сажали все меньше потомства, но даже из этих немногих зерен прорастала лишь ничтожная доля, и от миллиона живущих остались тысячи, потом только сотни и под конец – горсточка хилых одиночек.
Лишь тогда они поняли, что надвигается гибель, по было уже поздно. Когда появился Лъин, в живых оставалось только трое старших, и остальные семена не дали ростков. Старших давно нет, уже многие годы Лъин в кратере один. Бесконечно тянется жизнь, вся она – только сон, да поиски пищи, да еще мысли, вечно одни и те же, а тем временем его мертвый мир больше тысячи раз обращал свое лицо к свету и вновь погружался во тьму. Однообразие медленно убивало его народ, уже скоро оно доведет свое дело до конца. Но Лъина не тяготит такая жизнь, он привык и не замечает скуки.
Он брел неспешно, в лад медлительному течению мыслей, долина осталась позади, вот и дверь жилища, которое он выбрал для себя среди множества пещер, вырезанных в стенах кратера. Он постоял еще под рассеянным светом далекого солнца, пережевывая новую порцию камня пополам с лишайником, потом вошел к себе. В освещении он не нуждался: еще в незапамятные времена, когда народ его был молод, камень стен насытили радиоактивностью, и глаза Лъина улавливали световые волны едва ли не любой длины. Через первую комнату мимо сплетенной из лишайников постели и кое-какой нехитрой утвари он прошел дальше. В глубине помещалась детская, она же и мастерская; неразумная, но упрямая надежда влекла его в самый дальний угол.
И, как всегда, понапрасну. В ящике, полном плодородной почвы, рыхлой, мягкой, заботливо политой, ни намека на жизнь. Ни единый красноватый росток не проклюнулся, никакой надежды на будущее. Зерно не проросло, близок час, когда всякая жизнь на родной планете угаснет. G горечью Лъин отвернулся от детской грядки.
Недостает такой малости – и это так много! Съесть бы всего несколько сот молекул любой медной соли – и зерна, зреющие в нем, дали бы ростки; или прибавить те же молекулы к воде, когда поливаешь грядку, – и проросли бы уже посеянные семена, выросли бы новые крепкие мужчины или, может, женщины. Каждый из племени Лъина носил в себе и мужское, и женское начало, каждый мог в одиночку дать зерно, из которого вырастут дети. И пока еще жив хоть один из племени, можно за год взрастить на заботливо ухоженной почве сотню молодых… если б только добыть животворный гормон, содержащий медь.
Но, как видно, не суждено. Лъин склонился к тщательно сработанному перегонному аппарату из выточенных вручную каменных сосудов и гибких стержней, скрепленных и связанных в трубки, и оба его сердца тоскливо сжались. Сухой лишайник и липкая смола все еще питали собою медленный огонь. Медленно сочилась из последней трубки капля за каплей и падала в каменную чашу. Но и от этой жидкости не исходит ни намека на запах медной соли. Что ж, значит, не удалось. Все, что за многие годы дал перегонный аппарат, Лъин подмешивал к воде, поливая грядку, почва детской всегда влажная, но ей не хватило минерала жизни. Почти бесстрастно Лъин вложил вечные металлические свитки, хранящие мудрость его племени, обратно в футляры и принялся разбирать на части химическое отделение мастерской.
Остается еще один путь, он труднее, опаснее, но иного выхода нет. Старинные записи говорят, что где-то под самым сводом, где воздух уже слишком разрежен и дышать нечем, есть вкрапления меди. Значит, нужны шлем, баллоны со сжатым воздухом; и еще крючья и скобы, чтобы взбираться по разъеденной временем древней дороге наверх, по лестнице, где разрушена половина ступеней; и нужны инструменты, распознающие медь, и насос, чтобы наполнить баллоны. Потом придется подтащить множество баллонов к началу подъема, устроить склад и, поднимаясь наверх, постепенно поднимать их тоже, оборудовать новые склады, пока цепь запасов не достигнет самого верха… и тогда, быть может, он найдет медь для возрождения.
Он старался не думать о том, сколько на все это понадобится времени и как мала надежда на успех. Нажал педаль – заработали маленькие мехи, в примитивной кузнице вспыхнули язычки голубого пламени; он достал металлические слитки – надо раскалить их, чтобы поддавались ковке. Вручную придать им ту форму, какой требуют старинные записи и чертежи, – задача почти немыслимая – и все же надо как-то справиться. Его народ не должен умереть!
Прошли долгие часы, а он все работал, и вдруг по пещере разнесся высокий пронзительный звук. В энергополе над створчатым шлюзом свода появился метеорит – и, видно, огромный! Такого, чтоб ожили защитные экраны, на памяти Лъина еще не бывало, и он думал, что механизм больше не действует, хоть и рассчитан был на века, ведь Солнце должно питать его своей энергией, пока не погаснет. В растерянности стоял он, глядя на дверь, и вот свистящий звук повторился.
Если сейчас же не нажать решетку вводного устройства, автоматически включатся отклоняющие силы, и метеорит упадет в стороне от свода. Лъин не успел об этом подумать, просто кинулся вперед и прижал пальцы к решетчатой панели. Потому-то он и поселился именно в этой пещере, некогда здесь помещалась стража, в далеком прошлом она впускала и выпускала немногочисленные ракеты-разведчики. Решетка на миг засветилась, значит, метеорит вошел в кратер, и Лъин опустил руку, чтобы створы шлюза вновь сошлись.
И направился к выходу, нетерпеливо ожидая падения метеорита. Быть может, Великие добры и наконец отозвались на его мольбы. Раз он не может найти медь у себя дома, они посылают ему дар извне – а вдруг это баснословное богатство? Быть может, метеорит так велик, что еле уместится на ладони! Но почему он все еще не упал? Цепенея от страха, Лъин тревожно всматривался в далекий свод – неужели он опоздал, и защитные силы отбросили метеорит прочь?
Нет, вон блеснул огонек – но не так должен бы вспыхнуть такой большой метеорит, врезаясь в сопротивляющийся воздух! До слуха наконец донесся сверлящий, прерывистый вой – метеорит должен бы звучать совсем иначе. В недоумении Лъин всмотрелся еще пристальней – да, вот он, гость, не падает стремглав, а опускается неторопливо, и яркий свет не угасает позади, а обращен вниз. Но это значит… это может означать только одно – разумное управление. Ракета!!!
На миг у Лъина все смешалось в голове – уж не возвращаются ли предки из какого-то другого, неведомого убежища? Или сами Великие решили его посетить? Но, привыкший рассуждать здраво, он отверг эти нелепые догадки. Не могла такая машина прилететь из безжизненных лунных пустынь, а только со сказочной планеты, что находится под его родным миром, либо с тех, которые обращаются вокруг Солнца по другим орбитам. Неужели там есть разумная жизнь?
Он мысленно перебрал в памяти записи, оставшиеся со времен, когда предки, пересекая космос, летали к соседним планетам – задолго до того, как было построено убежище в кратере. Основать там колонии не удалось, непомерно велика оказалась сила тяжести, но космонавты подробно осмотрели другие миры. На второй планете жили только чешуйчатые твари, скользящие в воде, да причудливые папоротники на редких клочках суши; на планете, вокруг которой обращается его родной мир, кишели исполинские звери, а сушу покрывали растения, глубоко уходящие корнями в почву. На этих двух не нашлось ни следа разума. Вот четвертую планету населяли существа более понятные, схожие с предшественниками его народа на долгом пути эволюции: жизнь не разделялась на животную и растительную, то и другое сочеталось в единстве. Шарообразные комочки живого вещества, движимые инстинктом, уже стягивались в стайки, но еще не могли общаться друг с другом. Да, из всех известных миров, вероятнее всего, именно там развился разум. Если же каким-то чудом ракета все-таки прилетела из третьего мира, надеяться не на что: слишком он кровожаден, это ясно из древних свитков, на каждом рисунке свирепые чудища, огромные, как горы, раздирают друг друга в клочья. Лъин услыхал, как опустился где-то поблизости корабль, и, полный страхов и надежд, направился к нему, туго свернув хвост за спиной.
Увидав у открытого люка двух пришельцев, он тотчас понял, что ошибся. Эти существа сложены примерно так же, как он, хотя гораздо крупней и массивнее. Значит, с третьей планеты. Он помедлил, осторожно наблюдая: они озираются по сторонам и явно рады, что тут есть чем дышать. Потом одно что-то сказало другому. Новое потрясение!
Оно говорит внятно, интонации явно разумны, но сами звуки – бессмысленное лопотанье. И это – речь? Должно быть, все же речь, хотя в словах ни малейшего смысла. Впрочем… как там, в старинных записях? Сла-Вольнодумец полагал, будто в древности у жителей Луны не было речи, они сами изобрели звуки и каждый наделили значением, и лишь после долгих веков привычка к звуковой речи преобразилась в инстинкт, с которым младенец рождался на свет; Вольнодумец даже подвергал сомнению ту истину, что сами Великие предусмотрели речь, осмысленные звуки как неизбежное дополнение к разуму. И вот… кажется, он был прав. Ощупью пробиваясь в тумане нежданного открытия, Лъин собрал свои мысли в направленный луч.