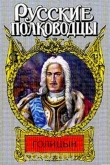Текст книги "Роман (СИ)"
Автор книги: Владимир Лисицын
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
145.
– При чём тут казаки, – встрепенулся Ростропович, – при чём тут Разин:! Это же Ленин. Явно – Ленин! С "возвышенным челом".
Шаляпин откинулся на спинку солнечного кресла, посмотрел в сторону Ростроповича и Вишневской, и спросил: "А что теперь слушают в России"?
– Мы слушали Шостаковича, – незадумываясь ответил Ростропович. – А нынешним, я думаю, надо вслушиваться в музыку Шнитке.
– Не знаю, – протянул Шаляпин.
И тут, вдруг, возвысил голос Николай Александрович: "Но хоть кто-нибудь из нашего семейства нашёл спасение"?
– О да, Ваше Величество, – радостно воскликнула Кшесинская, изобразив что-то вроде реверанса, – Великая княгиня Мария Павловна и её сыновья – Борис и Андрей, женою которого я стала! В июне восемнадцатого, мы все вместе спасались в Кисловодске.
И она открыла лицо своё, сняв полумаску.
– Ну, ещё бы Михен не спаслась, – почти что фыркнула Государыня.
– Да ,но Кисловодск заняли большевики, которые даже арестовали Великих князей Бориса и Андрея. Потом, большевиков прогнал атаман Шкуро со своими казаками. Но их было слишком мало, и снова пришли большевики, и князья бежали в горы, в Кабарду, на парной линейке. Это было в августе. И только в сентябре они спустились с гор верхом, в сопровождении кабардинской знати, которая охраняла их во время перехода. За то время, что братья спасались в горных аулах, они обросли бородами, и моего Андрея многие принимали за Государя. И действительно сходство было
Императрица фыркнула, и с укором посмотрела на мужа. Царские дети разом посмотрели на родителей. Николай Александрович явно смутился.
– Но потом был ужас! – замахала руками Кшесинская, спешно возвращая внимание окружающих к своему рассказу. – Из Кисловодска нам всё же пришлось бежать в аул Тамбиевский. Но на полпути вся наша колонна беженцев попала под артиллерийский огонь большевистской батареи. Снаряды рвались над нашими головами, и паника поднялась ужасная. Кто стал гнать лошадей вперёд, кто бросился в сторону от дороги, чтобы укрыться от опасности. Среди этой паники, вдруг, в мою телегу вскакивает совершенно ошалелый военный врач и ложится на живот, не обращая внимания на то, что и без него нам в телеге было тесно. Даже в такие трагические моменты это было очень смешно.
И она сама вдруг весело, но несколько наиграно, захохотала.
– Потом по железной дороге до Туапсе, – продолжила она, успокоившись, – а от туда, жалким пароходишкой, в Анапу, где начальник английской базы генерал Пуль предложил Марии Павловне, от имени английского правительства, выехать за границу. Но она наотрез отказалась. Надо вам сказать, Ваше Императорское Величество, – посерьёзнев проговорила она, – что все члены вашей семьи, боясь за Вашу судьбу, отказывались покидать Россию. Но доложу я Вам, когда генерал Пуль высказал мнение, что Андрею следовало бы поступить в Добровольческую армию, Великая княгиня категорически против этого восстала, заявив, что не было случая в России, чтобы члены Династии принимали участие в гражданской войне.
– Так дайте же ответ: спаслись вы или нет, – возмутилась Императрица.
– Да. Только жаль, что Мария Павловна вскоре умерла. Случилось это в 1920 году во Франции, в местечке Контрексвиль, – склонив головку, печально закончила знаменитая балерина театра Его Императорского Величества.
146.
– Наталья Павловна, – неожиданно обратился Государь к Натали Палей, – ведь вы родились в Париже, когда ваш отец, моим Указом, был лишён возможности жить в России, за то что позволил себе вступить в морганатический брак с вашей матушкой. А вот не нарушь я этого Закона и не прости я Павла Александровича, так бы и жили вы в полном благополучии все вместе в городе Париже.
– Да, но от судьбы не уйдёшь, – просто ответила Натали.
Государь изумлённо посмотрел на неё и замер.
– Не уйдёшь, не уйдёшь, – поспешила подтвердить Кшесинская, – вот вы, Ваше Величество, отослали на Персидский фронт, за Распутинское дело, Великого князя Дмитрия Павловича, и он остался жив.
И тут разом возмущённо загалдели царские дети. И только старшая – Ольга, остановив повелительным жестом этот галдёшь, спросила: "И как же князь жил поживал? Женился"?
– Да, на американке, – извинительным тоном отвечала Кшесинская, – но потом развёлся... Но сын у них родился.
– А его сестра Мария Павловна, которую мы звали "младшей"? – вдруг заинтересовалась Татьяна.
– О, вы не поверите, – тут же откликнулась Кшесинская, – она в Париже выказала себя такой умелой кружевницей!.. И даже кооператив свой открыла!
– Она была превосходным фотографом в модных домах, – неожиданно встряла Натали Палей, но тут же осеклась, делая вид, что слегка поперхнулась.
Но Государь не обратил на это никакого внимания, а только прибавил к сказанному: "Она молодец. Во время войны закончила курсы сестёр милосердия, и самоотверженно работала во фронтовых госпиталях, я знаю".
– Тогда я тоже устроила свой лазарет, – поспешила объявить Кшесинская, – я нашла чудную квартиру недалеко от меня, на Каменноостровском проспекте. Лазарет был расположен на первом этаже, а внизу было помещение для служащих. Я не жалела средств на его устройство, в нём были две операционные и три палаты для раненых солдат. Я привлекла лучших врачей! А постоянный штат состоял из одной старшей сестры, двух сестёр, двух санитаров и повара Сергея. А летом, чтобы немного развлечь своих раненых, и дать им возможность подышать свежим воздухом после замкнутой лазаретной жизни, я привозила их к себе на дачу в Стрельну, партиями в десять человек. Для этого мне давали казённые грузовики. Я была очень счастлива, что могла украсить их жизнь!
– А я устроил лазарет прямо в своём московском доме, – весело подхватил Шаляпин. – Жена и дочери мои служили сёстрами милосердия, а в доктора я пригласил самого Ивана Ивановича Красовского. Любил я беседовать с ранеными солдатиками. Песни их записывал. Мы, среди прочих блюд, часто готовили им пельмени по-сибирски, и с удовольствием вместе ели.
– И мы, и мы и мы тоже служили сёстрами милосердия, – шумно встрепенулись царские дочери, – скажите, мама!
Но мама только рукой на них махнула.
– Да, подъём в массах был большой.., поначалу, – протянул Шаляпин.
И замолчал. И все замолчали. И только Государь заговорил, продолжая какие-то свои размышления: "Вот вы, Наталья Павловна, сказали – "судьба". А Бог"?
147.
– Бог? Раз и навсегда: Богу нечего делать в плотской любви. Его имя, приданное или противупоставленное любому любимому имени – мужскому либо женскому, звучит кощунственно, – это отвечала не Натали Палей, к которой обращался Государь, это кричала Марина Цветаева, вылетевшая от куда-то из подбрюшья "Галактикуса", вместе с дочерью своей Ариадной. – Есть вещи несоизмеримые: Христос и плотская любовь. Богу нечего делать во всех этих напастях, разве что избавить нас от них, – продолжала она, как будто отвечая догонявшей её Ариадне или ещё кому-то. – Раз и навсегда им сказано: "Любите меня, Вечное. Всё прочее – суета". Неизменная, неизбывная суета. Уже тем, что я люблю человека этой любовью, я предаю Того, кто ради меня и ради другого принял смерть на кресте другой любви. Это я уже писала одному адресату, правда на французском языке, – прибавила она, и вдруг, резко обернувшись в сторону царской семьи, ещё добавила, – Церковь или Государство? Им нечего возразить на это, пока они гонят и благословляют тысячи юношей на убийство друг друга.
Она явно кого-то искала, мечась по этому солнечному пространству, как потревоженная лесная птица.
– Бальмонти-ик, – нараспев звала она, – а, Бальмонтик, где ты тут? Я знаю что ты зде– есь. Мне сказали. А, ты снова спрятался за занавеску, как в той парижской квартирке, где было выбито стекло, и вечно дуло. Но ведь здесь только солнечный ветер, Бальмонтик.
И она вдруг резко взмахнула крылом, и раздёрнула солнечную занавеску. Находившиеся за ней мужчина и женщина, вскрикнули так, что напугали, отлетевших тут же в сторону, Цветаеву с дочерью.
– Что же вы испугались, Марина, – обратилась Ариадна к матери, – ведь это же тот, которого вы искали – Константин Дмитриевич Бальмонт, с женою.
– Я не испугалась, я поразилась, – в пол голоса заговорила Цветаева, – я ведь помню Бальмонта в поздней эмиграции, когда у меня сжималось сердце, глядя на разбитого поседевшего старичка, бывшего кумира женщин, знаменитого Поэта. И вдруг здесь он снова в своём прежнем гордом обличье. И его Элэн.
– Мариночка, это вы?! – радостно воскликнул опомнившийся Бальмонт. – Что же вы так испугались? Вы не узнали меня?
– А вы что испугались, – в свою очередь спрашивала та, приближаясь к сидящему на солнечном стульчаке, поэту.
– А я вам скажу, – чётко выговаривал Бальмонт, – я вспоминал, как там, на Земле, снились мне иногда белые птицы, и тогда душа весь день пребывала в порядке. Белые птицы меня не обманывали, всё складывалось счастливо. И как потом, живя уже в Париже, я отдёрнул занавеску окна и замер в восторге. Белые птицы, множество белых птиц, малых и побольше, весь воздух Парижа белый, и сонмы вьющихся белых крыльев. Уже не во сне, а наяву. И вот на этом месте, вдруг, занавеска открылась, и появились вы, две белые птицы. Каково?!
– А я думала, что ты закрылся от того, кому посвящал свои нелестные стихи: "Наш царь – Мукден, наш царь – Цусима. Наш царь – кровавое пятно,.."
Но тут, маленькая хрупкая жена поэта, замахала ручками, испугано умоляюще глядя на Цветаеву своими огромными фиалковыми глазами. В это же мгновение Бальмонт поднял руку и сказал: "Не надо об этом. Да, я бегал с револьвером по баррикадам девятьсот пятого года.., кричал стихи... Но теперь вот как всё вышло".
– Вышло, – передразнила Цветаева. – Вышло так, что зимой двадцатого года, мы с твоей Еленой, впрягались в детские саночки с мороженой картошкой или дровишками и везли, если повезёт. Помнишь, Бальмонтик?
148.
– Да-а, – протянул тот в ответ, гордо задрав подбородок, и став похожим на Дон Кихота, со своей бородкой и усами. – А ещё я помню как ты делилась со мной пайковой осьмушкой махорки.
– Которую ты набивал в свою шикарную английскую трубку.
– И вы курили её как индейцы, деля затяжки по-очереди, – вклинилась Ариадна.
И Бальмонт расхохотался как ребёнок, прибавив сквозь смех: "Чтобы сэкономить табачок и растянуть удовольствие".
– Чего смеёшься, – улыбалась Цветаева, – доставай свою трубку, у меня табачок припасён.
– Ты с ума сошла, – не унимал смеха Бальмонт, – где же я её возьму?
Но тут жена его Елена, как цирковой фокусник, вывела из-за спины руку, держащую великолепную курительную трубку. "Але ап" – озвучила её номер Марина Цветаева, ловко взяв из руки фокусницы трубку, и стала набивать её табаком из расшитого позолотой кисета.
– Ах, милые мои заговорщицы, снова порадовали старика, – воскликнул изумлённый поэт.
– Какой же ты старик, – говорила Цветаева, раскуривая трубку, зажжённую солнечным лучиком, – ты мужчина в самом соку!
– Серьёзно, – весело удивился тот.
– Серьёзней некуда, как говаривали старые люди, – с удовольствием затянулась дымком Цветаева, и передала трубку Бальмонту.
– Какая прелесть! До боли знакомый запах. Что называется: "дым отечества", – проговорил поэт, сделал затяжку и закашлялся.
– Бальмонт поперхнулся дымом отечества, – объявила Цветаева, как шпрехшталмейстер на манеже цирка.
И Бальмонт снова расхохотался, но уже вперемежку с кашлем.
– Я предпочитал читать Мережковского, – вдруг заговорил Николай Александрович, словно продолжая когда-то начатый разговор. И закончил: "Хорошо пишет".
– А помнишь, папа, ты каждый вечер читал нам вслух какую-нибудь книгу, – заговорила его дочь Татьяна. – Это было тепло и уютно.
– Это было не каждый вечер, – возразила Ольга.
– Ну почти – каждый! – огрызнулась Татьяна.
Императрица гмыкнула, и так взглянула, что всё смолкло.
– А ты помнишь, Бальмонтик, как весной того же двадцатого года, мы провожали вас за границу? Кажется это был май, – снова передавая трубку Бальмонту, и пуская струйку дыма изо рта, заговорила Цветаева. – Это было в доме Скрябиных, благодаря вдове композитора Татьяне Фёдоровне,.. мы ели картошку с перцем, и пили настоящий чай в безукоризненном фарфоре. Все говорили трогательные слова, прощались и целовались.
– Но вы тогда не уехали! – вдруг радостно воскликнула Ариадна, глядя на Бальмонтов широко открытыми весёлыми глазами. – Возникли какие-то неполадки с эстонской визой, и отъезд был ненадолго отложен. Окончательные проводы происходили в невыразимом ералаше: табачном дыму и самоварном угаре вами оставляемого жилья, в сутолоке снимающегося с места цыганского табора. Было много провожающих. Марина была самой весёлой во всём обществе сидящих за этим столом. Рассказывала истории, сама смеялась и других смешила, и вообще была так весела, как будто бы хотела иссушить этим разлуку.
– Зачем вспоминать, – вдруг угрюмо, почти что угрожающе проговорила Цветаева, не глядя ни на кого, и прибавила: "Чехов "Три сестры"".
– Вспоминать, вспоминать, вспоминать! – закричала Кшесинская, подпрыгивая как маленькая девочка играющая со скакалкой. – Сезон девятьсот десятого,
149.
одиннадцатого года был исключительно весёлым: много обедов, ужинов и маскарадов. Маскарады я очень любила и забавлялась на них от души, интригуя всех и вся, под маской с густой вуалью и в домино. А мои бенефисы?! Боже мой. В 1911 году я справляла свой двадцатилетний юбилей службы на Императорской сцене, и мне по этому случаю дали бенефис. Государь, обе Императрицы и вся Царская семья были в театре в этот большой для меня день. После представления, во всю ширину сцены был установлен длинный стол, на котором были выставлены подарки в совершенно невероятном количестве, а цветочные подношения были расставлены позади стола, образуя целый цветочный сад. Всех подарков я теперь вспомнить, а тем более перечесть не могу, кроме двух-трех наиболее памятных. Кроме Царского подарка я получила: от Андрея – дивный бриллиантовый обруч на голову с шестью крупными сапфирами по рисунку головного убора, сделанного князем Шервашидзе для моего костюма в балете "Дочь фараона". Великий Князь Сергей Михайлович подарил мне очень ценную вещь, а именно – коробку из красного дерева работы Фаберже в золотой оправе, в которой были уложены завернутые в бумажки – целая коллекция жёлтых бриллиантов, начиная от самых маленьких до очень крупных. Это было сделано с целью, чтобы я могла заказать себе вещь по моему вкусу – я заказала у Фаберже "плакку", чтобы носить на голове, что вышло замечательно красиво. От Животовского я получила большого, из розового орлеца, слона с рубиновыми глазами работы Фаберже и вдобавок эмалевую, в золотой оправе, пудреницу в виде портсигара. От публики по подписке я получила дивный чайный стол, тоже работы Фаберже, в стиле Людовика XVI с полным чайным прибором. Верхняя доска стола была из зеленого нефрита с серебряной балюстрадою. Ножки стола были сделаны из красного дерева с серебряными украшениями, а под столом, на перекладинах, была серебряная ваза для печений, которую можно было ставить на стол. Кроме того, также от публики, бриллиантовые часы в виде шарика, на цепочке из платины и бриллиантов. Так как денег было собрано по подписке больше, нежели эти предметы стоили, то на излишек были докуплены в самую последнюю минуту по мере поступления денег еще золотые чарки, и их накопилось довольно много. От москвичей я получила "сюрту-де-табль", зеркало в серебряной оправе в стиле Людовика XV с серебряной вазой на ней для цветов. Под вазой были выгравированы фамилии всех лиц, принимавших участие в подарке, и можно было, не подымая вазы, в зеркале прочесть все имена.
Говорила она всё это, двигаясь по большому кругу широким балетным шагом, кружась, но при этом возвращаясь лицом к публике, выпрыгивая высоко вверх, взмахивая руками и крылами. И при каждом взмахе, о чудо, рассыпались как фейерверки, и повисали на солнечных лучиках, как на новогодней ёлке, эти бриллианты, сапфиры, жемчуга, рубины и золотые чарки, ослепительно играя на солнечном свете.
И от этого чуда посветлели лица девушек, они даже зааплодировали, весело заулыбались, и только в глазах этих царских дочерей сверкнули навернувшиеся слезинки.
Но царствовать на всём этом пространстве продолжала Кшесинская. Теперь она подлетела к ногам сидящего в кресле Шаляпина, красиво перегнулась, лёжа спиной на его коленях и капризно произнесла: "А к вам, Фёдор Иванович, хоть не заходи в гримёрную, после представления. Вы тут же запросто зазовёте к себе в гости пить шампанское. И мы пили шампанское у вас в доме. И в разгар веселья вы любили шутя пробросить по полу выпитую бутылку, крича своей жене в кухню: "Мария, шампанского нам" И она непременно скажет: "Федя, как тебе не стыдно"".
"Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!
Удивительно вкусно, искристо и остро!
150.
Весь я в чём-то норвежском! Весь я в чём-то испанском!
Вдохновляюсь порывно! И берусь за перо!
Стрёкот аэропланов! Беги автомобилей!
Ветропросвист экспрессов! Крылолёт буеров!
Кто-то здесь зацелован! Там кого-то побили!
Ананасы в шампанском – это пульс вечеров!
В группе девушек нервных, в остром обществе дамском
Я трагедию жизни претворю в грёзофарс...
Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!
Из Москвы – в Нагасаки! Из Нью-Йорка – на Марс"!
Громогласно декламировал долговязый мужчина, вылетевший из под днища корабля. И мало того, что он был высок ростом, он ещё вскинул вверх длинные руки и крылья параллельно рукам, держащим пару шампанского в золотистых обёртках.
– Смотри-ка, – словно проснувшись, воскликнул Ростропович, обращаясь к жене, – это же Игорь Северянин!
– Северянин! – восторженно вскричала Кшесинская, взметнувшись ввысь. – Северянин с шампанским! Какая прелесть!
– Это для моего благодетеля! – широко отвечал Северянин. – Где же он?! Мне сказали что – здесь.
На его вопросительный взгляд, Цветаева заговорчески тыкала воздух указательным пальцем. И Северянин двинулся в ту сторону куда ему указывала сестра по ремеслу, со словами: "Фёдор Кузьмич, встречайте своего вами рожденного"! И он эффектно развёл крылами, как будто открывал двустворчатую дверь в каком-нибудь шикарном дворце. Тем более, что так оно и оказалось. А за дверью той сидели за роскошным золотым столом мужчина и женщина. И всё здесь было в золоте, и вся обстановка была золотая.
– Да, я люблю золото. Я бы и лысину себе с удовольствием вызолотил, но доктор говорил мол вредно – талант пропадёт и стану завистливым, – очень серьёзно заговорил, сидящий там мужчина, в пенсне с краями скошенными вниз как на трагической маске. – А я о такой именно обстановке мечтал, когда сидел в своей учительской каморке. На трясучем столе груда ученических тетрадей. И до чего они мне осточертели! Сижу под керосиновой лампой и ставлю болванам двойки и единицы с удовольствием. Авось, его за мою двойку или единицу папенька с маменькой выпарят. А печка чадит. Из окна дует. И такая тоска, такая тоска. Закрою глаза и представлю себе, что сижу в алом шёлковом кресле, по стенам зеркала и картины в золоченых рамках, на полу ковёр в розы, точь в точь, как у меня здесь теперь. И казалось мне, что в этом золотом тереме я, если его добьюсь, буду проводить золотые дни. Вот там, за школьными тетрадками, я был Кузьмич. Кузьмич Тетерников. А вам кого надо, молодой человек? – спрашивал он Северянина. – И что вы с таким удивлением смотрите на нас?
– Конечно же я ищу Фёдора Сологуба, – наконец заговорил поэт, – а удивлён я тому, что вы здесь вместе. Вместе с Анастасией Николаевной! Ведь слыхал я тогда, в двадцать первом году, будучи в Эстонии, что она сердешная...
– Да, – прервал его собеседник, – уже были готовы документы на выезд,.. и вдруг Анастасия Николаевна исчезла. Я ждал её каждый день. К обеду ставил приборы на две персоны.., но увы. Подкосила она меня. Я так и остался доживать в большевистской России.
151.
– Как же это с вами случилось, милая Анастасия Николаевна, – тихо спрашивал Северянин.
– Не помню. Зачумкалась я, – отвечала та нервно куря папиросу, делая затяжку за затяжкой.
– Не вынесла она того времени, – задумчиво отстранённо отвечал за неё муж, – холод, голод, добывание дров, стояние в селёдочных очередях.., продажа дорогих сердцу вещей, антиквариата. Молчания правительства на мои письма с просьбой об отъезде. Я даже Ленину писал. Потом обманул меня Троцкий своим положительным ответом. И вот, когда уже был назначен день отъезда в Ревель.., она пошла, и бросилась в речку с Тучкова моста.
"В тени косматой ели,
Над шумною рекой
Качает чорт качели
Мохнатою рукой.
Таинственно-вкрадчиво стал декламировать Северянин, переступая с ноги на ногу в такт стиха, улыбаясь супружеской паре, и дирижируя бутылками шампанского.
Качает и смеётся.
Вперёд, назад,
Вперёд, назад.
Доска скрипит и гнётся,
О сук тяжёлый трётся
Натянутый канат.
Продолжал он, пробрасывая: "Неужели забыли свой стих, товарищ Фёдор Сологуб"?
Снуёт с протяжным скрипом
Шатучая доска,
И чорт хохочет с хрипом.
Хватаясь за бока.
И поддался Сологуб, и стал вторить читающему.
Держусь, томлюсь, качаюсь.
Вперёд, назад,
Вперёд, назад,
Хватаюсь и мотаюсь,
И отвести стараюсь
От чорта томный взгляд.
И робко подключилась к ним Анастасия Николаевна.
Над верхом тёмной ели
Хохочет голубой:
– Попался на качели,
Качайся, чорт с тобой. -
Им в унисон уже звучал голос Цветаевой, Бальмонта и его жены.
В тени косматой ели
Визжат, кружась гурьбой;
– Попался на качели,
Качайся, чорт с тобой. -
Всё громче и громче стали звучать голоса читающих.
Я знаю, чорт не бросит
Стремительной доски,
Пока меня не скосит
Грозящий взмах руки.
152.
Пока не перетрётся,
Крутяся, конопля,
Пока не подвернётся
Ко мне моя земля.
И закончили совсем громко:
Взлечу я выше ели,
И лбом о землю трах.
Качай же, чорт, качели,
Всё выше, выше... ах!"
И все захохотали, и зааплодировали друг другу как дети.
– Господа! Будем пить шампанское! – объявил Северянин. – Кто мне поможет со второй бутылкой?
– Давайте я, – тут же вызвался Ростропович, – я откупорю с удовольствием! Только во что будем разливать, – беря бутылку, спрашивал он.
– А вон в те золотые бокалы! – восклицал Северянин.
– Это не бокалы, это чарки, – возмутилась Кшесинская. – Мои чарки.
– Вот и прекрасно! – обрадовался Северянин, – вы и раздайте их всем присутствующим.
И хозяйка чарок, тут же, с лёгкостью, в одно касание стала рассылать их в руки окружающим. Но когда она дошла до царской семьи, то Императрица, строго прервала её ход: "Нет! Нам не надо. Мы уже пили шампанское, и нам довольно".
Взорвали шампанское двумя искрящимися фонтанами, ловко наполнили чарки, и Северянин произнёс: "Господа, я поднимаю сей бокал в честь замечательного человека, знаменитого писателя и моего благодетеля Фёдора Сологуба! Потому что именно в его Литературном салоне состоялся мой дебют. Именно с его благословения изволил увидеть свет первый сборник моих поэзов "Громокипящий кубок". Это он организовал нашу первую гастроль по всей России: Минск, Вильно, Харьков, Екатеринослав, Одесса, Симферополь, Ростов-на-Дону, Екатеринодар, Баку, Тифлис, Кутаис".
– Знаем, знаем: женщины были от вас без ума, поклонники носили вас на руках, – прервала его жена Бальмонта.
– Давайте наконец пить честь Фёдора Сологуба, – от чего-то нервничая, воскликнула жена Сологуба.
– Ура, – сказал сам Сологуб, и тут же опрокинул в себя чарку шампанского.
И все стали пить из своих золотых чарок.
– Вы что, плачете, Фёдор Иванович? – изумилась Кшесинская, чуть приседая, и заглядывая в лицо Шаляпина.
– Нет, нет, – спохватился тот. – Нет. Я просто вспомнил.
– Что вспомнили, – приставала Кшесинская.
– Что вспомнил, – растерялся Шаляпин. – Вспомнил Италию. Италия это ведь особая страна. Там все разбираются в певческом искусстве. И я имел там грандиозный успех. И на радостях, когда закончились выступления, я пригласил всех артистов в ресторан, и заказал две дюжины шампанского. Итальянцы к такому не привыкли, и думали что я сошёл с ума. Было весело. Среди ресторанной публики оказался Габриеле де Аннунцио, в то время молодой, здоровый блондин с остренькой бородкой. Он сказал тост, должно быть, очень литературно-мудрёный, я ничего не понял. Впоследствии я познакомился с ним очень близко, мы с ним мечтали о пьесе, в которой были бы гармонично объединены и драма, и музыка, и пение, и диалог. Но это было ещё до Германской войны, – безнадежно махнул рукой Шаляпин, достав платок, и промокая глаза.
153.
– Кстати, летя сюда к вам, я видел плачущего Максима Горького, – весело говорил Северянин. – Он так плакал! Так плакал, что слёзы катились ручьями из глаз. А рядом с ним стоял какой-то мальчик, лет четырнадцати, гладя, и успокаивая пролетарского писателя.
– Я кажется знаю что это за мальчик, – с некоторой щепетильностью встрял в разговор Ростропович. – Судя по всему, это тот самый мальчик, который вызвался рассказать всю правду об издевательствах над заключёнными в Соловецком лагере, когда Горький был там с визитом. Горький уехал. Мальчик исчез. Об этом поведал нам академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв, который сидел в этом самом Лагере. Конечно ещё не будучи академиком.
– Что называется: "а был ли мальчик", – сердито заметила Вишневская, своим грудным голосом. И почему-то посмотрела на Шаляпина.
Но тот лишь молча кручинился головой своей.
– А я вспомнила Париж, – словно в укор кому-то сказала Цветаева, и продолжила, – тридцать первый год, девятый год моего пребывания в эмиграции, и вдруг... Выступление Игоря Северянина! Конечно же я пошла. И слушала вас, Игорь.
– Да, там было всего два выступления, – с удовольствием подтвердил Северянин. – Их устроил для меня князь Феликс Юсупов.
Тут царские дети всполошились как по команде, и зашумели. Но Императрица царственным жестом немедленно прервала их возмущение.
– Так вот, – настоятельно продолжила Цветаева, – я слушала вас, Игорь, как русского соловья среди гама парижских бульваров. Вы были на высоте со своей высоко запрокинутой головой. Мне многое понравилось. Но пронзило до боли моё сердце, тогда – одно. Я сразу запомнила его. Но сейчас могу сбиться. Так что помогайте мне.
И она, сделав глоток, начала читать:
"В те времена, когда роились грёзы
В сердцах людей, прозрачны и ясны,
Как хороши, как свежи были розы
Моей любви, и славы, и весны!
Прошли лета, и всюду льются слёзы...
Нет ни страны, ни тех, кто жил в стране...
Как хороши, как свежи были розы
Воспоминаний о минувшем дне!
Но дни идут – уже стихают грозы
Вернуться в дом Россия ищет троп...
Как хороши, как свежи будут розы
Моей страной мне брошенные в гроб"!
Она читала размеренно, а он деликатно тихо вторил ей через раз.
А Голицын, сидя в межгалактическом корабле, вдруг вспомнил другие стихи, стихи самой Цветаевой, а точнее – песню на её стихи, которую пела его современница Алла Пугачёва. Музыка была достойна этих стихов, и зазвучала эта симфония в его голове:
"Уж сколько их упало в эту бездну,
Разверстую вдали!
Настанет день, когда и я исчезну
С поверхности земли.
154.
Застынет всё, что пело и боролось,
Сияло и рвалось:
И зелень глаз моих, и нежный голос,
И золото волос.
И будет жизнь с её насущным хлебом,
С забывчивостью дня.
И будет всё – как будто бы под небом
И не было меня"!
Дальше слова забывались, но музыка и голос продолжали звучать в его голове отдельными фразами, как позывные: «Виолончель, и кавалькады в чаще... К вам всем... Чужие и свои – я обращаюсь с требованьем веры и просьбой о любви...»
И Голицын даже и не заметил, как корабль их уже сдвинулся с места. И как исчезла уже и Цветаева, и Северянин, и Шаляпин, и Царская семья... Теперь же перед ним проплывали, купаясь в солнечных лучах, и возлежа как в древнеримских термах, какой-нибудь Каракаллы, и соревнуясь в прочтении своих стихов, как в древней Элладе, уже знакомые нам: Пастернак, Брюсов, Мандельштам, Андрей Белый, Иосиф Бродский и ещё.., и ещё кто-то. Потом, отдельно проплыл Маяковский, в распахнутой от жары рубахе, и орущий свои стихи: "В сто сорок солнц закат пылал, в июль катилось лето, была жара, жара плыла – на даче было это..." Потом были есенинские женщины, окружившие солнечную ванну где сидел сам Есенин, и поливающие его солнечным светом из кузовков своих ладоней. А он выкрикивал как ребёнок: "Жизнь моя, иль ты приснилась мне? Словно я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне". И действительно – там, за спиной поэта, проскакал золотисто-розовый конь с мальчиком-седаком на спине, на котором белым парусом развивалась рубашонка, а на голове была целая копна золотых волос.
Но никто этого, казалось, не заметил. Голицын хотел поделиться впечатлением с Карликом.., но передумал, взглянув на его безразлично вылупленный глаз. Тем более, что где-то зазвучала виолончель, фортепиано и голос Шаляпина, певший ту самую "Элегию":
"О, где же вы, дни любви,
Сладкие сны,
Юные грёзы весны?
Где шум лесов, пенье птиц,
Где цвет полей,
Где серп Луны, блеск зарниц.
Всё унесла ты с собой -
И солнца луч, и любовь, и покой.
Всё, что дышало тобой
Лишь одной"...
Виолончель тоже звучала гениально – ходила на низы так – что ком к горлу.
Но корабль двигался дальше, под ручным управлением карлика Бэса. И вот уже проплыла мимо знакомая нам компания, где теперь пел Джон Леннон, а все дружно ему подпевали, выбрасывая вверх руки со знаком vivat.
А дальше, шла одинокая незабываемая фигура Мэрилин Монро, и встречал её там, в солнечном свете, мужчина огромного роста, атлетического телосложения и с охапкой цветов, которые он бросал над головой Мэрилин, и они нескончаемым водопадом осыпали обомлевшую от счастья женщину.
155.
Но вот и она исчезла , утонула в могучем Солнце как полевая бабочка, потому что корабль явно удалялся, и удалялся от этой пылающей невыносимо яркой звезды.
И уставший, ото всего виденного, Голицын уже готовился перевести дух.., как вдруг зазвучала откуда-то такая знакомая мелодия и такие знакомые голоса:
"Заповедный напев, заповедная даль.
Свет хрустальной зари, свет над миром встающий"...
Конечно же, это пели "Песняры"! И как подтверждение этому, там, за смотровым окном, словно из солнечной плазмы, вытягивался лик Владимира Мулявина, с его, так узнаваемыми, как будто полными слёз, огромными глазами и, конечно же – непременными усами, как у запорожского казака со знаменитой репинской картины. Видимо, он тянулся туда, к Солнцу, тянулся и медленно летел. Летел, оставляя за собой песню:
"У высоких берёз своё сердце согрев,
Унесу я с собой, в утешенье живущим,
Твой заветный напев, чудотворный напев,
Беловежская пуща, Беловежская пуща".
У Голицына сдавило горло. Потому что это было близко – это была его молодость. Была его жизнь. Была первая неповторимая любовь. И всё, всё, всё.