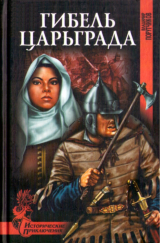
Текст книги "Гибель Царьграда"
Автор книги: Владимир Порутчиков
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
5
Боль в сломанной ноге не обманула: весь последующий день и всю ночь на Понтийском море бушевал шторм. И лишь спустя ещё трое суток, погожим майским утром в трапезундский порт пришёл долгожданный корабль из Таны с грузом солёного лосося и икры. А вскоре и сам капитан – невысокий, эмоциональный итальянец лет тридцати с небольшим, явился к консулу с докладом.
Главную новость, что помимо рыбы в трюме его корабля находятся ещё двадцать пленных турок, среди которых шестеро янычар, капитан выпалил чуть ли не с порога. Марза как раз завтракал, но, услышав такие новости, тут же позабыл о своей трапезе, и рука его с ложечкой, полной обожаемого им местного творога, застыла на полпути к уже открытому рту.
А возбуждённый капитан тем временем продолжал, брызгая слюной:
– Синьор, вчера мы наткнулись на сильно потрёпанный бурей турецкий корабль. Я принял решение атаковать! Команда сразу же сдалась, а янычары (их было человек сто, не меньше!) попытались сопротивляться. Синьор, они дрались как черти из преисподней, ранив двадцать и убив четырнадцать моих людей! – последние слова капитан почти прокричал, гневно сверкая чёрными, как маслины, глазами. – Если бы не арбалеты и кулеврины, нам бы пришлось туго. Янычары дрогнули лишь после того, как мы перестреляли большую их часть. Оставшиеся шестеро сложили оружие... Мои солдаты хотели тут же их вздёрнуть, но я решил повременить с казнью до прибытия в порт. Повесить ведь никогда не поздно. К тому же их командир неплохо говорит по-нашему. На допросе он рассказал, куда направлялось их судно... Я подумал, что это будет вам интересно, синьор, и сразу же поспешил к вам с докладом...
– И куда же они направлялись? – быстро спросил купец, тыльной стороной ладони вытирая испачканные творогом губы.
– Для усиления блокады Константинополя, синьор. Их было...
– А судно? Что вы сделали с судном? – нетерпеливо перебил купец, сразу вспомнив неласковые глаза посланника Венецианской республики и его вкрадчивый, дающий инструкции голос: «С турками по возможности ни в какие конфликты не вступать, не провоцировать, но и слабости своей тоже не показывать...»
– Пустили на дно, синьор. Так оно, я думаю, спокойнее.
«Так оно действительно спокойней, – мелькнуло в голове купца. – А то, не дай бог, эту посудину ещё выбросит на контролируемый османами берег, или какой-нибудь турецкий корабль натолкнётся на неё в море. На генуэзцев османы вряд ли подумают, те – чуть ли не ноги готовы целовать их султану, лишь бы разрешил торговать в подконтрольных ему городах, а вот на венецианцев, чей корабль в ноябре месяце за отказ остановиться и заплатить мзду за проход потопили в Босфоре турецкие пушки, – о эти проклятые Хиссары! – вполне могут».
По правде говоря, у Марза, как и других колонистов, узнавших о Босфорской трагедии и страшной участи команды потопленного судна – матросов казнили, а капитана посадили на кол, – давно чесались руки поквитаться с погаными, но так, чтобы одновременно не провоцировать. И не провоцировали: плавали через Босфор всё также гордо и независимо, но немалую пошлину турецким мытарям после того случая всё-таки платили. Скрипели зубами, но платили, ибо грозен был вид двух османских крепостей по обеим сторонам пролива...
А тут такой случай отомстить. И концы, как говорится, в воду...
– Правильно, капитан, – удовлетворённо кивнул купец и тут же добавил. – Я хочу видеть янычар. Всех шестерых.
Пока ждали пленников, Марза пригласил капитана позавтракать вместе с ним, и даже распорядился, чтобы гостю принесли что-нибудь посущественнее творога, но сам уже не притронулся к еде, охваченный странным волнением, словно это, в общем-то, заурядное происшествие имело какое-то отношение к его личному несчастью...
Наконец ввели скованных одной цепью янычар. Первое, на что обратил внимание купец, были их лица: все в синяках и кровоподтёках.
– Мои рогацци чуток погорячились, – словно угадав его мысли, весело отозвался капитан, и прежде чем отправить в рот очередную порцию смоченных лимонным соком говяжьих лепестков добавил: – Пустяки, синьор. Пускай ещё спасибо скажут, что сразу же не повесили...
Все пленники были одеты в суживающиеся у щиколоток шаровары красного цвета и когда-то белые, а теперь потемневшие от крови и пота рубахи, плотно облегающие их крепкие тела. На некоторых, правда, были ещё зелёные кафтаны, или, вернее, то, что от них осталось после солдатских рук. Бритые наголо, безбородые, но с усами, примерно одного роста и возраста – купец дал бы самому старшему не больше двадцати лет – пленники показались ему братьями. В глазах – плохо скрываемая тревога, но не страх. «Не страх, – отметил про себя Марза. – Такие больше боятся неизвестности, чем смерти».
Янычары!
Джорджио знал, что готовят их из христианских мальчиков, насильно оторванных от родительского дома и увезённых в самое сердце империи османов, где их заставляют забыть свою веру, семью и родину, закаляют физически и воспитывают в духе преданности магометанству и султану. Верные псы последнего, готовые умереть по первому его слову.
Прищурившись, купец смотрел на юношей, ещё не зная, что с ними делать. Судьба остальных пленников, запертых сейчас в пропахшем рыбой и тухлой водой трюме, его нисколько не волновала. Путь этих несчастных был уже предопределён: невольничий рынок, галеры, рвущие тело удары бичей и скорая смерть от переутомления. Им просто не повезло, как могло бы не повезти и захватившему их капитану и его команде, как могло не повезти и самому купцу... Правда, у Марза хватило бы денег выкупить себя на свободу. Что касается стоящих перед ним янычар, то что-то мешало купцу поступить с ними обычным порядком. Какое-то нутряное чувство подсказывало Марза, что они ещё могут ему пригодиться...
– Вот этот – их командир. Он знает наш язык, – коротенький палец капитана, украшенный массивным золотым перстнем, ткнул в одного из стоящих. Тот, на кого он указывал, был несколько выше своих товарищей и, судя по развороту плеч и развитости угадывающейся под рубахой мускулатуры, обладал значительной физической силой.
Марза встал и, тяжело опираясь на трость, подошёл поближе, чтобы получше рассмотреть его, а когда приблизился, едва сдержал удивлённое восклицание. У юноши были точно такие же глаза, как у его жены: необычного светло-серого цвета (правда, один из них почти заплыл, но другой был ясен и лишь чуть сощурился, встречая пристальный взгляд венецианца).
«Быть может, это само провидение подаёт мне знак», – мелькнуло в смятенной голове купца. С преувеличенной, чтобы скрыть своё замешательство, суровостью он спросил:
– Ты, правда, знаешь наш язык?
– Да, синьор, – на ломанном итальянском ответил юноша, почтительно наклонив стриженую голову.
– Кто ты по национальности? На турка ты вроде бы не похож...
– Я – серб....
– А откуда знаешь язык?
– Мой отец позаботился об этом...
– А кто твой отец?
– Сербский властель... то есть князь. Он погиб под Варной девять лет назад...
– Какие языки ты ещё знаешь?
– Турецкий.
– Ну, это понятно…
– Ещё я знаю греческий, синьор... и немного латынь...
– Хорошо, – кивнул головой купец и, собираясь с мыслями, на мгновение замолчал.
Какой-то ошалелый, залетевший в раскрытое окно жук, несильно, но колко ударился ему в щёку и, с недовольным гудением, снова уплыл к залитым солнцем кипарисам и ясно проглядывающему меж ними бирюзовому клину моря.
– Ну что ж, молиться свой Аллах, ибо все вы заслуживать смерть,– по-турецки обратился к пленником Марза, невольно провожая взглядом слегка затуманенного работающими крылышками жука.
Подбирая слова, купец говорил очень медленно и от этого, так ему, во всяком случае, хотелось думать, они звучали ещё весомей, ещё жёстче:
– Четырнадцать мой люди мёртвый и его душа требовать месть, – он покосился на капитана. Тот, не понимая ни слова, отставив в сторону чашу с вином, с напряжённым вниманием смотрел то на губы консула, то на побледневшие, вытянувшиеся лица пленников. – Но я готовый (тут купец снова сделал паузу) щадить пять вас при том, что один... ответить свой жизнь за смерть мой люди...
Он ещё не закончил, как все шестеро, не сговариваясь, шагнули вперёд, громыхнув тяжёлой, сковывающей их цепью. На лицах, ещё по-юношески нежных, – решимость.
«Похоже, эти парни действительно готовы умереть друг за друга» – подумал тут консул, невольно проникаясь к ним симпатией.
– Ну что ж, похвальный мужество. Такой дружба можно завидовать. И я... я не казнить никого. Пока. Я буду думать ещё...
Он сделал знак стражникам увести пленных, а затем повернулся к стоящему рядом слуге:
– Распорядись, чтобы их покормили, а потом отвели в тюрьму... Эээ, в мою тюрьму. Надеюсь, ты не возражаешь, капитан?
Тут консул вперил властный взгляд в своего гостя.
– Они ваши, синьор, – почтительно ответствовал тот, показывая Марза свой идеально ровный пробор...
А купца уже ждали другие неотложные дела и заботы, коими был полон его день – день консула венецианской фактории: надо было рассмотреть просьбу о ссуде, разобрать тяжбу между двумя колонистами, проверить, как идёт строительство нового грузового корабля, заказанного колонией на трапезундской верфи. Дела эти надолго отвлекли купца от мыслей о пленных.
А ближе к обеду, когда невозможное, слепящее солнце зависло прямо над городом, Марза сообщили ещё одну не менее интересную новость: к городской пристани не более получаса назад пришвартовался груженный хлебом византийский корабль, идущий из Тавриды, и что капитан этого корабля во что бы то ни стало намеревается добраться до осаждённого города. В общем, пленные временно отошли на второй план...
И лишь поздно вечером, уже отходя ко сну после обязательной молитвы, Марза снова вспомнил о шестёрке томящихся в его тюрьме янычар, но, так и не придумав, что с ними делать, решил отложить решение их судьбы до утра. С тем и заснул.
И снился купцу огромный, объятый пламенем Константинополь и турки, которых уже не могли сдержать его древние стены. Подобно мутному нескончаемому потоку растекались они по улицам, врывались в дома, и великий стон, сотканный из тысяч людских криков, висел над гибнущим городом. Марза бежал в толпе несчастных горожан, торопясь спасти свою маленькую птичку, и уже видел её дом, и знакомый силуэт в распахнутом окне, и в немой мольбе протянутые руки, но за спиной всё явственнее слышалось тяжёлое дыханье настигающих его солдат, а сил оставалось всё меньше, и нестерпимо ныла, мешая бежать, больная нога. И вот, наконец, свершилось то, чего со страхом ожидал и больше всего боялся купец: тяжёлая рука преследователя вдруг схватила его сзади за ворот и с силой потянула назад, но не на городскую мостовую, а в чёрную непроглядную бездну…
Марза проснулся совершенно мокрый от ужаса. В полуприкрытое окно ломилась молодая луна, освещая его скрюченные вцепившиеся в одеяло пальцы. С моря тянуло приятной прохладой, и где-то далеко в городе зычно перекликались стражники...
Вместе с успокаивающей мыслью, что это был всего лишь дурной сон, к купцу вдруг пришло ясное осознание того, что Константинополь падёт, причём в ближайшие дни, и если сейчас не предпринять каких-нибудь мер по спасению супруги, то уже никогда больше не увидит он своей маленькой птички...
Марза снова подумал о сероглазом янычаре, но теперь он точно знал, что делать с ним и его товарищами. И так кстати приходился этот зашедший в порт ромейский корабль...
Дотянувшись до шнура, Марза несколько раз с силой потянул за него, зная, что сейчас в ответ за стеной призывно звенит маленький медный колокольчик.
– Распорядись, чтобы немедленно привели в пыточную того... сероглазого янычара, – приказал купец возникшему на пороге слуге. Тот сладко зевнул и недоумённо уставился на хозяина.
– Ну, того, который знает языки... их командира, – раздражённо пояснил тот. – И ещё: пошли кого-нибудь в порт к капитану греческого корабля. Только потолковей. Слышишь, Франческо, потолковей! Пускай предлагает капитану любые деньги, лишь бы тот согласился взять на борт двух моих людей, понял меня? Всё, иди, да скорее возвращайся – поможешь мне одеться...
6
Тюрьма венецианской фактории, ибо ни одна уважающая себя фактория не обходилась без тюрьмы, располагалась прямо под роскошным домом купца, и чтобы попасть в неё, дону Марза достаточно было только открыть потайную дверь и спуститься по крутой лестнице вниз. Правда, сейчас ему потребовалась помощь слуги.
Тут надо отметить, что трапезундский император, получая от венецианцев хорошие деньги за предоставляемую им в аренду землю, да и просто беря у них взаймы на текущие государственные дела, мало интересовался, а вернее просто закрывал глаза на то, что творится внутри итальянской колонии. Корабли колонистов не только швартовались у отдельных специально построенных для них пристаней, но и никогда не подвергались таможенному досмотру. За это тоже приходилось расплачиваться звонкой золотой монетой, но прибыль от торговли с лихвой перекрывала все траты. Фактория процветала.
Рядом с тюрьмой, которая представляла собой перегороженный деревянными решётками каменный мешок, достаточный для содержания по крайне мере полусотни человек, была устроена пыточная – отдельная глухая комната, способная одним своим видом привести в трепет даже самую храбрую душу. При дрожащем свете факелов взору несчастного представали проверенные временем и человеческой плотью хитроумные пыточные устройства: начиная от простейших дыбы и жаровни, и заканчивая знаменитой Железной Девой, чьё полое тело было особым образом утыкано острыми штырями, которые хотя и пронзали заключённую в неё жертву, но не задевали жизненно важных органов, отчего та умирала медленной и мучительной смертью. Сколько криков, сколько страшных тайн и признаний слышали эти закопчённые факельным огнём стены...
Когда поддерживаемый слугой Марза добрался наконец до пыточной, пленник уже был там под охраной трёх дюжих тюремщиков. На сводчатом потолке в изменчивом свете факелов подрагивали четыре причудливо изогнутых тени. Отблески пламени падали на лицо янычара, отражались в его широко раскрытых глазах, которые сейчас показались купцу чёрными. Но, как и в прошлый раз, в них не было страха, а лишь только любопытство и, пожалуй, надежда. Да – надежда.
«Ну что ж, посмотрим, насколько ты оправдаешь мои надежды, ведь от этого зависит – оправдаются ли твои», – подумал купец, с интересом разглядывая юношу.
Тем временем слуга, проворно разложив складной венецианский стул, помог хозяину сесть, а затем бережно положил его больную ногу на низенькую покрытую пурпурной подушечкой скамейку. Проделав всё это, слуга замер за спиной купца. В пыточной воцарилась тишина, нарушаемая лишь треском факелов.
Наконец Марза заговорил:
– В прошлый раз я не спросил твоего имени, янычар... Теперь же я хочу его знать.
– Отец с матерью нарекли Янушем, турки назвали Бозкурт – отозвался тот с грустной усмешкой. – Какое вам больше по нраву, господин?
7
Как говорил дервиш Омар, человек всегда должен быть готов не только распознать в цепочке событий выпавший ему шанс, но и воспользоваться им... Такого шанса Януш ждал целых девять лет, с того самого дня, когда мрачные кареглазые люди забрали его и ещё пятьдесят сербских мальчишек из родного края и увезли за море, чтобы они навсегда забыли свой дом и веру отцов...
Он понял, что это шанс, когда высокий борт венецианского нефа стремительно надвинулся, а затем тяжко ударил в их потрёпанную штормами посудину, и на палубу споро запрыгали облачённые в добротные панцири солдаты...
Но вначале был шторм.
Его приближение первым заметил многоопытный Алибей, командир турецкой эскадры, что по приказу султана торопилась из Синопа для усиления начавшейся в начале апреля блокады Константинополя.
Четыре боевые галеры и шесть грузовых судов, повинуясь сигналам с флагманского корабля, взяли курс в открытое море подальше от безлюдной береговой линии, где бесновался, бессильно вздымаясь над острыми камнями, белопенный прибой. Алибей свято соблюдал мудрое правило древних – корабли во время шторма бойтесь берегов.
Когда земля скрылась из виду, а море всё сильнее стало бить в борта тяжёлыми волнами, на кораблях убрали все паруса, задраили люки, а галеры, до этого похожие на присевших на воду бабочек, спрятали в своих стремительных телах блестящие от воды крылья-вёсла.
Теперь людям оставалось только ждать и молиться, и с ужасом слушать, как безумствует вокруг них море, от которого их отделяла лишь тонкая деревянная обшивка.
А шторм разыгрался не на шутку. Людям казалось, что над ними потешается сам шайтан, который то бьёт по воде гигантскими кулачищами, то закручивает своими длинными когтистыми пальцами страшные водовороты. Сквозь вой обезумевшего ветра им даже слышался его леденящий душу хохот...
На флагмане, не считая самого Алибея, находилось тридцать человек команды и сто янычар охраны. Все молились, но только лишь губы Януша беззвучно призывали на помощь совсем другого Бога, в которого верили его отец и мать и которого, как он искренне надеялся, никогда не предавал: «Господи Иисусе Христе, спаси и сохрани мя грешного... Спаси и сохрани...»
Корабль швыряло с волны на волну, бросало в мгновенно распахивающиеся пропасти и вздымало к разгневанному небу. Сквозь щели в палубе на скрючившихся в трюме людей лились потоки холодной воды, и цепенели души, и казалось, что ещё немного – и пучина разобьёт, навсегда поглотит их корабль...
В одно из таких мгновений, когда их жалобно скрипящий мирок снова рушился в невидимую, но так ясно ощущаемую бездну, перед Янушем вдруг промелькнула вся его жизнь...
Вот он четырёхлетний стоит на стене родового замка (намять почему-то сохранила именно это крохотное воспоминание без начала и конца). От шершавых серых камней тянет холодом, весенний ветер с гор треплет волосы, края одежды, и так страшно подойти и глянуть вниз за стену, где чернеет заполненный водой ров. За спиной Януша тоже пропасть, но уже не такая пугающая – там царит привычная уху суета, с кухни тянет чуть горьковатым, ласкающим ноздри дымком и туда ведёт крутая каменная лестница, у подножия которой рыдает от обиды не взятый на стену младший брат. Януш хоть сейчас готов сбежать вниз, но рядом, положив руку на его плечо, стоит отец. Отцовская рука тяжёлая, тёплая, надёжная. И мальчик решается: делает шаг к бойнице и встаёт на перевёрнутую вверх дном плетёную корзину – иначе ему не достать. Приникнув грудью к холодному камню, он смотрит вниз на опущенный надо рвом мост с толстыми ржавыми цепями, на сбегающую вниз дорогу, на лоскуты крестьянский полей меж поросших ежевикой и колючим репейником скал, на обступившие замок горы, с едва различимыми на их фоне дымами пастушечьих костров, на ослепительное синее небо, доступное только ангелам и птицам...
– Когда-нибудь, сынок, и ты будешь защищать эту землю, – говорит отец...
Сколько себя помнил Януш, в доме всегда жили с ощущением надвигающейся беды, которая в воображении мальчика представлялась в виде огромного чешуйчатого змея с красным раздвоенным языком, точь-в-точь как на иконе Георгия Победоносца. Змей этот захватил уже большую часть Сербии и вот-вот должен был добраться и до них. Правда, на севере ещё держался деспот Бранкович да несколько маленьких, вроде отцовского, свободных от турецкого гнёта княжеств. Но как-то ненадёжно, зыбко было всё это...
И Януш молился святому Георгию, чтобы тот пришёл на помощь Сербии, чтобы поразил турецкого змея своим длинным копьём в самое его змеиное сердце. Молился вместе с родителями и младшим братом в родовом, построенном ещё прадедом храме со старинными византийского письма иконами. Трепетный огонь свечей наполнял гулкое пространство храма тёплым ласкающим глаза светом, и от этого света чудным образом оживали нарисованные на стенах и сводах сцены из Святого Писания, потемневшие от времени иконы: строгие лики святых, кроткий, любящий взгляд Богоматери, глядящий прямо в душу Господь Вседержитель, и конечно же святой Георгий – покровитель рода Милошичей...
Когда Яношу исполнилось девять, из Константинополя прибыл выписанный отцом учитель – пожилой грек по имени Фока. У Фоки была окладистая чёрная борода, большой мясистый в красных прожилках нос и грустные зелёные глаза. Он учил Януша и его восьмилетнего брата счёту, латинскому и греческому языкам, при всяком удобном случае отмечая перед властелем способности старшего.
А ещё через два года случилась новая война с турками, и князь, простившись с женой и сыновьями, поспешил влиться со своею дружиной в войско молодого венгерского короля Владислава...
Всё решилось в битве под Варной, когда король, так безрассудно ворвавшийся в стан султана с горсткой храбрецов-рыцарей, пал под ударами турецких ятаганов, а его простоволосую голову на пиках вознесли над собою янычары. В рядах христианского войска началось смятение. Многие побежали с поля чести...
Милошич был одним из немногих, кто, не потеряв присутствия духа, встал со своей дружиной на пути перешедших в наступление османов. Но всё было тщетно: в короткой и яростной схватке дюжий гурок снёс кривым мечом голову Стефану, и вместе с закатившимися очами последнего закатилась и светлая будущность его сыновей. Турки окружили и перебили всю дружину властеля, лишь только нескольким воинам удалось пробиться сквозь лес мечей и копий, и тем спастись...
Запылённые, в изрубленных доспехах, с окровавленными перетягивающими раны тряпицами предстали они перед матерью Януша и, повалившись перед ней на колени, сообщили страшную весть.
– Прости нас, госпожа-матушка, что не сумели вынести господина нашего с поля брани! Прости нас, Христа ради! – кричали вислоусые, закалённые в боях воины, и в голосах их, слышал Януш, дрожали слёзы.
Узнав о гибели властеля, заплакали, запричитали все, кто в этот миг находился в зале, лишь только мать не проронила тогда ни слезинки. Прямая и строгая, стояла она перед дружинниками с окаменевшим бледным лицом...
А вскоре к замку Милошичей подступили передовые турецкие отряды. Но некому уже было защищать ни родовое гнездо храброго властеля, ни окрестные сразу же подожжённые турками деревушки. Замок сдался на милость победителей.
Получив от вдовы убиенного ими князя большой денежный выкуп, османы пощадили укрывавшихся в замке людей, однако тут же обезглавили всех оказавшихся в нём дружинников, числом около двадцати, и забрали с собой Яноша с братом, да ещё с полусотней других выделяющихся красотой и телесной крепостью мальчишек.
Яношу навсегда врезалось в намять, как кричала им вслед враз постаревшая мать:
– Помните веру свою! Чтобы не случилось, не предавайте её! Погибшим отцом заклинаю вас!
Этот истошный, рвущий душу материнский крик стоял в ушах мальчика всю дорогу от дома к неприветливому, никогда не виденному им морю, где их погрузили на корабли и отправили в самое сердце чужой земли...
Правда, в самом начале, пока их вели по родным, знакомым до последнего камушка местам, братья попытались бежать, но почти сразу же были пойманы и жестоко избиты.
– Ещё один убежит – пять жизней заберу, – на ужасном сербском говорил тогда беглецам сорванным и оттого более страшным голосом турок с обезображенным оспой лицом, а потом неспешно проводил плёткой по своему горлу, наглядно показывая, как он заберёт их жизни.
– Клянись, что больше не бежишь! Братом клянись! Слышишь?!
С этими словами страшный турок, больно сжимая плечо Януша, прижимал его к земле, и, падая на колени в дорожную грязь, тот кричал слова клятвы и плакал от отчаянья, а в голове все стучали материнские слова: «Не предавай! Помни веру свою!» Они жалили мозг, отдавались болью в сердце.
И он помнил. Помнил, когда обрезали крайнюю плоть, и мулла говорил что-то на чужом, непонятном тогда ещё языке, когда заставили произнести Шахаду, а потом назвали новым именем Бозкурт (за глаза серые и взгляд дерзкий, как сказал тогда мулла). Помнил и верил, что когда-нибудь сможет вернуться туда, где родился, где был крещён в православную веру, где отчий дом и мама...
А потом их долго и придирчиво рассматривал какой-то важный турок в дорогом расшитом золотыми цветами халате и чалме, такой большой и белоснежной, что казалось будто бы само облако поселилось у него на голове. У турка были хитрые вечно прищуренные глаза, по которым невозможно было понять сердится он сейчас или смеётся, и потные мягкие ладони. Велев догола раздеться, он заглядывал мальчишкам в рот, заставлял показывать язык, щупал мышцы на руках и ногах...
Из всех он выбрал только десять, в том числе и младшего Милошича.
А тот, едва поняв, что его навсегда разлучают с братом, неожиданно для всех бросился к Янушу и вцепился мёртвой отчаянной хваткой, да так крепко, что их не сразу смогли оторвать друг от друга. Наконец оторвали, встряхнули младшего как тряпичную куклу, так что у несчастного стукнули зубы, и швырнули к остальным девяти, уже с покорной обречённостью сидевшим на запряжённой волами повозке. Чёрный и худой как весенний грач возница тут же хлестнул по воловьим хребтам кнутом, и волы, шумно выдохнув, безропотно потащили повозку по ухабистой дороге прочь, вслед важному уже давно умчавшемуся на длинноногом скакуне турку – и это всё тоже навсегда осталось в цепкой памяти Януша.
И ещё осталось: тесно прижавшиеся друг к другу мальчишки, их тонкие шеи, покачивающиеся в такт колёсному ходу головы, и меж ними белокурая головёнка младшего брата, его устремлённые на Януша глаза, из которых одна за другой капают большие, как бусины, слёзы. Ещё помнилось, как хотел крикнуть брату напоследок что-нибудь важное, ободряющее, но только подвело вдруг Януша горло: вместо крика, издало какой-то жалкий полузадушенный писк...
Оставшихся мальчишек раздали по крестьянским семьям. Януш попал к улыбчивому и пузатому турку по имени Ахмед, который приехал за ним на грустном, что-то меланхолично жующем ослике с длинными чуткими ушами. Без лишних разговоров Ахмед усадил Януша на ослика и отвёз к себе в деревню.
Ахмед оказался человеком не злым и обращался с мальчиком так же, как и со своим многочисленным потомством: в меру бил, в меру кормил, заставляя работать от зари до зари. Потомство его состояло из малолетней дочки и шести сыновей, старший из которых был ровесником юного Милошича, а младший ещё пускал пузыри в люльке и, помнится, на появление нового члена семьи отреагировал громким отчаянным плачем. Скорее всего, он просто хотел есть, и таким образом призывал свою любопытствующую мать, которая специально выскочила из дома посмотреть на маленького, привезённого из-за моря «гяура». Её играющая во дворе дочка при виде Януша тут же спряталась за мамины шаровары, из-за которых он мог видеть то её тоненькую косичку, то косичку и любопытный чернющий глаз, и ещё часть измазанной сажей щеки. Остальные сыновья, наоборот, обступили его, как какую-нибудь диковинку, что-то радостно галдя на своём тарабарском наречии. При этом они безо всякого стеснения трогали мальчика за одежду и волосы, а старший вдруг взял и больно ущипнул его за нос. В ответ Януш отвесил обидчику такую затрещину, что тот кубарем полетел в грязь. Мигом вскочив и прокричав какой-то отчаянный боевой клич, турчонок бросился было на Януша, но тут смеющийся Ахмед схватил сына за шкирку и что-то строго сказал. Турчонок, однако, успокоился не сразу: незаметно от отца он ещё долго грозил новоприбывшему кулаком и показывал длинный блестящий от слюны язык...
Впрочем, турчонок и его младшие браться вскоре привыкли к Янушу, стали считать своим и даже приучили к этой мысли соседских детей, которые поначалу тоже задирали маленького «гяура», но пара стычек и несколько разбитых носов быстро охладили их ныл.
Перестала пугаться Януша и дочка Ахмеда. У неё было смешное, какое-то птичье имя Чичек, что по-турецки означало «цветок». Иногда Януш разрешал ей забавляться со своими длинными светлыми волосами: вплетать и выплетать из них разноцветные ленточки, чем очень веселил братьев. Это продолжалось до того момента, пока Ахмед в очередной раз не обрил наголо старших сыновей, а заодно с ними и Януша, к несказанному горю Чичек...
Через месяц мальчик уже вполне свободно понимал и говорил по-турецки – старый византийский учитель оказался прав: у старшего сына погибшего сербского князя действительно были способности к языкам.
Долгими зимними вечерами Янушу вместе с сыновьями хозяина разрешалось сидеть в мужской половине дома – селямлике. Сбившись для тепла в кучу, поближе к раскалённому от огня мангалу, мальчишки ели лепёшки из пресной муки, запивали их густым козьим молоком и слушали разговоры старших. Чужой мир, поначалу непонятный и враждебный, потихоньку становился для Януша своим. Стали привычными и частые молитвы, которые надлежало совершать не менее пять раз в день. Но, становясь вместе со всеми на обязательный намаз, он никогда не забывал про себя повторять, ту самую главную христианскую молитву, которой когда-то давно научила его мать: «Отче наш, еже си на небесех, да святится Имя Твоё...» и верил, что Бог и святой Георгий рано или поздно помогут ему. Ведь самое главное, как говорила мать, это верить и не предавать.
Он очень скучал по ней, по отцу, которого не мог представить мёртвым, по маленькому брату, по родному дому, и ему казалось, что эта молитва незримой ниточкой связывает его не только с Богом, но и с родными. Иногда они приходили к нему по ночам – тогда Януш просыпался в слезах, – но сны эти становились всё реже и реже...
Из крестьянской семьи его забрали через год и, привезя на окраину какого-то шумного города (позже он узнал, что это столица османов – Эдирне), втолкнули в большой обмазанный глиной сарай. Когда после яркого дневного света глаза Януша привыкли к полумраку, он увидел, что сарай полон мальчишек. Их было человек сто, не меньше, и все примерно одного с ним возраста. Покорно ожидая своей участи, они сидели на земляном утоптанном полу и своим потерянным и жалким видом напоминали только-только оторванных от матери котят. Многие плакали. Увидев, что вошедший – всего лишь их очередной товарищ по несчастью, они тут же потеряли к нему всякий интерес. Но у Януша, при виде такого количества ровесников, вдруг зародилась робкая надежда, что здесь он наконец встретится со свои братом или теми, с кем был угнан год назад на чужбину, или по крайней мере хоть что-нибудь узнает об их судьбе.
– Сербы есть? – громко спросил он на родном языке.
– Есть, – по-сербски отозвались сразу несколько голосов. С сильно забившимся сердцем Януга всмотрелся в лица, но, увы, все они были ему незнакомы, и после недолгих расспросов выяснилось, что никто из них никогда не встречался с его братом. Истории этих мальчишек были почти похожи на историю самого Януша, только кого-то продержали в турецких семьях год, кого-то два, а то и все три...








