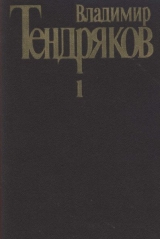
Текст книги "Собрание сочинений. Т. 1. Повести"
Автор книги: Владимир Тендряков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Нет, ничего не произошло на свете. Ровным счетом ничего.
Дын! Дын! Дын!.. Через влажный луг, через речку на железнодорожную насыпь поползли унылые звуки. Ночной сторож Степа Казачок отбивал двенадцать часов.
Ребята не обмолвились ни единым словом. Спотыкаясь на неровной тропинке, бросились бегом к селу…
Перед самым селом их встретила беспорядочная, громкая петушиная перекличка.
20
Опять весь вечер сидели гости. Беременная Мякишиха, прислонясь к Варваре, уставив на нее раскисшие от слез глаза, шептала:
– Варварушка… Навар из трав пила, а веры нету. Нету веры, что все обойдется. Врачи сказывают: не людская-де у тебя беременность… Сечение надо делать, резать.
Скучно вздыхала о своих ноженьках Агния Ручкина. Старик из деревни Заболотье, большой знаток Ветхого завета, курил толстые цигарки из крепкого самосада, давил их в разбитом блюдце и рассуждал о «нонешней распущенности»:
– В прежнее-то время вся жизнь, куда ни толкнись, в страхе проходила. Оттого кругом порядок стоял…
Отец Дмитрий больше молчал, кивал головой, соглашался, только несколько раз вставил свое слово:
– Ежели человек отравлен ядом, чтоб он не умер, надо очистить тело. В жизни душа ежедневно и еженощно яд принимает. Выругался нехорошим словом – яд. Осквернил себя водкой – яд. Строптивость свою высказал, начальству не подчинился – все яд. Вера очищает душу людей. Нет без веры духовного здоровья.
И снова замолкал, с ясным, чуть утомленным лицом покачивал головою, думал, верно, о чем-то своем.
Варвара сидела как каменная. Она и всегда-то при гостях чувствовала себя немного чужой, а теперь, после Прасковьи Петровны, после разговоров с Жеребихой, вконец растерялась, глядела в дверь остановившимися глазами, ждала Родьку, удивляясь, почему его долго нет. «Час-то поздний, и где его носит?.. Пожалуй, хорошо, что сейчас дома нет. К нему бы полезли. Мякишиха-то над ним бы стала причитать. Легко ли несмышленому парнишке выносить… Не напрасно учительша пугает, ой не напрасно! Как же парню быть? От школы отворачиваться?.. Господи, вразуми… То-то и оно, что ни случись, всюду – господи, а ведь Прасковья-то Петровна от бога Родьку отнимает…»
Разболелась голова. Варвара тихонько поднялась, ушла за перегородку, не раздеваясь, прилегла на койку. Сдержанно гудели голоса в соседней комнате…
Ее разбудили сердитые толчки.
– Вставай-ка, вставай. Эк, разлеглась… Забыла, чай, что у нас отец Митрий ночует. Не на полати же его сунуть. – Старая Грачиха, раскосмаченная, придерживая на груди рубаху, стояла над ней. – А нашего-то гулены до сих пор дома нету. Выходила на улицу, кликала, не отзывался. Клавдию встретила, тоже своего Ваську ищет. Вместе где-то шабашат.
Выглянула за переборку, пригласила:
– Иди, батюшко, постельку сейчас сготовлю.
Варвара поднялась, заспанная, с тяжелой головой, вышла в переднюю.
Изба хранила следы недавних гостей: пол у порога крепко затоптан, на подоконнике щербатое блюдечко усажено окурками.
Тяжело и неуютно стало в доме. Покоя и тишины хочется. Ей-то еще полбеды, а Родьке, верно, вдвое неуютней.
Кряхтя и посапывая, за перегородкой укладывался на пригретую Варварой постель отец Дмитрий. Бабка торопливо отбила положенные поклоны, взобралась на печь. Через минуту, как обычно, полился оттуда ровный храп.
Каждый вечер опускалась Варвара на колени перед иконами, опустилась она и сейчас.
Что сказать господу? Как пожаловаться? О чем просить, что вымаливать? Как держать себя? Все перепуталось, ничего не понятно. Одно слово вырывается из души:
– Господи!!
Словно вполшепота, но это крик измученного сердца, крик жалобный и бессильный.
За спиной раздался осторожный шорох. Варвара оглянулась. У дверей стоял Родька. При свете гаснущей лампы было видно его бледное, смятенное лицо.
Варвара медленно поднялась с полу.
– Родюшка… Ай опять беда какая?
Родька резко дернул плечом, словно сбрасывал с него невидимую лямку, связанной походкой, уставясь в угол, прошел на середину комнаты мимо матери. С минуту он глядел в упор на темную икону, потом колени его подогнулись, он вяло осел на пол и, съежившись, пригнув голову, неожиданно зарыдал.
– Родюшка, сердешный, да что с тобой, золотце? – Варвара бросилась рядом с ним на пол, обняла, сама заплакала. – Видать, снова напасть какая. Да что за наказание! Что там случилось-то, скажи?
Но Родька молчал, только плечи его под материными руками сильно вздрагивали.
От молчания, от слез сына, от чудотворной, зловеще выкатившей белки глаз, от всего непонятного, что творилось на белом свете, Варвару охватил дикий ужас. Новая беда! Новые несчастья! Мало прежних?! Надо спасать сына, надо оградить его от беды!
Варвара крепче обхватила Родьку за вздрагивающие плечи, приподняла, шипящим шепотом заговорила:
– Молись, Роденька, молись, сынок! Проси прощения за себя, за мать-грешницу. Сомнениям поддалась мать-то… Ох, разнесчастные мы!.. Нет нам спасения… Молись, голубчик…
И случилось чудо… Родька, вечно бунтующий, упрямый, только из-под палки поднимавший ко лбу руку, вдруг со всхлипом вытер лицо рукавом, покорно зашевелился, встал коленями на пол, упершись заплаканными глазами в лампадку, слабым голосом произнес единственную молитву, которую знал, короткую, в два слова:
– Прости… господи…
Он крестился, лицо его выражало просительный страх, а Варвара, тоже стоявшая рядом с ним коленями на полу, застыла от изумления и нового ужаса. Вот оно, свершение! Вот она, сила божья! Как же тут сомневаться в господнем могуществе?
21
Привычный мир рухнул для Родьки. Надо было как-то по-новому жить, по-новому поступать.
У каждого здорового мальчишки смысл жизни заключается в одной фразе: «Когда я вырасту большим…» Два года назад в Гумнищи вернулся с флота теперешний председатель колхоза Иван Макарович. Тельняшкой, мичманкой с золотым крабом, всем своим морским обличьем он жестоко поразил Родькино сердце. И после этого Родька мечтал: «Когда вырасту большим, стану моряком». Золотая надпись на ленте, синий воротник за спиной, ремень с медной пряжкой в ладошку – вот он, Родька Гуляев, приехавший домой на побывку! Пусть это была по-детски наивная мечта, но мечта о будущем. А в детстве будущее и счастье – одно и то же слово.
Теперь от этого будущего надо отказаться. Где уж там бескозырка с ленточками, когда тебе придется молиться, когда ты нашел святую икону, когда за тобой следит сам бог, ты у него на примете! Неужели жить, как велит бабка? Кем он будет, когда вырастет большим? Непонятно, неясно, темно впереди. С богом и бабкой как-то не мог себе представить Родька будущего.
Нет будущего, значит, нет жизни, от всего надо отказаться. Не по приказу бабки, не из-за страха, что она выдаст лупцовку, – самому отказаться!Это тебе не крест на шею, это не просто стыд перед ребятами, который раньше так сильно мучил. Тогда-то страдал, а знал: пройдет день, неделя, месяц, пусть даже год – и все наладится, все переживется. Теперь не надейся на время, оно не спасет. Тогда можно было бунтовать, возмущаться, жаловаться кому-то, хотя бы Прасковье Петровне. Сейчас не перед кем бунтовать, не на что жаловаться, в тебе самом сидит беда. Нет будущего, нет счастья, ничего нет!
Утром дома готовились к молебну, и бабка не отпустила Родьку в школу.
– Не каждый день молебны заказываем в честь новоявленной. Родька, чай, не лишний человек в этом деле. Школа не сгорит, коли он там день не побудет.
Родька молчал, не глядел, как прежде, упрямым бычком в пол, лишь тоскливо озирался. И мать испугалась его покорности, робко и неуверенно возразила:
– Как бы шума не вышло…
– То-то вы все боголюбы. – Бабка веником, насаженным на длинную палку, обметала паутину с потолка. – Милости у бога выпрашиваете, а огласки боитесь. А вы не бойтесь за господа шум на себя принять. Снесете, ежели и поругают маленько.
Родька молчал. Он молчал и тогда, когда бабка отозвала его в соседнюю комнату, роясь в коробке среди пузырьков и катушек, сердито зашипела:
– Крест-то бросил? Думал, не узнаю, нечестивая твоя душа? Говори спасибо, бог уберег. Ради такого дня выволочки не получишь. Народ собирается, срам на люди не хочу выносить. Вот тебе другой крестик. Ну-ка, одевай живо да не кобенься.
Шершавые пальцы бабки расстегнули ворот рубахи, твердая ладонь тычком по затылку заставила нагнуть голову. Шнурок крестика зацепился за ухо, бабка грубо его поправила.
Начали мыть пол, и Родька решил выйти во двор. Но когда он ступал из дверей на крыльцо, понял: лучше бы не показываться из дому.
Пошевеливая вздыбленными плечами, пробив пригнутой головой скучившихся баб, подполз к крыльцу безногий Киндя. Шапки нет, лицо распухшее, сизое, из-под заплывших век – не понять, враждебно, равнодушно или заискивающе – уставились сквозь щели неподвижные глаза. Он, закинув назад голову, набрал в широкую грудь воздуха, казалось, вот-вот разразится длиннейшей речью. Но Киндя выдохнул лишь одно слово:
– Бла-ослови! – после чего, держась за утюжки, принялся кланяться, касаясь лбом земли, выставляя локти, как кузнечик лапки.
Сморщенный старичок из Заболотья, тот, что знал Ветхий завет, сплюнул и отвернулся.
– Нехристь. С утра нализался… Нашел время.
В надвинутом на глаза платке подскочила мать Кинди, ткнула тощим прокаленным кулачком в налитый кровью сыновний загривок, заговорила с визгом:
– Сгинь, бесстыдник! Сгинь, окаянное семя! Выполз зверь зверем, за мать бы посовестился.
– Бла-ослов-ения хочу, – промычал неуверенно безногий Киндя и опять повалился лбом в землю.
– Кинька! Один останешься. Уйду, мотри! – уже без визга, с угрозой проговорила старуха. – Какое тебе благословение, дурья башка? Ведь на малом свяченого чина нет.
Киндя помедлил, широкий, плотный, крупноголовый, по плечо тощей, низкорослой матери, вздохнул и боком стал отодвигаться в сторону.
– Ты, голубок, не пужайся. Идем к нам. Покудова там готовятся, посидим рядком, потолкуем ладком.
Из-под платка, козырьком напущенного на лицо, щупали Родьку выпрыгивающие вперед глаза, костистая рука бережно и в то же время твердо взяла за локоть, свела Родьку с крыльца.
Сидевшая прямо на земле, широкая, как сопревший от непогоды суслон, Агния Ручкина зашевелилась, попробовала было подняться навстречу Родьке, но не сумела, лишь тоскливо вздохнула:
– Ох-ти, мои ноженьки…
Но из-за Ручкиной выросла закутанная в длинную шаль Мякишиха – глаза выкаченные, сухо блестящие, тонкие губы бесцветны.
– Миленький! – схватила она Родькину руку, припала к ней сухими горячими губами.
Родька с силой выдернул руку, рванул локоть из костлявых пальцев Киндиной матери, затравленно оглянулся. И тут же его взгляд упал на дорогу. К изгороди размашистым шагом приближалась Прасковья Петровна.
В своей неизменной вязаной кофте, легкий платочек туго стягивает прямые черные волосы, на лице будничная озабоченность и знакомая школьная строгость, она так не походила на тех, кто стоял сейчас во дворе, так обычна, так знакома – человек из другой жизни, родной и утерянной для Родьки.
– Родя, ты почему не пошел в школу?
И Родька в эту минуту представил самого себя, словно бы посмотрел со стороны глазами Прасковьи Петровны: в чистой, праздничной рубахе, стянутой пояском, смоченные волосы гладко зачесаны бабкиным гребнем – вот он, ученик из ее класса, среди старух, беременных баб, в компании с пьяным Киндей и Агнией Ручкиной, квашней сидящей на земле. Это был позор. Это был конец. Худшего уже нельзя было представить.
– Родя, я спрашиваю: почему ты не в школе?
Все, кто был во дворе, молчали, с подозрительностью глядели на учительницу. Прасковья Петровна не обращала на них внимания, мягко и спокойно уставилась на Родьку.
И Родька, издерганный за последние дни, измученный кошмарной ночью, не выдержал, схватился за голову, затопал ногами, неожиданно осипшим, громким голосом закричал:
– А-а-а!.. К че-ерту-у! Всех к черту-у! Уходите! Все уходите! Все!!!
После первого же выкрика в окружавшей его толпе поднялся недовольный ропот:
– Небось, на дом пришла.
– Мало ли там шелапутных, которые запросто из училища убегают.
– За теми не следят. Не-ет.
Родька с багровым лицом топал ногами, кричал:
– Уходите! Уходите! Уходите!!
– Родя, пойдем отсюда, – не обращая внимания на враждебный ропот, мягко позвала Прасковья Петровна.
Но Родька не слышал, его крик оборвался, он, оскалившись, оглядывался кругом и затравленно вздрагивал от рыданий.
Киндя, раздвигая плечами старушечьи подолы, пробрался к самой изгороди, задрав опухшую, кирпично-красную рожу, сипловато заговорил базарной скороговорочкой:
– Ты, мамаша, извиняюсь… Иди, мамаша, своей дорогой. Не то я, человек изувеченный, за свою натуру не отвечаю…
Прасковья Петровна сначала с удивлением, потом с брезгливостью секунду-другую разглядывала сидящего на земле Киндю, отвернулась, обвела взглядом старух, буравящих ее из-под чистых платков выцветшими глазами, снова обратилась к Родьке, кусающему рукав своей рубахи:
– Успокойся, Родя. Идем отсюда.
Но Киндя угрожающе зашевелил поднятыми плечищами:
– Ты, мамаша, слышала? Я в переглядки играть не люблю.
Давно не стиранная рубаха распахнута на груди, на распаренной физиономии – ржавчина щетины, из заплывших век глаза враждебно сторожат каждое движение учительницы. За ним, широким, плотным, наполовину вросшим в землю, сбились в кучку старухи в празднично белых платочках, старик из Заболотья по-гусиному сердито вытянул жилистую шею, судорожно ежась, мальчишка прикрывал рукавом рубахи застывший оскал на лице.
На минуту стало тихо. С шумом дышал задравший вверх голову Киндя. Прасковья Петровна, сурово выпрямившаяся, с плотно сжатым ртом глядела поверх Кинди на Родьку.
Никто не двигался, все ждали.
Прасковья Петровна первая пошевелилась. Она шагнула вдоль изгороди к въезду во двор. Без знакомой сутуловатости, распрямившаяся, с бесстрастным лицом, не замечая с угрозой подавшегося на нее всем своим коротким телом Киндю, Прасковья Петровна шла, не спуская взгляда с Родьки.
И Киндю взбесила ее бесстрастная уверенность. Без того красная физиономия до отказа налилась темной кровью, сиплая, площадная брань загремела над залитым солнцем двориком. Тяжелый, обшитый кожей утюжок-подпорка полетел в учительницу…
Киндя промахнулся. Утюжок с силой ударил в изгородь, жердь глухо загудела.
Прасковья Петровна резко обернулась. В ее широком, грубоватом лице с плотно сжатым ртом появилось гневное, по-мужски жесткое выражение. Но к ней, опираясь руками о землю, полз, выставив тяжелую голову, сипло выкрикивая грязные ругательства, калека, бешеный, невменяемый и жалкий. И гнев исчез с лица Прасковьи Петровны, только на щеках под глазами проступил неяркий румянец. Она повернулась и, ни на кого не глядя, своим широким, тяжелым шагом пошла прочь. Никто не двинулся, никто не обронил ни слова. Только Киндя тряс кулаком над головой, выкрикивал вслед ругательства.
Родька опомнился, увидел перед собой запавший, морщинистый рот Киндиной матери, с яростью толкнул ее в тощую грудь, бросился в сторону, налетел на сидящую Агнию Ручкину. Та, охнув, свалилась на бок.
Чья-то рука пыталась его задержать, он с остервенением ударил по ней. Оскалясь, с мокрым от слез лицом выскочил на улицу, бегом бросился по дороге – прочь от дома, прочь от страшных людей.
22
Через полчаса он сидел дома у Прасковьи Петровны.
Небольшая, оклеенная веселыми обоями комнатка была заполнена солнцем. От узкого стола, заваленного книгами и стопками тетрадей, от окна, за которым выбросила нежные оборчатые листочки смородина, от монотонного тикания темных, старинных часов ложился на измученную Родькину душу сонный покой. Здесь бы жить, не надо ни бескозырок с ленточками, ни тельняшек, читать бы эти книги, рыться в тетрадях – счастливо живет Прасковья Петровна!
С опухшим от слез лицом, подавленный, вялый, Родька рассказывал о церкви, о непонятном, страшном звуке среди ночи под куполом, постоянно повторяя одну и ту же фразу:
– Раз про церковь они не врут, значит, и про бога тоже…
Прасковья Петровна без своей примелькавшейся вязаной кофты, в платьице мелким горошком, полная, невозмутимая, уверенная, слушала без всякого удивления, наконец покачала головой:
– Эх-хе-хе. Как ты доверчив. История с церковью – старая песня. Лет двадцать назад я сама лазала слушать это, как его там называют, пиление…
– А что это?
– Надо было самому и дознаться до конца. А то сразу в чудеса поверил.
– Но что?
– Недалеко от церкви, как ты знаешь, проходит железная дорога. Когда мимо идет поезд, звук от его колес попадает в церковь и отдается под куполом. Такое явление в физике называют резонанс. Каждую ночь мимо церкви проходит в одно и то же время пассажирский поезд. Значит, каждую ночь в одно и то же время раздается звук, который ты слышал. Но чтоб его услышать, не надо даже лазать ночью. И днем ведь поезда ходят… Понятно тебе?
– Резонанс, – повторил Родька.
Он вспомнил три красных огонька, уходящих в ночь, спокойный стук колес, припомнился и самый звук под куполом… Если разобраться, этот звук действительно смахивал на шум приближающегося поезда, сначала тихо, издалека, потом ближе, громче, только визгливей… Вместо радости и облегчения, что все так просто объяснилось, Родька почувствовал страшную усталость и равнодушие. Мучился, ночью не спал, даже молился, а из-за чего?..
Тошно теперь думать об этом, тошно вспоминать.
– История эта забывалась, – рассказывала Прасковья Петровна, – потом опять о ней начинали говорить. Только одни старухи все верили, что она связана с нечистой силой… Э-э, да ты, братец, не слушаешь?
– Я домой больше не пойду, – заявил Родька.
– А я тебя и не отпущу. Поживешь денек-другой у меня, пока мы все не уладим. Я сейчас уйду в школу, освобожусь от уроков и отправлюсь в Загарье, в райком партии. Поговорю начистоту. – Прасковья Петровна поднялась. – Есть захочешь – суп в печке, достань сам. Захочешь погулять, иди. Ключ под дверью положишь. А то книжки читай…
Она ушла.
Родька знал, что муж Прасковьи Петровны, тоже учитель, давно, еще до войны, когда его, Родьки, еще не было на свете, попал с лошадью в полынью, простудился и умер. Прасковья Петровна жила одна в своем домике, по хозяйству ей помогала тетя Глаша, школьная уборщица. Иногда Прасковья Петровна брала себе на квартиру какую-нибудь молодую учительницу, жила с ней до тех пор, пока та не выходила замуж.
В пустом доме одному Родьке стало тоскливо. Он походил из комнаты в комнату, пощупал руками книжки на полках, но взять их постеснялся.
Родька лег на узенький диванчик, закинул руки за голову и стал разглядывать веселый узор на обоях. Лежал час, лежал два часа, арестант не арестант, а вроде этого. Лежал и думал об одном – об иконе.
Его потревожил осторожный стук в дверь. Он испугался, что войдет кто-нибудь из учителей. Будут расспрашивать, сочувствовать, качать головой… Он выглянул в соседнюю комнату и увидел, что в дверь бочком вошла его мать, испуганная, постаревшая, со страдальческой синевой под глазами.
– Родюшка, – горестно и виновато произнесла она. – Ты здесь, сокол?.. Я все село избегала, все кругом обрыскала…
Воровски оглядываясь, она робко подошла, осведомилась шепотом:
– Нет хозяйки-то?
И когда Родька тряхнул в ответ головой – нет, вздохнула свободнее.
– Идем, голубь, домой! Идем!.. Молебен-то давно кончился, все ушли. Тишина теперь дома, слава тебе господи! Идем, горюшко мое!..
Она заплакала, и Родьке стало жаль ее.
Почему ему нельзя жить с матерью и бабкой, как живут все ребята? Что мешает?.. Проклятая икона! Ведь до нее все шло хорошо.
Она припомнилась ему со всеми подробностями: с черным лицом, разделенным длинным и узким носом, с яркими глазными яблоками, с крохотным огоньком лампадки возле бороды. Как он ее ненавидит! И бабку ненавидит, и мать – вцепилась в икону, нет чтоб отдать Жеребихе, обрадовалась игрушке. А эта игрушка всю жизнь ему поломала! Всю! Чужие люди жалеют, а ей наплевать! На доску променяла!..
23
Не только из-за одной истории с Родей Гуляевым решилась Прасковья Петровна побывать в райкоме партии. Если б дело было только в одном Роде! Своего ученика она сама как-нибудь оберегла бы, обуздала бы родителей. Но за последнее время все чаще всплывают глухие случаи. В прошлом году в деревне Пятидымке открылся родничок со «святой водой». Зимой комсомолка Фрося Костылева уехала из Гумнищ в соседний район Ухтомы и там венчалась в церкви. Это дело не обсуждали по той причине, что Фрося «снялась с учета». А крещение детей, а пьяные престольные праздники!.. Надо в конце концов всерьез поговорить в райкоме.
Шел сев, и нечего было рассчитывать, что колхоз даст лошадь. Начавшее подаваться к закату солнце крепко припекало. Плащ пришлось снять и перекинуть через руку. Пахло прелой листвой, вылежавшей под снегом хвоей, пахло весенним травянистым гниением, обещающим не умирание, а обновленную жизнь. Прасковья Петровна шагала тысячу раз исхоженной дорогой, возле которой были знакомы каждая елка, каждый пень. Тридцать лет по этой дороге носила она свои заботы. Постарела, ссутулилась, голова усыпана сединами, и опытнее стала и умнее – изменилась, только заботы остались прежними. Возможно, по этой же дороге она носила заботы о Родькиной матери. Учись, старый педагог, на просчетах! Не допусти, чтобы Родя Гуляев вырос похожим на свою мать!..
За спиной Прасковьи Петровны послышался стук копыт о влажную землю. Она подалась к обочине, обернулась. Весело взбрасывая сухой головой, украшенной от челки к носу белой проточиной, приближалась легкой рысцой лошадь. Она поравнялась с учительницей, и человек, сидевший в пролетке, натянул вожжи:
– Тпру-у!
В мягкой, крепко надвинутой на лоб кепке, в брезентовом плаще, в каких обычно ездят районные уполномоченные, седая бородка растрепана встречным ветерком, возвышался в пролетке отец Дмитрий.
– Издалека вас приметил, Прасковья Петровна. Вы не в Загарье? Разрешите просить об одолжении – подкинуть вас до места.
Коляску потряхивало на выбоинах. Весело бежало вдоль дороги еловое мелколесьице. Отец Дмитрий вежливо посапывал, ждал, когда Прасковья Петровна первая начнет разговор, не дождался, заговорил сам:
– К великому сожалению, узнал, что вас утром обидел этот пьяный инвалид. Не судите его строго, он достоин скорей жалости, чем осуждения.
– Я незлопамятна.
– Вообще-то народ здесь не испорченный, добрый, гостеприимный. Один порок – упрямы чрезвычайно.
– Упрямы? В чем? Не замечала.
– А вот хотя бы настаивают, чтоб я хлопотал об открытии возле Гумнищ храма. Никаких возражений не хотят слушать.
– А вам разве помешает этот храм?
– Нет. Я служитель церкви, и было бы грешно лукавить, что не желаю открытия еще одного храма.
– Тогда вы должны быть довольны их упрямством.
– Вся беда, что теперь открытие храма Николы на Мостах невозможно. Не дадут разрешения. Вот если б, скажем, этот храм был занят под склад или зернохранилище, тогда другое дело. Я, конечно, не присягнул бы за удачный исход, но хлопотать было бы куда легче.
– Почему? – удивилась Прасковья Петровна. – Мне представляется совсем наоборот. Раз бывшая церковь занята, ее труднее освободить.
– О нет, тут есть свои выгоды! Мы бы пошли на условие – строим зернохранилище, разумеется, вместительное, удобное и добротное, а храм попросим разрешения использовать для нужд верующих.
И не в первый раз за их короткое знакомство Прасковья Петровна с удивлением вгляделась в этого человека. Уткнув бородку в грубый воротник плаща, держа на коленях вожжи своими старческими, со вздувшимися венами руками, он всей своей плотной фигурой выражал скромное достоинство.
Это не только божий агитатор, во славу господа действует не одними молитвами. Гумнищинский колхоз, который уже год не соберется поставить новый клуб, сельская библиотека ютится в одной комнате с секретарем сельсовета, а тут сколько вам нужно: сто тысяч, двести, триста – пожалуйста, не жаль средств для удобства бабки Грачихи, чтоб не бегала за двенадцать километров ко всенощной, имела храм под боком, без особых хлопот несла туда своим трудом и экономией добытые пятаки.
Отец Дмитрий незаметен, районные власти не прорабатывают его на заседаниях, не привлекают к общественным нагрузкам, живет себе, ворочает делами, ублажает верующих, себя не забывает. Вот он – кепчонка мятая, плащ дешевый, а пролетка новая, лошадь сытая… Загарьинское роно, государственное учреждение, не может выхлопотать себе лошадь, школьным испекторам приходится бегать в командировки пешком.
Молчание Прасковьи Петровны, должно быть, насторожило отца Дмитрия. – Он, повернувшись на тесном сиденье всем телом в сторону учительницы, снова заговорил с интонациями интимной душевности:
– Есть вечная, как мир, истина, Прасковья Петровна: добро должно торжествовать над злом. Всякий обязан добиваться этого своими силами. Вы это делаете по-своему, а я – по-своему, как могу.
– К чему вы это?
– К тому, Прасковья Петровна, что чувствую некоторое недоброжелательство ко мне с вашей стороны.
– Разве оно вам мешает?
– Всегда прискорбно знать, что достойный человек смотрит на тебя недоброжелательно. Не скрою, среди нынешних священнослужителей есть всякие. Есть и ловкачи, греющие руки на приходах. Есть и просто недалекие, необразованные, без особых идеалов. Но есть и такие, кто всю душу отдает служению добру. Вы не верите в Христа. Я, быть может, сам верю в него с оговорками. Но, если именем Христа я могу у людей вызвать добрые чувства, почему это должно считаться позорным? Почему это должно возмущать?
Это был уже вызов на откровенность, и Прасковья Петровна решила его принять.
– Потому и возмущает, что вы пытаетесь добрые чувства вызывать именем бога, именем Христа.
– А не все ли равно, Прасковья Петровна, через бога или через что другое вызываются добрые чувства? Лишь бы они появились.
– Нет, не все равно. Как там в библии сказано, если память не изменяет: «И сделал господь бог Адаму и жене его одежды кожаныя и одел их». Бог одевает, бог кормит, бог требует: будьте добрыми – всюду бог. А ведь человек потому и стал человеком, что он всего достиг сам, своим умом, своими руками. Вечным вмешательством бога вы отнимаете у человека право быть хозяином своей жизни.
– Как же это мы отнимаем? Помилуйте! Пусть люди пашут землю, строят заводы, рожают детей и живут в страхе перед богом, великим и справедливым, который не допустит зла.
– В страхе… Почему вы считаете, что для людей обязательно нужна моральная плетка? Почему вам кажется, что все доброе, все хорошее человек может воспринимать только из-за страха перед какой-то всемогущей силой, а не потому, что он сам по себе сумеет понять необходимость хорошего и вредность плохого? Я педагог, и я знаю, что нельзя воспитывать детей запугиванием. Вы через запугивание пытаетесь воспитывать людей. Вредная практика! Та же бабка Грачиха всю жизнь жила в страхе перед господом богом. Но ведь это не помогло ей стать чище, лучше, достойнее других, которые давным-давно отбросили этот страх.
– Прасковья Петровна, поведение старой и, я бы сказал, неумной женщины еще не доказывает, что люди не должны жить без веры. Вы, конечно, не будете закрывать глаза на то, что вера в бога может помочь людям верить в другие полезные дела. Хотя бы, к примеру, во время войны я поддерживал среди своих прихожан веру в победу великого русского воинства. Кстати сказать, это была не только духовная поддержка: мои верующие внесли около двухсот тысяч рублей в фонд обороны. На них, наверно, была отлита не одна пушка.
– Да, верю, польза была. Но сколько вреда тем же людям вы принесли вместе с такой пользой?
– Покорнейше прошу, объясните, что за вред?
– Я учила Варвару Гуляеву, чтоб она умела во все вникать, обо всем самостоятельно мыслить. Я хотела, чтобы она стала человеком с широким кругозором, с сознательной верой в будущее. А вы, быть может, именно в эти военные годы сумели навязать ей свою веру – слепую веру, при которой не нужно думать, не нужно рассуждать. Мир для нее стал темен и непонятен. Мы победили в войне – зачем ей, Варваре, анализировать, зачем ломать голову над вопросами, отчего да почему, – просто божья благодать. С войны в гумнищинском колхозе стало труднее жить. Как поправить положение? Опять один ответ: на то божья воля. И так во всем и всюду – умственная слепота. А от слепоты, от неизвестности появляется чисто животный страх перед жизнью. Страх перед божьим гневом, страх перед начальством, перед дождем не ко времени, перед кошкой, перебегающей дорогу. А тут еще вы вдалбливаете: терпи, ибо все от бога, будь покорной. Покорность, ленивый ум и страх – этого вполне достаточно, чтобы сделать из человека духовного раба. Хотели вы или не хотели, а создавали духовно убогих людей, моральных уродов по нашему времени. Спасибо вам за вашу маленькую пользу, но знайте: мы по достоинстзу оценили и вред.
Отец Дмитрий сделал неопределенное движение плечами, словно говоря: «Воля ваша, как хотите думайте…»
– Мы никого, Прасковья Петровна, не тянем к православной вере за уши, – заявил он с достоинством. – Наш долг – лишь не отворачиваться от людей.
– Если бы вы тянули за уши, тогда наш разговор был бы более простой. Вы существуете, этого уже достаточно. Но как бы вы ни притворялись, как бы вы ни успокаивали себя, что ваше добро и ваша вера с нашей сладится, все равно вы знаете: будущее грозит вам тленом и забвением. Не примите это как личную обиду.
Чувственные, полные губы отца Дмитрия скорбно поджались.
– Как знать, как знать, – после недолгого молчания возразил он. – Потянулись же после войны люди к богу. Всякое может случиться впереди.
– Вот вы какие! Называете себя рыцарями добра, а сами тайком ждете больших народных несчастий. Авось они вам помогут. Не так ли?
На этот раз отец Дмитрий ничего не ответил, только покачал сокрушенно головой, отвернулся. Остаток дороги проехали молча.
Прасковья Петровна сошла у райкома партии. Отец Дмитрий натянул снятую при прощании кепку, почтительно проследил взглядом, как Прасковья Петровна, чуть сутуловатая, твердо ступающая своими тяжелыми сапогами, поднялась по крыльцу и скрылась за дверями того учреждения, в которое он никогда не имел ни нужды и ни желания заходить.
24
В районе кончался весенний сев. Райком партии был пуст, все разъехались по колхозам. В общем отделе стучали машинистки, за закрытыми дверями в пустых кабинетах яростно надрывались телефоны. В кабинете первого секретаря Ващенкова, пользуясь его отсутствием, уборщицы выставляли зимние рамы, мыли стекла.
В скупо освещенном коридоре растерянно слонялись от одной двери к другой два парня в телогрейках. Видно, приехали из какого-то отдаленного колхоза, привезли с собой кучу неотложных вопросов и теперь недоумевали, на голову какого же начальника свалить их. Каждый раз, как Прасковья Петровна проходила мимо, они провожали ее пристальными, вопрошающими взглядами.








