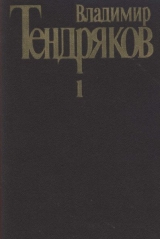
Текст книги "Собрание сочинений. Т. 1. Повести"
Автор книги: Владимир Тендряков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
– Ты брось дурить. Вот сейчас трактор придет. Лейтенант побежал доставать. Парень пробивной – достанет.
– Нутро разрывает…
– А ты лежи, не шевелись… Думай о чем-нибудь. Старайся забыть о болезни, думай, легче переносить-то… Эх, как это ты не сумел? Старухи выскочили, а ты сплоховал.
– Там борт был проволокой прикручен… Голенищем зацепил… Замешкался…
– За проволоку? Эх!
Разговаривал с Княжевым, помогал запрягать лошадь, вез по разбитой дороге кричащего раненого – все это время ни на минуту не покидало Василия лихорадочное беспокойство: скорей, только скорей! Оставшись один, глядя на размытые звезды, на расплывшиеся в ночной тьме деревья, он забылся, успокоился… Сейчас же, наклонившись над парнем, всматриваясь в темное лицо на белой подушке, улавливая сухой, болезненный блеск его глаз, Василий почувствовал, как с новой силой заметалась в тревоге изболевшаяся душа: «Ждем! Стоим! Время идет!.. Где же трактор? Эх, этот Княжев! Будь он проклят!»
Лошадь, дремавшая в оглоблях, потянулась вперед, лениво захрупала сеном. Тихо кругом, спят люди. Нет другого выхода, как только ждать, ждать, ждать! А ждать тяжело! Ждать невыносимо!
Где-то по знакомой Василию дороге едет теперь человек, он могущественный, он сильный, он один, только он может помочь этому парню. Вместе с болью за свою беспомощность появилась благоговейная зависть к тому неизвестному, наделенному дерзким умением человеку. Он может отогнать смерть! Вот бы стать таким, жизни бы своей не жалел, покоя не знал, ходил бы от больного к больному, приносил здоровье. Недоступное, великое счастье! Из дому вышла фельдшерица, приблизилась к телеге, спросила пригибаясь:
– Как наш больной?
– Мучается.
– Трактора что-то долго нет.
Василий застыл на секунду, с напряжением вслушался – а вдруг да как раз в эту минуту донесется стук мотора. Но лишь лошадь шелестела сеном да воздух был заполнен таинственными звуками залитой дождями земли. Василий ответил:
– Будет трактор.
– Конечно, будет.
От девушки, побывшей в избе, шел какой-то теплый, чуть кисловатый домашний запах. Платок ее сбился на затылок, открыл густые волосы, черты лица расплылись в темноте. Она, невысокая, чем-то уютная, успокаивающая, и своим видом и ровным голосом стала близка Василию: желания у них одни, боль одинаковая, понимают друг друга с полуслова, даже удивительно, что всего каких-нибудь четыре часа назад они не были знакомы.
– Вы много спасли больных?
Девушка подумала и ответила:
– Да ни одного.
– Как это? – тайком обиделся Василий.
– Ко мне все с пустяками приходят: гриппом заболеют или же бабка Казачиха с ревматизмом своим заглянет. Выпишешь рецепт на порошки, на бутылку скипидара, – какая уж тут спасительница.
– Ну, а хирург?..
– Виктор-то Иванович? Он многих спас. Знаете такого Леснякова Федора Ефимовича? На ссыпном пункте работает. Умирал от язвы желудка… Что это?..Девушка замолчала, прислушалась.
Но все было по-прежнему, лишь от слабого ветерка тронулись шелестом деревья и стихли.
Тянулось время. На небе стали отчетливо заметны рваные облака, на грязной дороге можно было различить рваные вмятины, комковатые выступы, а на стенах избы – каждое бревно: светлело…
Василий первый уловил еле слышный стук мотора.
Подошел трактор, и сразу стало шумно на окраине маленькой спящей деревеньки. Сильный свет фар уходил в глубину пустынной улицы, стучал бодро и решительно мотор. С тяжелых и широких, как железнодорожная платформа, саней соскочили два человека – лейтенант и какой-то незнакомый, узкоплечий, гибкий, чернявый, в коротеньком городском плаще.
– Наделали шуму! Я, брат, разузнал, где секретарь парторганизации живет. Я всех эмтээсовских коммунистов поднял. То-то Княжев будет чесаться! Раньше бы нам побегать. – Лейтенант говорил возбужденно, не без хвастовства. Он потащил Василия к чернявому. – Спасибо ему скажи. Иван Афанасьевич мне помог…
Но Иван Афанасьевич подошел к телеге, заглянул к больному:
– Жив?.. Э-э, да что это он? Бормочет что-то…
Фельдшерица подошла, пригнулась, сообщила:
– Бредить начал. Надо ехать скорей. С трактора слез знакомый уже Василию рыжеусый бригадир, закуривая, обронил:
– Хорошо, что жив еще. А то пока с Княжевым кашу сваришь…
– Где Наташа? – спросил лейтенант, оглядываясь.
– В избе она. Спит. Устала.
– Вы поезжайте. Я подожду здесь, пока она не проснется. Лошадь-то оставьте, мы чемоданы свои привезем в село. Старушку эту с корзиной встретил, в деревню, говорит, чемоданы снесли. Как ее, Ольховка, что ли?..
Василий хотел проститься с лейтенантом, поблагодарить его, но тот поспешил к избе. Так и исчез этот человек, даже не бросив обычное «до свидания».
Выгребли из-под больного сено, разостлали на платформе саней. Больной не очнулся, бормотал в бреду:
– Ребята, заходи с мережей… Под берег, под берег заводи…
Василий и девушка уселись в ногах у больного. Чернявый Иван Афанасьевич сделал последние наставления рыжеусому:
– Никита, как довезешь, не задерживайся там. Сразу обратно. Слышь? И осторожно, смотри, не бревна везешь. Трогай… Ну, ребята, счастливого вам пути!
Трактор осторожно сдвинул сани. Они, громоздкие, тяжелые, мягко заскользили бревенчатыми полозьями по податливой, как масло, дорожной грязи.
11
Чем больше светлело, тем становилось понятней, что на землю навалился густой туман. Сначала этот туман казался серым, каким-то немытым.
Трактор уперся радиатором в глухую мутную стену, казалось, стоял, не подвигаясь вперед, и только гусеницы его сосредоточенно пережевывали грязную дорогу.
Скоро мертвенная мгла стала оживать. Медленно, робко сбоку от дороги начал просачиваться пятнами тусклый лиловый свет. Он ширился, расплывался, смывал бесцветную муть. И вот торжественный, сияющий океан окружил трясущийся от напряжения трактор, и неуклюжие сани. Где-то, невидимое, взошло солнце, жидким светом растворилось в тумане.
Земля, в течение многих дней прозябавшая в дождях и слякоти, с облегчением освобождалась от влаги. С восходом солнца туман, казалось, стал еще плотней.
Трактор трудился. Сани скользили, лишь кое-где мягко оседая то на один, то на другой бок. Дорога, вчера хитрый, опасный враг, дорога, изматывающая силы, теперь покорилась. Ни капризных колдобин, ни коварных ловушек. Гусеницы трактора с равнодушной методичностью заведенной машины кромсали эту смирившуюся дорогу, направляли ее под тяжелые бревенчатые полозья, те утюжили, приглаживали…
А Василий казнился. Он не мог глядеть на облепленные крутой грязью гусеницы, ему казалось, что трактор еле-еле ползет, что рыжеусый бригадир, сидящий за рычагами, преступно осторожничает. Пытка сидеть над больным и видеть ленивое движение гусениц! Василий не выдержал, соскочил с саней, догнал трактор, крикнул:
– Ты, дорогой, поднажал бы! А то ползем, как вошь по бороде.
– Раньше надо было спешить. Не докричал на Княжева, так теперь молчи, – сердито огрызнулся бригадир. – Это тебе не «скорая помощь».
Трактор не пошел быстрее, гусеницы с прежней медлительностью пережевывали грязь. Василий старался не глядеть на них.
Раненый с минуты на минуту чувствовал себя все хуже. Он метался, дико вскрикивал, и эти вскрики, едва отлетев от саней, как в вате, глохли в тумане. Фельдшерица попросила на минутку остановить трактор, суетливо порывшись в чемоданчике, достала несколько флакончиков и шприц, с помощью робеющего от своей неуклюжести Василия сделала укол.
Больной на время успокоился. Он лежал на боку, подтянув к животу колени, закрыв глаза. На скулах двумя круглыми пятнами пунцовел румянец.
Василий и фельдшерица сидели рядышком, не говорили ни о чем, лишь изредка обменивались взглядами, вместе устало вздыхали. Теперь, с рассветом, девушка казалась Василию новой, не такой знакомой. Темные, с рыжим отливом волосы упрямой волной выбились из-под платка, расплывчатые, бесхитростные черты лица и широкий, мягкий нос нельзя представить без густых веснушек. Некоторые из веснушек, казалось, даже попали на губы, по-детски вытянутые вперед, яркие. В платке, в мужском плаще с подвернутыми вверх клетчатой подкладкой рукавами, она, нахохленная, задумчивая, бледная от усталости, покачивалась на мягких толчках. Василий же испытывал к ней благодарность за то, что она беспокоится о больном, за то, что она больше него понимает в болезни, просто за то, что сидит рядом.
Раненый пошевелился, застонал, откинув в сторону руку. Она упала на разостланный на грязных досках половичок – широкая, костистая, в узловатых суставах, похудевшая, какая-то старческая. На лбу под всклокоченным сухим соломенным чубом снова обильно выступил пот.
– Плохо наше дело, – произнесла девушка. – Даже укол не помог… Не довезем.
Василий глядел на больного и думал о том, что этот совсем незнакомый парень дорог ему сейчас, как брат, даже больше брата. Он самый близкий человек. Какая бы удача ни случилась – пусть простили бы разбитую машину, не передали бы в суд, оставили на прежней работе, – все равно не будет радости, если умрет этот парень. Не должен он умереть! Не должен! Если б Княжев сразу дал трактор, давно были бы в Густом Бору, парень лежал бы на операционном столе… Будь проклят этот Княжев, взваливший на него, Василия, нескончаемую, страшную пытку!
Раненый вдруг резко вытянулся, оскалился, с силой втиснув в подушки голову, изогнулся, вцепился руками в живот.
– Милый! Милый! Да что с тобой?.. Ляг спокойно, ляг… – засуетилась испуганно девушка.
Василий с отчаянной беспомощностью зашевелился.
– О-о-о! – выдохнул больной и обмяк.
Лицо его, посиневшее во время порыва, стало медленно заливаться зеленоватой бледностью. Сведенные на животе руки ослабли, стали сползать, пока не уперлись локтями в подстилку. Голова свалилась набок, из-под белесых ресниц водянистым голубым прищуром уставились мимо Василия глаза.
Фельдшерица, сама мертвенно-бледная, нервно заворачивая сползавший рукав плаща, схватила вялую, податливую руку парня, стала нащупывать пульс. В эти минуты ее веснушчатое лицо, направленное куда-то в затянутое туманом пространство, было решительным, строгим, почти красивым. Василий затаил дыхание, ждал…
Трактор, однообразно стуча мотором, вертел густо облепленными грязью гусеницами. Железный трос от трактора к саням мелко дрожал от напряжения. Мимо призрачными тенями ползли закрытые туманом кусты и деревья.
Девушка бережно опустила руку больного.
– Как? – тихо спросил Василий.
– Плохо дело. Не довезем.
Больше больной не стонал. Ему уложили голову на подушку, подоткнули с боков сено. Неподвижный, с выставленным вверх квадратным подбородком, он глядел в обложивший землю туман загадочно прищуренными глазами. Он пока дышал…
В туманном море, залившем землю, исчезло всякое понятие о расстоянии и о времени. Даже километровые столбы проходили мимо, где-то стороной, не останавливая внимания.
Василий потом не мог вспомнить – долго ли они так ехали. Его внимание привлекла рука парня, вцепившаяся в половичок. В скрюченных пальцах, сжавших толстый, потертый хвост, было что-то каменное, суставы на пальцах побелели, на коже с тыльной стороны ощущалась неживая восковая желтизна.
Василий тронул фельдшерицу за плечо, указал глазами на руку. Она подсела к раненому, положила на грудь голову, на минутку застыла, словно задремала на груди парня, разогнулась, оттянула ему веки, тихо, тихо сообщила:
– Все.
Остановили трактор. К саням подошел рыжеусый бригадир, мельком покосился на умершего, осторожно поправил ему откинувшийся борт пиджака, произнес:
– Так… Не довезли…
Василий стоял у саней, тупо разглядывал парня. У того под сухим чубом, на окостеневшем лбу еще видны были капельки пота, как роса на камне. Фельдшерица сидела на своем обычном месте, беспомощно сложив на коленях руки, вскидывая и сразу же опуская жалостливые, горестные глаза.
– Что теперь делать? Везти-то к хирургу вроде уж незачем? – спросил бригадир.
– На вскрытие надо… Поехали… – слабо произнесла девушка.
Бригадир послушно направился к трактору.
Туман медленно рассеивался. Из него выползли кусты, уселись на обочине дороги. Солнце висело красноватым кругом. На лице и руках чувствовалось тепло его лучей. Неожиданно трактор снова остановился. Впереди показалась высокая фигура, осторожно ступая по скользкой грязи, стала приближаться.
– Виктор Иванович! – слабо воскликнула фельдшерица. – Пешком идет…
В шляпе, сбитой на затылок, с маленьким чемоданчиком, в засученных брюках, – на палке, переброшенной через плечо, болтаются туфли, – оскальзываясь босыми ногами, подошел хирург, снял шляпу, вытер платком лоб, лысеющую голову.
– Опоздал? – спросил он, кидая взгляд на тело, лежащее посреди саней. – Долго же вы… У меня машина застряла сразу же за городом. Пешком-то быстро не прискачешь. Дайте-ка руку, молодой человек. Так!..
С помощью Василия хирург влез на сани. В шляпе, узколицый, с костистыми скулами, умной, ехидной складкой тонкого рта, этот высокий, нескладный интеллигентный человек выглядел сейчас странно со своими босыми ногами, до белых немощных икр заляпанными грязью.
Сдвинув на затылок шляпу, он приподнял на животе умершего рубашку, внимательно оглядел, ощупал рукой. А парень, задрав вверх упрямый подбородок, казалось, сосредоточенно прислушивается к тому, что делает с ним доктор.
– Камфару впрыскивали? Сколько? – бросал отрывистые вопросы девушке.
Наконец он сел, махнул рукой трактористу: поезжай.
Трактор снова начал свою несложную работу – бесконечной грязной лентой потекли вверх гусеницы, задрожал трос…
– Доктор, – хрипло обратился Василий, – если бы раньше привезти, вы бы спасли его?
– Возможно, – ответил тот. – Вполне возможно. Что-то медленно вы, друзья, собирались. Преступно медленно! Надо было не забывать, что на вашей совести лежала человеческая жизнь. Э-э, да что с вами, молодой человек? Это еще что за фокусы?..
Судорога прошла по лицу Василия. И угрызения совести, и жалость, и бессонная ночь, нервное напряжение, и усталость – все вместе лишило сил. По обветренным щекам потекли слезы, редкие, крупные, мучительные – слезы человека, не привыкшего плакать.
– Боже мой, да что это вы? Успокойтесь… Вам прилечь надо. – Девушка забрала грубую руку Василия в свои мягкие, теплые ладони, сама глядела блестящими от сдерживаемых слез глазами. – Он измучился, Виктор Иванович. Все бегал, хлопотал. Тут на такое наткнулись… – И она, переводя взгляд то на Василия, то на хирурга, принялась торопливо, нескладно рассказывать о том, как Княжев отказал дать трактор. Хирург слушал, жесткие складки появились в углах губ.
– Бюрократ! – произнес он, помолчав, и повторил: – До убийцы выросший бюрократ! – Повернувшись к Василию, указывая глазами на мертвого, спросил: – Ваш знакомый?
– Нет.
Василий вытер рукавом куртки глаза и отвернулся, подавив тяжелый вздох.
Туман исчезал. Редкие кустики у дороги, облитые мягким солнечным светом, радостно топорщились зеленой листвой. В них пересвистывались птицы. Ласточки, должно быть, брачная пара, словно родившись из мутновато-голубого неба, появились над головами, сверкнули белыми грудками и умчались, растаяли, оставив о себе лишь воспоминание – два крошечных, упругих комочка, воплощение силы, ловкости, бодрости…
Трактор добросовестно тянул широкие сани по густо замешанной грязи, по лужам.
1956
Чудотворная1
Каждый год, в то время когда полая вода идет на спад, река Пелеговка начинает «рвать берега». Огромные, как грузные медвежьи туши, кусищи земли с прошлогодней щетинистой травой или с чисто выбитыми прибрежными тропинками то там, то тут ухают вниз, взбрасывая вверх мутные брызги.
Год за годом Пелеговка упрямо въедается в луг, раскинувшийся под селом Гумнищи.
В такие дни в неустоявшейся воде, случается, хватают на выползней подъязки. Соскучившиеся за зиму по реке гумнищинские ребятишки высыпают на берег. Хорош клев или плох, они все, как один, терпеливо до сумерек торчат над удочками.
Родька Гуляев выбрал место перед крохотной заводью, подсунул под себя доску, чтоб сквозь штаны не холодила мокрая земля, и вот уже который час следил за поплавком. Вырезанный из сосновой коры поплавок кружил от ленивого в заводи течения, порой останавливался, вяло, с неохотой уходил под воду: то крючок цеплялся за дно. Родька взмахивал удочкой, отбрасывал подальше леску. Сонно кружила глинистая вода, уныло висел над ней конец удочки, безнадежно мертв был поплавок, вся крохотная прибрежная вымоина с киснущей щетинистой дерновиной казалась безжизненной.
Родька поднялся на затекшие от долгого сидения ноги, оглянулся по сторонам – не перебраться ли в другое место? – и тут заметил, что в обрыве берега из плотного песка торчит темный угол какого-то ящика. Родька подошел, пощупал его – кусок гнилой доски остался в руке.
«Хоронили что-то в землю… Река открыла… – Родькино сердце разом упало. – А вдруг клад!»
Сперва руками, потом доской, на которой раньше сидел, Родька принялся торопливо откапывать.
Ковырялся он недолго, через каких-нибудь десять минут удалось раскачать и выдернуть из песка находку. Положив ее к ногам, Родька долго разглядывал изъеденный гнилью ящик, ворочал его. Ящик был не тяжел, походил на те ящики, в которых гумнищинская сельповская лавка получала конфеты-подушечки, – такой же ширины и длины, такой же плоский, только сколочен добротнее: полусгнившие доски довольно толсты, пазы между ними проконопачены паклей. И по тому, что эта пакля сохранилась, по тому, что она не расползалась в пальцах, Родька понял: должно быть, пазы смолили.
Гнилые доски легко срывались со ржавых гвоздей. Под ними оказалась бурая, сухая, плохо гнущаяся и ломающаяся на сгибах мешковина. «Ишь, прятали. Мешковина, и та просмолена… Дорогая штука, должно…»
От нетерпения, от сладкого ужаса перед неизвестностью у Родьки стали непослушными руки, подергивало косточки в коленках. Он выдрал из ящика мешковину, отворачиваясь при этом от сухой пыли, и вынул… широкую, тяжелую доску.
Большая, темная, словно закопченная, доска, и больше ничего!
Родька с разочарованием и недоумением ее разглядывал, поворачивал перед собою то на одну, то на другую сторону. На проконопачено-грязной стороне он разглядел два глазных белка: на доске кто-то был нарисован. Спустившись к воде, Родька старательно вымыл доску ладонью. Доска мокро заблестела, но темные краски от этого проступили лишь чуть-чуть отчетливее. По-прежнему не столько сами черные глаза, сколько белые глазные яблоки с какой-то угрюмой нелюдимостью уставились мимо Родьки.
Постепенно Родька разглядел, что глаза и едва проступившая бородка соединялись длинным, прямым, как тележный квач, носом. Разглядел Родька все лицо – вытянутое под стать носу, узкое, с двумя резкими морщинами от ноздрей, разглядел полукружие над головой и понял: он просто-напросто нашел икону.
Невелик клад. Такого добра у бабки целый угол. Но находка есть находка, какая бы она ни была, ею стоит похвастаться.
Родька свернул удочку, взял под мышку икону, направился к селу, домой.
2
Мать и бабка были за домом, возились на усадьбе.
Бабка, со сбившимся на голове платком, с сердитым лицом, вцепившись жилистыми руками в ручки плуга, пахала. Родькину бабку звали по селу Грачихой. Ей давно перевалило за шестьдесят, но всю мужскую работу по дому делала только она. Обвалится столб у калитки – бабка бралась за топор, кляня непутевого муженька своей дочери, и, призывая господа бога, святую деву богородицу, обтесывала новый столб. Бабка сама возила из лесу дрова, сама косила, сама таскала на поветь сено, сама пахала. Родькину мать, свою дочь, тоже не жалующуюся на здоровье, звала «жидкой плотью», постоянно ворчала: «Умру, похороните – расползется дом, как прелый гриб». Высокая, костистая, поглядеть спереди – широка, словно дверь, сбоку – плоская, как доска; лицо тоже широкое, угловатое, с мослаковатыми крутыми скулами; над ними в сухой смятости перевитых коричневых морщин и морщинок неспокойно и цепко глядят желтые глаза. Сейчас бабка навалилась на плуг, неуклюже переступает огромными сапожищами по пахоте, покрикивает на лошадь:
– Н-но! Наказание господне! Шевелись, недоделанная! Обмою хребтину-то!
Мать Родьки, повязав платок так низко, что он почти закрывал глаза – жалела лицо, прятала от солнца, – собирала с распаренной, улежавшейся за зиму пахоты прошлогодние картофельные плети, сваливала их в разложенный костерчик. Сопревшие под снегом, не совсем еще высохшие плети горели плохо, по усадьбе тянулся сизый вонючий дым.
К Родькиной матери от старой Грачихи перешло скуластое лицо да зеленый прищур глаз сквозь белесые ресницы, но и скулы уже не так круто выпирали и лицо без угловатостей, кругло, со сдобной подушечкой под мелким подбородком; даже намека нет на бабкину худобу: плечи пухлы и покаты, старенькая, выцветшая юбка трещит на бедрах. Куда больше от бабки перепало внуку. Пусть хрупки плечи, но даже сейчас под стареньким ватником чувствуется их разворот, лобастая крупная голова лежит на них почти без шеи, цевки рук тонки, зато ладони широкие, плоские, короткопалые. Теперь вот обхватил ими широкую доску, расставил ноги в разбитых сапогах, голова склонена лбом вперед, на нижней губе болячка (застудил, на реке пропадая) – сбитенок, с годами выклюется из такого Грач под стать старой Грачихе.
– Набегался, безотцовщина? – Бабка остановила лошадь, стала очищать лемех палкой, бросая из-за плеча суровые взгляды. – Варька, иди картошки свинье натолки. Пущай гулявый будылье таскает.
– А я икону нашел, – похвастался Родька.
– Опять баловство! Третьего дня лешачата на кладбище крест с могилки Феклуши-странницы своротили, в ручей бросили. В прежние времена за такие дела до смерти пороли.
Мать, утирая слезящиеся от дыма глаза, подошла, легонько толкнула Родьку в плечо:
– Иди домой, за книжки садись. Учительница проходу не дает из-за тебя… Иди, иди, тут мы управимся.
– Ты глянь, какую штуку в берегу выкопал.
Родька положил на землю икону. Мать замолчала, вгляделась, сурово спросила:
– Где нашел?
– Говорят – в берегу выкопал. В ящике заколочена была.
– Иди-ка сюда, мать.
Бабка разогнулась, вытирая запачканные руки о ветхий подол юбки, двинулась, волоча сапоги по пахоте.
– Вечно проказы. Исусе Христе, святые иконы под берегом валяются. Ой, Родька, на мать-заступницу не погляжу…
Бабка подошла, взглянула и замолчала; светлые беспокойные глазки средь дубленых морщинок остановились.
Икона лежала на земле, оплетенной прелой ботвою; два белых глаза с унылой суровостью уставились в легонькие, размазанные по синему небу облачка.
Тяжелая, с натруженными венами рука бабки медленно-медленно поднялась. Грубые, с обломанными ногтями, несгибающиеся пальцы сложились в щепоть, совершили крестное знамение.
– Свят, свят… Исусе Христе праведный… Варенька, голубушка, взгляни-ка, взгляни. Ох, батюшки! Ведь это, милые, чудотворная с Николы Мосты…
– Она, пропащая, – подтвердила серьезно и мать.
– Типун тебе на язык – «пропащая». Не пропащая, девонька, а новоявленная.
Бабка схватила с земли икону, прижимая обеими руками к груди, бросилась бегом к дому. Платок ее совсем упал на плечи, открыв крохотный, как луковица, седой пучок волос.
Родька подозрительно, исподлобья проводил ее взглядом: что-то бабка серьезно схватилась за икону, даже работу бросила; начнет потом зудеть: что, да как, да где нашел, скажешь не по ней – по затылку схватишь.
– Мамка, – проговорил он, – я к Ваське пойду уроки делать.
Но мать не слышала. Она, глядя вслед бабке, распрямилась, поправила платок, потуже подтянула концы у подбородка и, выставив грудь, мелкими, чинными шажочками двинулась с усадьбы.
3
Вечером дома ждали Родьку.
Еще с порога он увидел, что в избе полно народу: бабка Домна, бабка Дарья, бабка Секлетея, согнутая пополам старая Жеребиха. Средь старух, скрестив короткие толстые руки под оплывшей грудью, возвышалась могучая, не возьмешь в обхват, Агния Ручкина. У нее пухли ноги, свои водянистые телеса нарастила, сидя сиднем дома, а сейчас вот приползла из другого конца села. На ее сыром, с дрожащими щеками и подбородком лице застыло покорно-плаксивое выражение, тяжкий вздох вырывается из груди:
– Ноженьки мои, ноженьки!..
У самых дверей, с краешка, на лавке, умостился робкий старичишка – ночной сторож Степа Казачок: спеченный рот крепко сжат, слезящиеся в красных веках глазки с испугом и недоумением уставились на вошедшего Родьку. Он первый мелко-мелко закрестился, засопел, не спуская с мальчишки влажных, часто мигающих голыми веками глаз, заерзал на лавке.
Мать и бабка, сами словно в гостях, сидят рядком, сложили докрасна вымытые руки на коленях. У бабки жидкие волосы гладко причесаны, смазаны маслом, у матери на белой шее оранжевые бусы.
Икона, принесенная Родькой, стояла уже в углу, перед ней горели крошечными, словно зернышки, огоньками несколько тонких, как карандаши, свечек. Старик с иконы с суровым отчуждением встретил Родьку своими выкаченными белками, направленными поверх свечных огоньков и голов гостей.
– Ангел ты наш, сокол ясный! – запела навстречу согнутая Жеребиха, ласково уставясь черными, без блеска, как подмоченные угольки, глазами. – Знает господь, кого благодатью своей отличить. Истинно ангел.
А Родька-ангел, продернув рукавом по мокрому носу, от непонятного внимания гостей склонив упрямо голову, выставив лоб – торчащие уши выражают смущение, – протиснулся бочком к печке.
– Избранник божий, надежда наша, – раскисла в улыбке Агния Ручкина. – Ох, ноженьки мои, ноженьки…
– Счастье тебе, Варварушка… Сынок-то! – Жеребиха оглядывалась на Родькину мать. – Второй отрок Пантелеймон. Как есть второй Пантелеймон-заступничек. Господня воля на то. В або какие руки чудотворная икона не попадает… Иди, ласковый, поближе, чего пужаешься? Так бы рученьки твои, голубь мой, и расцеловала.
Родька исподлобья, диковато засверкал глазами, растерянно попятился к порогу.
– Экой ты, а ну, подь сюда, спросить хочу, – сурово попросила Родькина бабка, добавила ласковее: – Поди, поди, не укусим, чай. – Помявшись, еще ниже наклонив голову, Родька подошел.
– Ну чего?
– Скажи еще раз, милушко, где ты ее достал?
– Икону-то?.. Да сколько тебе говорить? В берегу же выкопал. От Пантюхина омута идти, то вправо.
Внимательно притихшие старухи разом завздыхали:
– Голубиная душенька подвернулась, некорыстная…
– Сам господь, должно, перстом указал… Ноженьки мои, ноженьки… Ох, согрешение!
– Да как же ты на нее наткнулся? – продолжала допрашивать бабка.
– Увидал – в берегу углышек ящика торчит. Выкопал… А там – эта…
– Церковь-то наша без нее сирая и неприкаянная.
– Сказывают, ангелы мои, с той поры, как пропала чудотворная, кажную ночь купол пилит ктой-то. Кажную ночь перед петухами…
– Осиротел храм божий, вот и гнездится всякая нечисть.
Родька со страхом и недоумением слушал вспыхнувший разговор, оглядывался. А в темном углу избы, скупо освещенном крошечными свечными огоньками, молчаливо возвышалась икона: на черной доске белели глазные яблоки.
4
Ушли гости. За темным окном в последний раз донеслось плачуще:
– Ноженьки мои, ноженьки…
Бабка убрала свечи с иконы, потушила лампу. В углу осталась лампадка: на всю темную избу лишь она одна парила в воздухе зеленоватым сонным мотыльком. То крестясь, то застывая с беззвучно шепчущими губами, то с размаху склоняясь к полу, бабка помолилась на сон грядущий.
Просто устроен человек. Наотбивала поклонов, ворча и кряхтя, взобралась на простывшую печь, сладко охая, расправила там кости, и через секунду раздался густой храп…
Зато Варвара, подоткнув сползшее с разметавшегося Родьки одеяло, в одной рубахе, распустив по спине волосы, опустилась голыми коленями на холодный пол, завороженно уставилась на неподвижный огонек лампадки.
Храпит старая Грачиха за спиной. За окном прошумел ветер в молодой листве черемухи. Вдалеке спросонья гаркнул петух, но, видать, не вовремя: никто ему не откликнулся. Тихо.
Варвара сложила лодочкой на груди руки, начала бессвязно шептать:
– Господи милостивый… Никола-угодник… В вечной тревоге живу. Помоги и образумь меня…
Каждый вечер, направив лицо в угол, заставленный иконами, Варвара шепчет: «Помоги, господи!»
И так уже много лет.
Когда-то, в девках, ничего не боялась, не заглядывала со страхом в завтрашний день, не верила ни в бога, ни в черта, за стол садилась, не перекрестив лба, на воркотню матери, старой Грачихи, отвечала:
– Будет ныть-то! Отошла ныне мода, крестись себе на здоровье, коли нравится…
Самой большой тревогой в ту пору было – придет или не придет Степан на обрыв, к обвалившейся березе. Шла война, парней в селе было не густо; он тоже в отпуск приехал после госпиталя, припадал на раненую ногу. Ресницы у него были что у девки, глаза темные, ласковые, на гитаре играл, подпевал: «Распрямись ты, рожь высокая, тайну свято сохрани…» Сам в это время лукаво посмеивался. Немало в Гумнищах молодых девок, но и она, Варвара, была не из последних – не конопата, не кривобока; бывало, прислонится Степан к высокой груди – замрет, как ребенок. Страшная вера охватывала тогда – никакая сила не оторвет его. «Распрямись ты, рожь высокая…» За весь месяц, пока Степан Гуляев жил в отпуске, не пропустили ни одной ночи. Ничего тогда не боялась Варвара, ни у кого не собиралась просить помощи, помнить не помнила бога…
Но вот кончился срок, проводила Степана. Без стеснения, как жена, перед всем селом висела на шее, плакала в голос: «На ко-ого-о ты меня-а покида-аешь!»
Проводила, тут-то и стала задумываться: вернется ли, на фронт ведь уехал, ребенок будет, старая мать – по дому только помощница, вдруг да придется куковать соломенной вдовой? Вернуть бы! Если б можно, на четвереньках через леса, реки, города поползла к нему. Как помочь?! Чем?! Сиди обливайся холодным потом при мысли, что все быстро так кончилось… Кончилось?! Нет, нельзя этого допустить! Что-то надо делать!.. Старая Грачиха видела все, не переставая твердила:
– Хватит казниться. Сохнешь да кровь портишь без толку. Молись лучше. Молись! Забыла господа-то. Гордыня заела. За свою гордыню такие ли муки мученические терпеть будешь!
Что-то надо делать Варваре. Страхи одолевают. Может, и в самом деле права мать: никакой другой помощи не придумаешь. Тогда-то впервые Варвара стала вечерами непослушными от волнений и тревоги губами молить шепотом: «Помоги, господи!»
Молитвы ли помогли, само ли по себе должно так случиться, вернулся Степан после демобилизации. Те же бабьи ресницы, та же ловкая походочка, только без прихрамывания, а глаза, не в пример прежнему, холоднее, и песенку с лукавинкой не вспоминал: «Распрямись ты, рожь…»
Напуганная, ослабевшая от вечных страхов, Варвара тайком просила: «Помоги, господи! Смятенная душа ныне у Степана, успокой его, верни мне его ласку». Но Степан не успокаивался, раздраженно ворчал:








