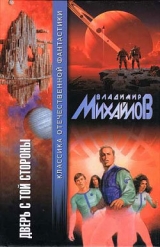
Текст книги "Дверь с той стороны"
Автор книги: Владимир Михайлов
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Теперь это было не просто увлечение. Как знать, может быть, судьба всех людей зависела от успеха штурмана. Хорошо, если физик сдержит обещание. А если нет? Тогда и пригодится сверхдальняя связь.
Штурман был убежден, что в пространстве постоянно скитаются картины, зашифрованные в электромагнитных волнах всевозможной частоты и амплитуды. Сигналы очень слабы, почти неуловимы, но иногда, в дальних рейсах, что-то возникало на экране, что могло оказаться и не просто шумом. Вооружившись удочкой похитрее, эти сигналы, наверняка, можно выуживать и разглядывать.
Сюда, в этот угол Галактики, сигналы с Земли и других населенных планет добраться не могли: это было одно из так называемых малопродуктивных направлений, населенных звездами, чье излучение было бы губительным для жизни земного типа. И если тут удастся нащупать что-то, то это наверняка будут знаки и изображения, взявшие старт в других цивилизациях. Существовали ли они? Пока что вопрос этот относился к категории не знания, но веры: можно было утверждать, можно было столь же логично опровергать, но ни прямых доказательств, ни таких же возражений не было. Кто-то не верил; Луговой предпочитал верить.
Среди таких цивилизаций, считал Луговой, могли оказаться и подобные "Киту". Созданные на базе антивещества. Высокоразвитые. У них и надо будет искать помощи.
Луговой отложил микропаяльник, крохотной присоской подцепил хрупкий кристаллик, тщательно, под лупой, установил на место. Когда усилитель будет готов, придется сесть за расчеты фильтров. А потом можно и начинать охоту.
Все верят физику, думал Луговой. А он уже научен не верить авторитетам. Надо искать самому. Не бояться думать. Прав тот, кто смелее, кто не скован предрассудками.
О себе Луговой знал, что – не скован.
Капитан Устюг по-прежнему совершал ежедневные обходы корабля. Он был капитаном, никто не нарушал его установлений и не посягал на права. Но, как это бывает, когда судьба людей зависит не от номинального главы, а от другого человека, власть капитана стала во многом формальной. Он еще царствовал, но уже не правил, и сам чувствовал это.
Устюг знал, что исчезни он сегодня – это заметили бы не сразу, а заметив – не очень обеспокоились бы. Разве что Зоя?..
Странно: оба они – взрослые люди, а вот не смогли понять друг друга. По сути, у него больше поводов для обиды: он действовал ради общего блага. И пока она не поймет этого, искать примирения бесполезно. Да и нужно ли? К чему оно приведет?
Да, зато исчезновение Карачарова привело бы всех в ужас. Что ж, правильно, конечно, с их точки зрения...
Капитан совершал обходы и каждый раз подолгу задерживался в энергодвигательном корпусе, в той его палубе, которую занимали батареи. И сейчас он остановился перед узким колодцем, куда уходили перильца. Нащупал ногой скобу и стал спускаться лицом к стене. Когда глаза его поравнялись с полом, он заметил какой-то белый кружок. Устюг протянул руку. Монета. Капитан сунул ее в карман, недоумевая, как она могла попасть сюда: в этом корпусе пассажирам делать нечего, да и почему монета? Торговли на корабле нет. Ее можно использовать – ну, хотя бы вместо отвертки. Но у Рудика есть инструменты, а кто, кроме инженера, интересуется сопространственной аппаратурой?
Пожав плечами, капитан спустился к батареям. Снова зазвучали голоса автоматов. Все рапорты капитан уже знал наизусть и даже различал блоки по голосам,
...Хватиться они физика хватились бы. Но Карачаров может дать лишь возможность спастись, А кто ее реализует?
Это под силу тем, кто ведет корабль.
Если они сейчас исчезнут, не поможет никакая физика. Люди кончат свои дни в этих же краях Вселенной, мучаясь от невозможности реализовать достигнутое.
Так некогда старатели, добыв золото, умирали от голода и жажды потому, что там, где они находились, за золото ничего нельзя было купить.
Устюг усмехнулся. Без Карачарова – никуда. А без экипажа – далеко ли?
Да, подумал он тут же. Но и при экипаже, с неисправными батареями тоже далеко не уедешь.
Батареи, батареи. Любой ценой нужны батареи.
Внешние пластины сгорели, это давно ясно. А дальше? Какой процент мощности сохранился? Может быть, есть смысл рискнуть, и риск этот будет оправдан?
Капитан вошел в сектор третьего блока.
Изоляция тут была аккуратно счищена. Кто-то уже интересовался.
Рудик – кому же еще?
Нет. Рудик непременно доложил бы. Инженер знает службу. А еще вчера– здесь ничего не было тронуто. Сегодня Рудик сюда не ходил: занимается профилактикой синтезатора.
Заходил кто-то другой. Держал в пальцах монету. Отвинтил... что отвинтил?
Капитан стал оглядывать сектор – внимательно, систематически, по часовой стрелке. И нашел.
Кто-то отвинчивал панель синхронизатора. Смотрел, не вышел ли аппарат из строя. Закрывая, не довернул болтик до конца. Рудик этого себе не позволил бы. Знает: за ним никто не станет проверять, так что делать надо на совесть.
Кто-то другой хотел убедиться, что восстановить батареи можно – или, наоборот, нельзя. Знающий: оглядел пластины и полез в синхронизатор. Не слишком опытный: проверять синхронизатор таким образом нет смысла – по внешности модуля не понять, исправен он или нет.
Но умный: вовремя спохватился, что не только от физика зависит возвращение к людям.
А впрочем – большое дело! Ну, был кто-то, лазил из любопытства. Беспорядок, конечно. Но главное сейчас не это.
Главное – во всем разобраться. Расставить, разложить, развесить. Понять, что к чему, что нужно и чего не надо делать.
Зоя. Надо, чтобы она поняла: ведь не ради себя он поступил так. Ради нее, ради всех остальных. Как только станут'оправдываться надежды, едва лишь корабль приблизится к Земле – Устюг придет к ней и будет просить, "умолять станет. Надо только, чтоб и она в мыслях не отказывалась от него. Чтобы ждала, как ждут далеких; то, что он рядом, дела не меняет. Чтобы не думала ни о ком другом...
Он вдруг страшно заторопился. Выскочил в коридор. Протянул руку к коробочке интеркома на переборке. И остановился.
Что это ему взбрело в голову? Какая такая лирика? Только вчера получил он очередную дозу анэмо. Как и все прочие, как и сама Зоя. Так что подобные мысли вовсе не должны бы его терзать.
Организм, подумал он не без самодовольства. Крепкий организм. Устойчивая психика; ее, конечно, побороть нелегко. Наверное, доза маловата.
Теперь он решительно вызвал медицинский.
– Зоя... здравствуй.
– Я слушаю. Вам что-нибудь нужно?
Он даже задохнулся от звука ее голоса – сколько они уже не разговаривали друг с другом? Помедлил, чтобы голос не дрожал. Она нетерпеливо повторилаа
– Что вам нужно? Алло!
Устюг собрался с силами.
– Я по поводу анэмо.
– Да? – не сразу ответила она.
– Не можете ли вы увеличить дозу... для меня?
– О, конечно, – проговорила она после паузы, голос ее показался Устюгу странным. – А что, не помогает?
Он чуть было не ответил простодушно: да, не помогает. Но вовремя спохватился.
– Нет, отчего же... Значит, я зайду,
– Да, пожалуйста.
Он кивнул, хотя она этого и не видела. Вылез из отсека батарей. Но прежде, чем идти в медицинский, решил нанести еще один визит, который тоже был очень важен для уяснения ситуации.
Если было на корабле место, где почти в полной неприкосновенности сохранялась не только обстановка, но и атмосфера, обычная для рядового рейса, то местом таким являлся инженерный пост, хозяином и единственным обитателем которого был Рудик.
Здесь стояла тишина, нарушаемая изредка пощелкивавшими и тихо позвякивавшими приборами и аппаратами. Хотя двигатели корабля давно уже не включались и "Кит" совершал свой полет в инерционном режиме, большинство устройств продолжало работать, чтобы жизнь на корабле не прерывалась. Это были и гравигены, обеспечивавшие нормальное напряжение тяжести, и накопители энергии, без которых не могли бы работать ни гравигены, ни синтезаторы, а от них зависело существование людей: они были единственным источником пищи, воды и даже воздуха, потому что в системе корабля синтезировать воздух было, благодаря обилию энергии, выгодней и проще, чем очищать его химическим или биологическим способом. Остановка синтезаторов и связанных с ними утилизаторов привела бы к тому, что люди в считанные дни погибли бы среди отбросов, задохнулись, отравленные углекислым газом... По-прежнему не выключались климатизаторы, действовали механические системы, облегчавшие передвижение по кораблю, работали обзорные и защитные устройства, готовые вовремя предотвратить столкновение этого обитаемого мира с каким-либо телом, приблизившимся извне. Ни на миг не выключалась и система контроля.
По-прежнему рядом с пультом кипел чайник, и запах свежего чая разносился далеко за пределы небольшого помещения поста. Привычно включенный в жизнь своих механизмов Рудик, в очередной раз убедившись, что все системы жизнеобеспечения работают согласованно и без нарушений, выплескивал остывший чай и заваривал новый. Следовало бы, конечно, экономить, но пить чай у себя в посту было давней и традиционной привилегией инженеров, и, начиная по обычаю, каждый из них вскоре привыкал к этому напитку настолько, что необходимость отказать себе в свежем чае воспринял бы, как трагедию. Стакан чая на пульте инженера обычно означал, что все в порядке, жизнь идет так, как и должна идти. И в самом деле, обязанности инженера почти не изменились по сравнению с тем, что ему приходилось делать в любом рейсе и даже в перерывах между рейсами, когда корабль лежал на финишной орбите у планеты назначения, ожидая новой погрузки и рывка еще к одной далекой системе.
Рудик отпил и с наслаждением выдохнул горячий воздух. Как ни странно, неисправные батареи больше не вызывали у него досады. Жить можно и без них, что бы ни говорили там, наверху. Верхом для Рудика было все, помещавшееся выше энергодвигательного корпуса. Таким довольным, со стаканом чая в руке и увидел его Устюг.
– Это ты, – сказал инженер. – Садись. Чаю хочешь?
– Выпью, – согласился Устюг. – Ты кончил с пассажирами?
– Где там, – сказал Рудик и махнул рукой.
– Хорошего понемножку, – решительно молвил капитан. Пассажиры пассажирами, но батареи, я полагаю, важнее. Не пора ли приняться за восстановление?
Инженер помолчал, потом сказал хмуро:
– Что значит – восстановить? Сделать так, чтобы они казались исправными, наверное, можно, хотя и требует времени.
– Чтобы только казались?
– А за остальное никто не поручится. Штука тонкая. Если хочешь, можешь поглядеть у меня таблицы. Блоки мы и так перегрузили вдвое против нормального. А заменить пластины давно уже полагалось – рейс с Анторы по их графику был последним. Конечно, запас прочности у них был. Сработали они отлично: еще три входа-выхода сверх положенного – это немало. Но теперь, ты и сам видел, часть пластин надо выкинуть. Значит, остальные должны принять нагрузку больше нормальной. Когда они сдадут? Ты не знаешь, я не знаю и даже "Сигма" не знает.
– А поставить новые?
– Легко сказать... Мне этого делать не приходилось. Это работа обслуживающего отряда. Да и они ставили готовые. Конечно, попробовать можно. Но будут ли они работать и как? Не знаю.
– Выходит – никаких шансов? Не верю.
– Что никаких, я не говорил. Но шансы бывают разные. Машины – они вроде нас... – это была любимая тема Рудика. – Ты сам знаешь: в крайних условиях, в состоянии мобилизации всех резервов человек может сделать такое, на что в нормальном положении не то, что не осмелится – он об этом и думать всерьез не станет. Так и машины. В крайней ситуации... Только где она?
– В какой же, по-твоему, мы находимся?
– Нет, ты не так понял. Я не говорю, что положение наше нормально. Но нам ничто не угрожает – ничто такое, что требовало бы мгновенной мобилизации. Ладно, это – отвлеченный разговор. А вот тебе конкретно: "Сигма" подсчитала, что шансов на нормальную работу батарей под нагрузкой – меньше половины. Можно решиться, но можно и воздержаться. У нас на борту пассажиры. Риск, по уставу, недопустим. Согласен, уставом в нашем положении можно и пренебречь. Но ради чего? Вот если Карачаров снова превратит нас в людей, тогда, пожалуй, будет смысл рискнуть. А пока – не вижу.
Он помолчал.
– Если велишь мне подготовить машину к переходу, я подготовлю. Сделаю, что смогу. Но гарантии не дам. В общем, как решишь.
– А если физику, повезет, то шансы, выходит, появятся?
Рудик покачал головой.
– Шансы останутся теми же. Но тогда просто нельзя будет не рискнуть. Тогда никто не позволит нам соблюдать устав дотошно.
– Это кто же может нам не позволить? – ощетинился Устюг.
– Да хоть совесть. Или нетерпение. Что угодно. А в общем, ты капитан – командуй.
Устюг поразмыслил.
– И скомандую, – буркнул он в заключение. – Со временем.
Со временем. Не сейчас. А пока остается надеяться на Карачарова. Смутно и непривычно показалось капитану рассчитывать на кого-то, кроме себя и своих ребят. Ненадежно.
А тем временем пусть ему все-таки вольют этого зелья. Спокойнее будет на душе. Нерешенных проблем сразу станет вдвое меньше.
Так думал он, возвращаясь из энергодвигательного корпуса и привычно сохраняя подтянутый капитанский вид.
Разговор он услышал случайно, проходя по пассажирской палубе мимо бара. Мила и Нарев. Ее звонкий голос не спутать ни с контральто Веры, ни с хорошо поставленным меццо актрисы. Не говоря о Зое – ее голос капитан не спутал бы ни с чьим и никогда.
Устюг сразу же невольно остановился, хотя это и было нехорошо. Он почему-то испугался, что Мила и Нарев увидят его в открытую дверь, и ему стало отчего-то неудобно, что он застал их вместе.
– ...Вы остаетесь одна. Я не могу видеть этого. Почему вы не хотите довериться мне?
– Вы ошибаетесь, я верю вам. Но вы ничем не можете мне помочь.
– Вы неправы. Я могу помочь. Я ведь все понимаю. И пусть я никогда в жизни не видал его...
– О ком вы?
– О вашем сыне.
– Не надо. Я запрещаю.
– Но послушайте же меня... Вам нужно с кем-то говорить о нем. И никто не поймет вас так, как я.
– Почему вы так решили?
– Разве вы не понимаете – почему?
– Молчите! – сказала Мила поспешно. – Молчите!
– И вы знаете, что я сделаю для вас все, что могу... и даже больше: то, чего сделать нельзя, за что не возьмется никто, кроме меня.
– Не знаю, что вы имеете в виду. Но если думаете, что помогаете мне, то ошибаетесь: я стараюсь не вспоминать...
– О возвращении?
– Ни о чем. Хочу жить сегодняшним днем...
– Но в сегодняшнем дне есть я!
– Для меня, – сказала она равнодушно, – нет никого.
– Поверьте... поверьте, и я был бы рад не думать о вас. От этих мыслей мне не становится легче. Но не могу, не могу...
Не помогает зелье, подумал капитан. И ему тоже. И всем?
– Я хочу на Землю, – говорила Мила. – К сыну...
– Вы думаете, это реально?
– Да! Я верю доктору Карачарову...
– Но зависит ли это только от него?
– Не понимаю.
– Это, пожалуй, даже хорошо. Но запомните: если никто, даже Карачаров не сможет вам помочь – это сделаю я. Но тогда...
Наконец-то они затворили дверь.
Какой-то миг казалось, что Зоя и капитан бросятся друг к другу, обнимутся, понесут околесицу, смысл которой не в словах, а во всем сразу: в голосе, дыхании, взгляде. Мгновение прошло; оба устояли. Устюг проглотил комок. "Я тебя люблю, хотел сказать он, – сильнее, чем всегда"... И спросил сухо:
– Почему не действует анэмо? Что ты с ним сделала?
– Да просто уничтожила, – сказала она небрежно, сразу же попав в тон. – Весь запас.
– Ах, вот в чем дело. Ничего. Синтезируем.
– Не получится: рецепт тоже уничтожен.
Будь она мужчиной, капитан вряд ли сдержался бы. Но сейчас лишь стиснул; зубы.
– Ты сердишься, потому что я не выполнила твоего указания? Но врач, как судья, не подчиняется никому.
– Ты ничего не понимаешь. В любой момент все может вспыхнуть, и пойдет такое...
– Ничто и не затухало. И, как видишь, все живы. А ты боишься?
– Не стыжусь признаться. Мой долг – сохранить людей. И твой тоже.
– Я и выполняю его. Берегу людей. А не просто мыслящую органику.
– Ты... ты решила, что лучше меня знаешь, что нужно и чего не нужно на корабле?
– Нет: ты не успел передать мне все свои премудрости слишком мало мы были вместе...
– И поэтому ты выступаешь против меня?.
– Не против тебя! За себя. Я борюсь за себя, и раз мое отношение к тебе – часть меня, то я борюсь и за то, чтобы сохранить его, а не задушить.
Ее отношение ко мне, подумал Устюг невесело. Интересно было бы узнать, каково оно: любовь или ненависть?
Наверное, мысль эта была написана у него на лице, потому что она сказала:
– Тебе все равно, что я теперь думаю и чувствую. Но так, как было, больше не будет. И давай закончим на этом.
Он хотел еще что-то сказать. Не сказал. Повернулся. Перед ним была дверь. Дверь, подумал он. Слишком часто в последнее время приходится закрывать двери с той стороны. А в какой стороне находится дверь, которую нужно открыть?
Он уходил по коридору, стараясь, чтобы шаги звучали уверенно, ритмично, словно ему сделали инъекцию и все неурядицы показались смехотворными, не стоящими того, чтобы тратить на них силы, отнимая их у более серьезных дел.
Глава восьмая
Первую неделю Карачаров не анализировал проблему. Он думал о себе. Приводил в порядок нервы и мозг. Настраивал себя медленно и упорно, как сложнейший инструмент. Это была трудная работа с успехами и отступлениями. Волнами набегали сомнения и страхи. Тогда физик концентрировался на мелочах, на легко разрешимых частностях. Маленькие победы ободряли, помогали сохранить веру в себя.
Когда сомнения стали возвращаться все реже, Карачаров решил, что готов к работе.
Потом он несколько дней штудировал записи совещаний, на которых Земля решала их судьбу. Он не надеялся найти в них что-то, что помогло бы в работе, но добросовестно проанализировал все, что там говорилось, чтобы потом можно было от всего этого отмахнуться.
Затем наступила очередь теории. Когда записанные на кристаллах в корабельном, почти неисчерпаемом информатории, гипотезы и уравнения стали его собственностью, он почувствовал, что может сделать шаг не по чужим следам, а в новом направлении.
Карачаров не знал, в чем будет заключаться решение, но интуиция, заработав, подсказывала, что решение близко и оно будет правильным. Интуиции физик привык доверять не менее, чем математике, хотя и по-иному. Интуиция придавала уверенность, и он охотно делился этой уверенностью со всеми. Надежда, вызванная им в людях, в свою очередь, возвращалась от них к нему самому и была, возможно, одним из оснований, ва которых зиждилась его подсознательная убежденность в успехе.
И все же чего-то для успеха не хватало.
Карачаров жил сейчас новой, незнакомой ему жизнью. Ему нравилось быть в центре внимания и знать, что каждое его слово порождает в людях оптимизм. Раньше коллеги, слушая его, верили, собственно, не ему, а доказательствам, выраженным ъ символах, числах и немногих словах. Сейчас, верили не формулам: их здесь никто не понимал. Сейчас верили именно ему, человеку.
И он боялся разочаровать людей. Порой эта боязнь, незаметно для самого Карачарова, заставляла его высказывать больше уверенности, чем было в нем самом и больше, чем он высказал бы перед специалистами.
Но, в конце концов, если он и говорил чуть более оптимистическим тоном, чем позволяло чувство меры и ответственности, он, как ему казалось, имел право на это.
Чего же не хватало?
Сейчас, запершись в каюте и улегшись на диване в излюбленной позе – закинув руки за голову – Карачаров готовился снова погрузиться в поиски той комбинации мыслей и догадок, которая должна была привести его к правильному решению. Он даже улыбнулся, предвкушая удовольствие, какое доставит ему размышление над абстрактными проблемами.
Он не хотел признаться себе, что улыбка была лишь одним из способов убедить себя в удаче. Он уже не впервые предвкушал успех, но пока не продвинулся ни на шаг.
К работе он был готов. Не старался ли он продлить свое пребывание в центре внимания общества? Но само по себе постижение нового обладало такой ценностью, с которой не могло сравниться ничто иное на свете. Условия? Они были великолепными. Сознание отвечственности? Теперь оно уже не пугало, но подстегивало его. И все же что-то мешало ему, и он не мог понять, что. Карачаров с досадой ударил кулаком по дивану. И еще раз.
Стук в дверь явился словно откликом на его удары. На первый физик не ответил, надеясь, что стук был случайным и не повторится. Но стук прозвучал снова.
– Ну? – рявкнул физик.
Это был Еремеев. В руке он держал сетку с мячами.
– Пора, пора, – сказал он, улыбаясь.
Физик почувствовал прилив неудержимой ярости.
– Да подите вы к черту с вашими играми! – заорал он.
Валентин удержался от ответной резкости: спорт научил его дисциплине чувств, в то время как наука учит лишь главным образом дисциплине мыслей. Дискуссия является формой общения, естественной на научной конференции, но неприемлемой в отношениях, допустим, игрока и судьи. Глубоко обиженный Еремеев просто перестал улыбаться.
– Идемте, – сказал он упрямо.
Физик когда-то любил футбол, потом у него просто не осталось на это времени. Но даже в годы, когда матч был для него интересным событием, ему и в голову не приходило поставить спорт не то что рядом с физикой, но даже просто в пределах видимости. Футбол был игрой, физика – наукой. Мысль, что и в науке немало от игры, так как и она развивается по определенным правилам, которые не являются чем-то абсолютным, а созданы людьми для удобства, никогда не приходила Карачарову в голову.
– Никуда я не пойду! – крикнул он. – Неужели вы думаете, что человеку, когда он работает, нужно это идиотство?
– Ну, как знаете, – сказал Еремеев после краткой паузы. Только зря. Футбол – вещь без обмана.
Он вышел, и физик снова откинулся на спину. Как и всегда после взрыва эмоций, он ощущал пустоту, легкое головокружение и стыд.
Он выругался, встал и начал одеваться,
Мила записывала:
"Сегодня мне снилось, что я играю с котенком, глажу его, глажу без конца – и очень счастлива. Проснулась и, конечно, котенка не нашла. Было до слез обидно, и долго не могла избавиться от грусти. У нас как будто есть все, что нужно, но на самом деле какие же мы бедные! Ни кошки, ни собаки, никого живого, кроме нас. Я всю жизнь ненавидела пауков, а сейчас, кажется, была бы рада, если бы хоть какой-нибудь сплел паутину в уголке каюты. Но их нет, и взяться им неоткуда. Хотя, еслу подумать всерьез, – зачем мне пауки? А вот не хватает.
Вспомнила, как шуршали осенью желтые листья под ногами.
А птицы? Стала уже забывать, как они поют. Хотя и на Земле слышала их не так уж часто, но там – другое. Там можно было поехать в лес и послушать.
О Юрке и не говорю: это болит, болит всегда.
Очень медленно идет время. Какие-то бесконечные дни. Может быть, у нас на самом деле иное течение времени? Спросила бы у доктора Карачарова, но он так занят, и нельзя отвлекать его.
Сколько же можно ждать?
Кажется, терпение уходит по капле, и все как-то тускнеет. И еще...
Уходит все дальше Валя. Или я от него? Каждый день я мысленно измеряю расстояние между нами и вижу, что понимать друг друга становится нам все труднее.
Очень боюсь, что для него слишком много значила близость – та, которой сейчас не может быть. Если это так, то плохо. Не потому, что мне не хотелось бы, а потому, что не может все основываться на этом. Это очень обидно...
Для меня очень много значит то, что мы с ним больше не можем чувствовать одинаково. Валя не знает, не может представить, что такое для меня Юра. Я его понимаю, но от этого не легче. И Когда на меня находит тоска по малышу, Валя ничем не может помочь. Дело не в том, что он не умеет высказывать чувства: я ощутила бы, если бы даже он молчал. Но он не чувствует ничего подобного. Мне же от этого больно и обидно, пусть он и не виноват.
Я думаю, что для половины мужчин жена – как мать, для другой половины – как дочь. Для Вали – мать: он ждет поддержки. Для Нарева – наоборот: он сам готов поддержать.
А у меня – Юра, и материнские чувства я могу испытывать только к нему.
Я одна, вот что плохо. И буду одна, пока мы не вернемся на Землю.
Что с нами со всеми будет? Хоть бы скорей..."
Никто не хотел играть в футбол. Это была беда.
Никакие, даже самые уничижительные отзывы о футболе и о спорте вообще не могли поколебать преданности Еремеева этой игре, даже более чем игре – мировоззрению. Но раньше ему не приходилось встречаться с таким отношением к его работе: в обеспеченном обществе, какое существовало на земле, спорт был одним из важных видов деятельности, и никто уже не'думал о том, приносит он какую-то конкретную пользу или является всего лишь зрелищем, приобретшим несообразное значение. Спорт не то чтобы получил статус искусства; его статус издавна был выше. Просто раньше об этом избегали говорить вслух, а теперь постепенно перестали скрывать.
И поэтому Валентина удивило, что он вдруг оказался среди людей, которых волновали главным образом какие-то другие вещи.
Он понимал, что необходимо вернуться на Землю. Привыкший к жизни на открытом воздухе, к широким стадионам и зеленой тишине тренировочных лагерей, он больше, чем любой другой, ощущал и переживал отсутствие всего этого. Потолок корабельного зала, хотя и высокий, давил его, отсутствие солнечного света, теплого ветра, шума прибоя – угнетало. Он чувствовал, что не сможет примириться с этим стерильным миром, похожим на больничный и вызывавшим поэтому антипатию.
В конце концов, только на Земле он снова мог оказаться в команде, среди настоящих друзей. Только там он мог забивать голы и чувствовать, что выполняет свое жизненное предназначение.
И все-таки самое горячее желание попасть на Землю не могло быть причиной, по которой спорт вдруг перестал интересовать людей. И не одного лишь физика. Те самые люди, которые, пока корабль направлялся к Земле, искали общества Еремеева, заговаривали о спорте и с интересом выслушивали его объяснения, теперь вели себя так, словно бы спорт перестал существовать.
Это казалось Еремееву особенно несправедливым сейчас, когда он больше всех остальных нуждался в понимании и сочувствии: у него отняли не только спорт, у него, казалось ему, отняли и жену.
Валентин не думал о том, что никто не виноват в ее охлаждении. Он чувствовал лишь, что остается в одиночестве, что и футбол, и жена его оставили, и подозревая, хотя и неправильно, что для Милы сыграло тут роль изменение его положения в обществе; в его жизни не было ничего другого, что могло бы заменить все, чего он лишался.
Спасение было на Земле. И он был готов на все, лишь бы приблизить день возвращения. Но от него ничего не требовали. И сознание своей ненужности вводило в Еремеева все глубже.
Он начинал понимать, что все виды людских занятий можно разделить на такие, которые нужны людям всегда, и такие, что требуются лишь в определенных условиях. Его дело относилось ко вторым, и условий для него здесь не было.
Такие мысли преследовали его, пока он привычно бегал по дорожке вокруг зала, делая рывки, кувыркаясь через голову и снова продолжая бег. Разминка постепенно должна была привести его в хорошее, игровое настроение, необходимое и на тренировке.
В зал вошел Истомин и уселся на низкую скамейку у стены. Это был уже зритель, и Еремеев усилил темп. Потом, подбрасывая мяч, подошел и уселся рядом с писателем.
– Вам бы сейчас не вредно сыграть, – сказал он.– Подвигаться, разогреться. А?
Истомин вежливо улыбнулся.
– Да, – сказал он не совсем впопад. – В юности я мечтал. Но не оказалось данных. Тогда я переживал...
Еремеев радостно кивнул. Такие разговоры он слышал не раз, они были составной частью его жизни: люди хотели в большой спорт и немного завидовали Валентину, а он отмахивался, говорил о трудностях этой профессии, но в душе гордился. Он сказал:
– Но ведь есть и другие дела в жизни. Все не могут играть.
Писатель пожал плечами, думая о своем.
– Я много лет пишу книги, – проговорил он негромко, словно самому себе. – И вот написал еще одну – о давно минувших временах. Но ведь книга – всегда о настоящем. Любая историческая книга написана не о прошлом, а о том, как мы сегодня понимаем это прошлое, что в нем выделяем, что – пропускаем мимо внимания. И я написал, по сути, о нас: мы сейчас находимся в том положении, что и мои античные герои. И у них мир был узок; но это ведь не тяготило их: мысль была свободна, и они чувствовали себя хозяевами положения и были счастливы. Может быть, в этом выход и для нас? Мы оказались за пределами нашей цивилизации, за пределами высокой культуры моторов и компьютеров – надо ли идти по ее следам? Культура должна органически вырастать из данных условий; не следует ли непредвзято осмотреться, чтобы постичь их? И понять, как надо в них жить? Вот о чем моя книга; но никто не хочет читать ее. – Истомин усмехнулся. – Даже Инна.
– Это понятно, – поразмыслив, сказал Еремеев. – Мы ждем возвращения на Землю. Зачем нам что-то другое?
Истомин усмехнулся.
– Если бы все обещанное исполнялось... – пробормотал он.
Еремееву сделалось вдруг очень жалко Истомина: он не столько понял, сколько почувствовал, что у этого человека тоже отняли что-то очень большое, главное. И женщина, наверное, тоже предала его. Он сказал, желая помочь тем единственным, что было в его власти:
– Хотите тренироваться вдвоем? Это увлекает. А я вам покажу кое-какие приемы – не пожалеете.
Истомин взглянул на него, отвлекаясь от своих мыслей.
– И на Земле я смогу играть с мастерами? – спросил он, улыбаясь.
– Там вы не станете, – сказал Еремеев. – Так сыграем?
Писатель коснулся его руки, словно утешая.
– Я вас не обведу и не выиграю, а если вы станете применяться ко мне, уступать – какой толк? Нет... Футбол – это для людей, обладающих моральным равновесием.
Еремеев сумрачно кивнул.
– Погодите, – сказал Истомин. – А почему именно мы?
– Что?
– А если не мы? Не люди? Помнится, я слышал, что у нас в трюмах – сложные механизмы. Может быть, среди них окажутся антропоиды?
– Роботы?
– Человекоподобные, биомеханические. Они могут делать, что угодно – наверное, и в футбол играть. Найдите их, обучите. Хоть не люди, а все же...
– Да, конечно, – вяло согласился Еремеев.
Они посидели молча, думая каждый о своем.
– Пойду, – сказал затем Истомин, вставая.
– Эх, черт, – проговорил Еремеев. – Если мы не попадем на Землю – не знаю, до чего я дойду. Иногда хочется все изломать в щепки. Жить-то как?
– Как жить, – сказал Истомин, – этого я не знаю.
Он медленно пошел к выходу. Валентин проводил его взглядом, потом нащупал свой пульс; он не забывал о контроле. Пульс вошел в норму. Однако работать Еремееву расхотелось, и ноги, казалось, отяжелели и не поднимались.








