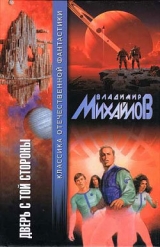
Текст книги "Дверь с той стороны"
Автор книги: Владимир Михайлов
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Он прав, понял Устюг. Он остается на Земле, и ее интересы для него главнее. Не надо свое несчастье делать самым большим на всей планете. Что для человечества – полтора десятка человек? Ну, о Карском еще вспомнят, а мы все? Беда, конечно, но не катастрофа... Раньше было иначе, вдруг подумал он. Раньше место, где жила тысяча человек, считалось уже немалым городом, а ведь тысячу можно знать в лицо, и исчезновение каждого из них заметно. Странно – а жизнь ценили меньше, убивали легко. В наше время не убивают, но что такое – нас тринадцать для пятидесяти миллиардов Федерации, или сколько их уже на сегодня... Крутится машина Федерации и без нас будет крутиться так же. Люди и так не сидят на месте. Сколько мы их перевозили... Каждый абсолютно свободен, но это значит, что вроде бы и не нужен? – вдруг удивился он. – Деталь в механизме несвободна, но только там она и приносит пользу. А если валяется вне машины – она лом, утиль... Но к чему эти размышления? – подумал, наконец, капитан, и ему захотелось поскорее закончить разговор и хоть немного расслабиться, прежде чем начать действовать.
– Презираешь нас? – сказал командор. – Но сделай два дела, добро? Заложи все свободные кристаллы в автомат, для записи. Я приказал дать тебе столько информации, сколько сможешь принять. Больше ничем снабдить тебя не можем. Запись поведут ускоренно, кодом. Это тебя не задержит.
– Будет исполнено.
– И второе: может, разбудишь экипаж? Я бы им чтонибудь сказал... Экипаж-то хороший? Я ведь только вас, капитанов, и знаю.
Капитан Устюг покачал головой.
– Говорить не надо.
И в самом деле, не надо. Что мог сказать командор? Ведите себя хорошо, слушайтесь капитана? Капитана и так положено слушаться, но в критических ситуациях его слушают только, если он действительно того стоит, а это он должен доказывать сам, не через начальство. Так что уговаривать никого не надо, от этого лучше не станет. Командор это хорошо знал, но считал себя обязанным предложить капитану хоть такую помощь.
– Что ж, правильно. Тебе с ними жить, и жить своим авторитетом. Так... Что еще я могу сделать – для тебя лично? На Земле ты – один?
– Давно.
– Значит – ничего?
Капитан серьезно поглядел на командующего.
– Не поминайте лихом.
– И ты не обессудь. Ну, дай руку. Верю. До встречи.
Устюг протянул руку к объемному изображению. Пальцы прошли сквозь пальцы. Потом командор исчез, остался лишь молочно светящийся экран. Вот так, подумал капитан, выглядит дверь этого мира, когда затворяешь ее с другой стороны.
Катер был принят в эллинг. Капитан сам разблокировал и отворил люк. Брови его поднялись: в люке показался Петров. Ссадины делали его похожим на первобытного вождя в боевой раскраске.
– Ну-ка быстрее, – сказал Петров. – С ним беда.
Капитан лишь сжал губы. От старика он таких сюрпризов не ожидал. Ладно, будет время – еще поговорим на эту тему.
Карский был, вероятнее всего, уже мертв. Кабина катера показалась капитану незнакомой: зеленоватые стены ее были усеяны красными пятнами. Устюг вдвоем с Петровым освободили администратора от лежавшего на нем кресла; капитан хотел взять Карского за ноги, но вовремя удержался: одна нога была вытянута под странным, невозможным углом к телу; Устюг посмотрел – и отвел глаза. Левую руку тоже, по-видимому, восстановить не удастся. Он дотронулся до руки, Карский вздрогнул. Значит, жив, и на том спасибо.
Вдвоем с Петровым они переправили администратора в госпитальный отсек. Потом капитан срочно вызвал на связь командора. Главный хирург флота был оповещен сразу же. Уход задерживался, и пока врачи, собравшись в Космоцентре, разглядывали на экране не приходившего в себя Карского, капитан, ассистируя им и поворачивая систему рычагов и растяжек, в которой был укреплен Карский, то в одну, то в другую сторону, все чаще поглядывал на индикатор рентгеновского излучения.
Когда медики достаточно нагляделись и начали совещаться, капитан получил, наконец, свободу. Надо было срочно готовить корабль к выходу, но он медлил.
Если бы спасение "Кита" и пассажиров зависело от экипажа, Устюг, не колеблясь, приказал бы любому пожертвовать жизнью, и каждый член команды – а сам он в первую очередь – пошел бы на смертельный риск, будь в этом хоть какой-то смысл.
Метеоритные атаки, зияющие пробоины в бортах, вышедшие из-под контроля реакторы, скрытые, самые подлые нарушения герметичности, выход из строя навигационной аппаратуры, шизофреник, грозящий взорвать корабль, – все эти и многие другие мыслимые несчастья сейчас представлялись ему едва ли не желанными; любое из них призывало к активным действиям, заставляло людей выложиться до конца и не оставляло времени для страха и размышлений о печальном будущем.
А сейчас от них не требовалось ничего, кроме спокойного ожидания. И это оказалось вдруг самым страшным.
Люди оставались людьми. Инстинкт самосохранения и боязнь неизвестности, хотя и загнанные дисциплиной и гордостью глубоко внутрь, продолжали жить в каждом. И капитан знал, что в первую минуту – покажут это люди или нет, – их неминуемо охватит отчаяние.
Ничто не может быть страшнее отчаяния в замкнутом помещении. Последствия могли быть многообразными, но одинаково печальными.
Поэтому Устюг, напрягаясь, пытался вспомнить до мельчайших деталей, как вели себя инженер и штурман в различных случаях? Память не помогла. Капитан все более убеждался в том, что их совместные полеты на корабле "Кит" были невыразимо благополучны. Острых ситуаций, не говоря уже о критических, в рейсах не возникало – и это было естественно: только так и могли служить на пассажирской машине уважающие себя люди. Конечно, Устюг был знаком с прошлым своих товарищей, хотя оно давно уже не фиксировалось в обязательных документах, традицией являлось – придя на корабль, рассказать о себе. Однако люди, рассказывая о себе, не любят похвальбы – настоящие люди, понятно. И то, что сейчас пригодилось бы капитану, оказалось за пределами этих лаконичных рассказов.
Возможно, он еще не один десяток минут потратил бы на такого рода размышления, но их прервал вызов. Врачи пришли к единому мнению, и капитану было приказано готовить Карского к операции.
Он переключил связь на госпитальный отсек и уложил администратора так, как ему сказали. На экране было видно, как несколько хирургов встали у манипуляторов. Сложная геометрическая система рычагов, вооруженных хирургическими инструментами, опустилась с потолка операционной каюты "Кита" и застыла над больным. Хирург на экране сделал быстрое движение рукой; на своем экране, на Земле, он увидел, как тонкий, блестящий рычаг опустился и повторил его движение, делая разрез. Спасти ногу и руку в этих условиях представлялось невозможным, речь шла о сохранении жизни. К счастью, запас крови на корабле оставался нетронутым. Связь работала великолепно, каждое движение врачей повторялось с запозданием, потребным для того, чтобы волны из Космоцентра дошли до антенн "Кита" – всего лишь. Капитан заставлял себя смотреть, не отводя глаз: испытание уже началось, и каким будет продолжение, он не знал и должен был приготовиться ко всему. Через сорок минут операция кончилась. Руку и ногу предстояло регенерировать; в корабельных условиях, при его относительно слабой установке, процесс этот должен был растянуться на месяцы. Капитан, выслушивая указания, привел в действие регенератор и укрепил все, чтобы ничто не нарушилось при перегрузках. Лишь теперь он сказал, что на борту есть врач, и в дальнейшем именно она будет вести наблюдение за больным. Главный хирург нахмурился, но не высказал ни слова в упрек, он был не просто врач, а врач Трансгалакта, и понимал, что отступления от правил порой бывают необходимы.
Когда капитан возвратился в центральный пост, там звучала музыка. Устюг усмехнулся: это была Третья Героическая, часть третья – скерцо, аллегро виваче. Он подождал, пока прозвучит негромкий призыв к атаке – так он понимал это место.
– Да, – сказал он себе. Что ж, надо полагать, автомат понял обстановку правильно.
Капитан подошел к пульту и включил сигнал.
В каютах экипажа залились звонки тревоги.
– Наша очередь, мастер? – спросил Луговой. Он был свеж и безмятежен, влажные волосы лежали красиво и свободно. Хорошие волосы, густые, ни сединки в них. Пока что.
– Да, – сказал капитан сухо. – Пришел наш черед.
Инженер Рудик тонко разбирался в капитанских интонациях. Он быстро обвел взглядом центральный пост, но не обнаружил никаких поводов для тревоги.
– Что случилось? – спросил он все же.
– Сядьте. Обрисую обстановку.
Он объяснял недолго. Потом наступила такая тишина, что когда с обычно неслышным щелком включился климатизатор, им показалось, что ударил выстрел – все трое вздрогнули и подняли глаза; потом головы снова опустились.
Луговой смотрел на свою руку – смотрел так, словно видел ее. впервые в жизни. Гладкая белая кожа, тонкие светлые волоски, ровно обрезанные ногти. Сейчас он в первый раз заметил, что пальцы – средний и безымянный – у него чуть изогнуты навстречу друг другу; на указательном, около самого ногтя, сохранился, оказывается, маленький рубчик – здесь был нарыв много лет назад – а вообще, если подумать, не так уж давно это было... Своя рука, часть его самого, сейчас выглядела чужой и даже страшной; дико было сознавать, что состоит эта рука не из нормального, обычного вещества, а из страшного своей непривычностью – противоположного. По виду ничего не скажешь... Штурман перевернул руку ладонью вверх и с тем же упорством стал разглядывать ладонь, словно в линиях, которыми она была разрисована, можно было отыскать ответ на любой вопрос и даже на главный: что же теперь будет?
Он взглянул на капитана – украдкой, потом прямо. Капитан был человеком, которому Луговой верил во всем, который все знал и умел, с кем ничего не могло случиться. От капитана исходили разумные и своевременные приказы, и если сейчас он порядком напугал друзей, то лишь для того, чтобы через минуту пояснить, что выход им уже найден и надо лишь сделать то-то и то-то. Луговой ждал, но капитан медлил, не отдавая распоряжений. Тогда штурман спросил:
– Что надо делать, мастер? Я готов.
– А ты инженер? – спросил капитан.
Рудик себя не разглядывал: человек – устройство приблизительное, не поддающееся строгому расчету. Он медленно поворачивал голову от одного прибора к другому в поисках того отступления от нормы, которое он, инженер, проглядел при первом, беглом осмотре. Но все выглядело нормально, и это вызывало в инженере раздражение. До сих пор он сталкивался лишь с такими нарушениями естественного хода событий, которые можно было устранить с помощью инструментов и ремонтных автоматов. Теперь же приборы показывали норму, но непорядок все же был – раз Устюг утверждал это. Рудик склонил голову к плечу.
– По нормальным законам, – неспешно проговорил он, – нам сейчас положена профилактика на Космофинише и замена узлов, выработавших ресурс. Остальное, тебе виднее.
– О профилактике забудь, – сказал капитан.
– Тогда командуй, – сказал Рудик. – Что станем делать?
– Прыгать, – объяснил капитан на их привычном жаргоне. Прыгать в сопространство и обратно – пока не вернемся к норме или не разлетимся вдребезги.
– Всего и делов, – сказал инженер.
– Не так просто. Надо как можно точнее воспроизвести условия. Начать переход в той точке, куда мы вышли, возвращаясь с Анторы, – твоя задача, штурман. Соблюдать все режимы до мелочей – это тебе, инженер.
– Ясно. Мне надо как следует полазить по всем закоулкам, раз уж обслуживания мы не получим.
– Сколько понадобится времени?
– Постараюсь побыстрее. Но сам знаешь: выигрыш во времени – проигрыш в безопасности. Считай, несколько дней. На Космофинише копались бы две недели.
– Тогда отойдем подальше от Системы, и придется будить пассажиров.
– А они не устроят нам детский крик на лужайке? – поинтересовался инженер.
– Поживем – увидим, – неопределенно ответил капитан.
"Если поживем" следовало сказать – "если" он опустил.
Путь для них был расчищен, как никогда. Вокруг было пусто; сияла Земля в третьей четверти, да чистильщик маячил неподалеку. Капитан вызвал его.
– Эй, помело, – сказал он, пытаясь говорить бодро. – Кто на связи? Я "Кит", капитан Устюг.
– Капитан Слай слушает.
– Настоятельно советую отойти подальше. Сейчас начну разгон.
Капитан Слай колебался.
– Видишь ли, мне приказано проследить...
– Ты-то меня знаешь?
– Да, – сказал капитан Слай. – Ладно, отхожу. – Он передохнул. – Значит, доброго пути.
– Счастливо оставаться, – ответил Устюг, с тоской понимая, что это, может быть, последние слова, какие он говорит человеку с Земли. Последние в жизни.
Командор огляделся. Его салон в Космоцентре был полон, тут была, кажется, вся смена, да еще и подвахтенные – все, кроме дежурных диспетчеров. Информация утекала прямо-таки катастрофически. Надо было взгреть кого-то. Потом, не сейчас. Сволочи, трепачи, подумал командор. Толкутся тут, целые и невредимые. А такого, как Устюг, не уберегли. Лучшего капитана!..
Устюг не был лучшим капитаном, и худшим не был, а просто средним, одним из десятков, и командор это знал рассудком. Но сердцем ощущал, что теряет все-таки самого лучшего, и каждый, кого ни приходилось ему терять в жизни, был лучшим, потому что другие оставались, а этого уже не было.
Корабль "Кит", гибрид груши с тыквой и телефонной трубкой (как именовался этот класс машин в профессиональном просторечии), плавно ускорил движение, разгибая орбиту. Звезды, на фоне которых он был виден, мелко задрожали; потом фиолетовая дымка затянула их.
Странное дело: "Кит" уходил в одиночку, а здесь оставалось все: флот, Земля, человечество. Но почему-то командору на миг показалось, что это он отстал, остался, а люди уходят, друзья уходят вперед. Скверное чувство, когда друзья идут вперед, а ты стоишь на месте...
В Космоцентре кто-то включил траурный марш.
– Уберите дурака! – сквозь зубы приказал командор.
Фиолетовая точка таяла вдали.
Глава четвертая
– А девочка-то плакала, – сказал Карачаров, взглянув на только что появившуюся в салоне Веру. – Глазки красные, как у кролика. Или надо сказать «как рубины»?
Физик чувствовал себя великолепно. Он выспался, а пробудившись, прежде всего вспомнил, что уже сегодня окажется на Земле. Ну, тогда – держись! Признание, возможность работать широко, с размахом, ожидали его на планете, а думать об еще не начатом, что можно обозреть в общем виде, не отвлекаясь мелочами,– самое лучшее, что доступно человеку. И физик был счастлив, гудел под нос песенку и ему казалось противоестественным, что кто-то плачет, когда жизнь так прекрасна. Он покровительственно улыбнулся девушке.
– Утеньки малые! Кто нас обидел?
Вера покачала головой и торопливо отошла. Карачаров критически поглядел ей вслед – мудрый старец, знающий, сколь мало стоят тревоги молодости – и подошел к Петрову, уже успевшему занять облюбованное им кресло.
– Привет вам, метр. И всюду страсти роковые, – назидательно произнес физик.
– С добрым утром, – откликнулся Петров, – почему "метр"?
– Как! Я ведь уже говорил вам, кто вы такой – школьный учитель на пенсии, путешествующий, чтобы увидеть мир, о котором он всю жизнь рассказывал детям. Разве я не прав? У меня поразительный нюх на людей, я определяю их с первого взгляда. Итак, вы, метр уже собрали чемоданы?
– Никто не говорил, что пора.
– Ах да, не было звонка с урока. Господи, какие вы все сегодня скучные! В такой солнечный день.
Освещение в салоне было обычным, но физик был уверен, что день нынче солнечный. Услышав звук шагов, он резко повернулся.
– Здравствуйте, ваше величество! Ничтожнейший из рабов приветствует вас.
Сегодня, думала Зоя. Сегодня на Земле. Она улыбнулась физику, как если бы пред нею стоял Устюг, и Карачаров даже задохнулся. Он пробормотал:
– Не надо так – я могу ослепнуть...
Писатель вошел с чемоданом и поставил его у стены.
– Я человек предусмотрительный, – объявил он для всеобщего сведения. – Который час? У моих сел элемент.
Физик взглянул на свой хронометр с календарем.
– Без десяти девять по общему, – любезно ответил он, но тут же нахмурился и еще раз посмотрел на часы, на этот раз внимательно. – Погодите, какое сегодня число?
– Тридцать первое, естественно, – сказал Нарев.
– А у меня первое, – с неудовольствием сказал физик. – Не понимаю. У кого еще есть календарь?
– И у меня первое, – проговорила Мила.
– Позвольте, – сказал писатель. – Как может быть сегодня первое, если мы должны быть на Земле тридцать первого? Разве бывают такие опоздания?
– Ручаюсь, что мы еще не на Земле, – молвил физик, чье настроение стало стремительно портиться. – Но вот где мы?
Он подошел к выходу на прогулочную палубу, нажал пластинку, но проход не открылся. Зато в противоположных дверях показалась свежая после долгого сна актриса. Увидев общество в сборе, она испуганно ахнула, тут же улыбнулась, низко присела и послала всем воздушный поцелуй, словно со сцены.
– Я не опоздала? Я вас задерживаю?
– Вряд ли это вы, – буркнул Карачаров. – Нужно вызвать капитана.
Он взглянул на Зою и повторил громче:
– Вызвать капитана! Может быть, у него есть причины медлить с посадкой – у меня их нет!
Зоя прищурилась; даже бестактность физика не испортила ей настроения.
– Это делается не так, – сказала она. – Постройтесь на шканцах и выберите предводителя. После этого можно пригласить капитана и устроить бунт.
– Голодный бунт, – уточнил Нарев. – Не пора ли завтракать?
– Да, – сказал Истомин. – Бунт в лучших литературных традициях.
– Мне не смешно, – хмуро заявил физик и шагнул к выходу.
В этот миг на пороге показался капитан. Он нашел взглядом Зою; она, не таясь, улыбнулась ему, и он ответил, но его улыбка была странной.
– Капитан! – сердито сказал физик. – Не можете ли вы сказать, когда мы, наконец, окажемся на Земле?
Капитан обвел пассажиров медленным взглядом.
– По всей вероятности, никогда.
Быть может, Устюг ожидал взрыва. Взрыва не последовало. После его слов раздался дружный смех: пассажиры восприняли ответ, как шутку – не самую, может быть, остроумную, но сейчас они были готовы смеяться даже не шутке – просто в ответ на одно лишь желание сказать смешное.
В этом не было ничего удивительного: в представлении любого пассажира невозможность попасть на Землю непременно сочеталась бы с аварией корабля. Однако пока ничто не указывало на неблагополучие: салон был освещен, воздух чист и парящие автоматы уже принялись накрывать на стол. Капитан же вовсе не походил на человека, только что устранявшего какую-то неисправность: по мнению пассажиров, Устюг в таком случае должен был предстать перед ними в рабочем комбинезоне, с тестерами и инструментами в руках.
Капитан не ожидал такой реакции; странно – от их смеха ему стало легче. Если бы ответом на слово "никогда" была тишина, и вслед за нею налетел бы шквал негодования, ему пришлось бы оправдываться, теперь, напротив, предстояло доказать свою правоту не поверившим ему людям. А в такой позиции человек всегда чувствует себя увереннее.
Капитан оперся ладонями о стол и подождал, пока смех утихнет. Он лишь крепче сжал зубы.
– Быть может, никогда, – повторил он.
На этот раз нерешительно усмехнулась лишь Мила – и то скорее из вежливости.
– Как понимать вас, капитан? – спросила актриса. – Иносказательно? Или что-нибудь действительно случилось?
С ними случилась беда. Но в ней было много странного и даже, казалось, противоестественного. И прежде всего – то, что жизни людей, несмотря на катастрофический характер события, ничто не угрожало.
Корабль был новым, хорошо сконструированным и надежно построенным. Он не нуждался в снабжении чем-либо: энергию для движения и внутренних нужд "Кит" черпал из пространства, всегда пронизанного излучениями. Раньше люди гибли в пространстве от нехватки энергии, как жертвы кораблекрушения – от недостачи воды; будь на каждой шлюпке опреснители, смерть от жажды стала бы чрезвычайным происшествием: воды-то вокруг был океан! Так и с энергией; и теперь диагравитаторы давали кораблю возможность разгоняться в пространстве, расщепляя гравитационное поле и используя одну из его компонент, батареи конденсаторов Дормидонтова позволяли, мгновенно освобождая громадные энергии, совершать переход в сопространство и удерживаться там, а индукторы Симона давали энергию за счет внешнего электромагнитного поля. Управляемые компьютером синтезаторы, в совокупности с устройствами механического отсека, производили и пищу на любой вкус, и новые детали механизмов взамен износившихся, синтезируя атомы любого элемента из любого другого или из элементарных частиц. "Кит" был как бы миром в себе и мог существовать и лететь до тех пор, пока существует мир – или, по крайней мере, пока в нем оставался хоть один человек, способный задавать программу синтезаторам и командовать ремонтной автоматикой.
Да, великолепный корабль, и людям в нем нечего опасаться: ни голода, ни жажды, ни даже отсутствия новых нарядов. Болезнетворным началам здесь неоткуда взяться, а климатизаторы поддерживают нужную температуру и влажность воздуха. Иными словами, человек мог бы, не пошевелив и пальцем, безмятежно дожить тут до своего биологического предела. А это означало, что еще не год и не десятилетия людям предстоит существовать в этой скорлупе, ни в чем не зная недостатка.
– Можно жить, – сказал Устюг и сделал паузу.
"Если только люди захотят!" – этого он не произнес вслух.
Почему бы им вдруг пожелать смерти? У капитана на этот счет были свои опасения. Он, как ни старался, не мог избавиться от чувства вины перед пассажирами. Люди доверились ему, чтобы он перевез их через немыслимые бездны пространства и доставил на Землю, а он не смог сделать этого. С мгновения, когда пассажиры взошли на борт "Кита", они отдались под власть капитана – но и на его ответственность. И хотя в том, что произошло, не было вины Устюга, совесть тревожила его и – он знал – будет тревожить до самого конца.
Устюг твердо усвоил, что человек – создание алогичное, и куда чаще, чем принято думать, руководствуется логикой "от противного". Он знал, что людям всегда чего-то не хватает, и опасался, что они и тут захотят чего-то, чего он не сможет им дать. Чего? Земли. Или твердого грунта любой другой планеты. Восхода солнца и белых ночей. Трав и рек. И тех, кто остался там, в большом мире. И...
Сознание невозвратимости всего этого способно заставить людей, чья жизнь может длиться еще десятилетия, умереть очень, быстро. Зачахнуть. Завянуть. Или перерезать друг другу глотки в припадке внезапной и необъяснимой ненависти друг к другу...
Пауза затянулась, потом тишину рассек странный звук – это смеялся Нарев – как пилой по железу.
Только теперь капитан открыто взглянул на Зою. Самое тяжкое было выполнено, и капитану хотелось своим взглядом поддержать ее, оградить от потрясения, передать ей свою уверенность в том, что все, чего лишились, они найдут один в другом.
Зоя отвела глаза, и капитан с горечью почувствовал, что сейчас был для нее не человеком, который ее любит, но представителем непонятной силы, независимо от желания Зои и всех остальных резко бесповоротно изменившей их жизнь.
Капитан ощутил, как взволнованную приподнятость, какую он только что испытывал, вытесняет холодная злость на разношерстную кучку людей, к которым принадлежала женщина, отказавшаяся понять его именно сейчас, когда это было очень нужно.
Как часто бывает, он не понял ее и не знал, что она отвела глаза лишь для того, чтобы он не увидел в них выражение торжества, какое испытывает женщина, поняв, что любимый человек по-настоящему нуждается в ней, и только в ней. Она просто испугалась откровенности своего взгляда, неуместного сейчас, когда все были подавлены свалившейся на них бедой, впервые ощутили ее тяжесть.
Капитан медленно обвел взглядом остальных. Он сказал все, что мог; ему противно было еще и еще раз повторять те же слова, как делают это иные в ожидании, что если не на третий, то хоть на пятый раз слова дойдут, наконец, до сознания слушающих и окажут воздействие.
Капитан молчал. Остальное зависело от того, кто из пассажиров заговорит первым и что именно скажет. Сейчас люди могли повернуть к отчаянию – или к спокойствию, которое можно сохранить и в самые тяжкие времена.
Если бы в салоне присутствовал администратор, он, наверное, нашел бы, что и как сказать. Но Карский лежал в госпитальном отсеке, под прозрачным куполом, облепленный датчиками и стимуляторами, окруженный специальной атмосферой, лежал без сознания, не зная ни того, что он лишился руки и ноги, ни того, что хрупкие, розовые зачатки новой руки и новой ноги, их костей, мускулов, сухожилий и нервов уже ясно различимы... Взгляд Устюга задержался на Нареве. Пожалуй, именно опытный путешественник мог бы помочь сейчас, отыскав в памяти какую-нибудь похожую историю, в которой люди вели себя достойно и терпеливо дожидались заслуженного ими счастливого конца. Устюг чувствовал себя не вправе утешать и подавать надежды, которые могли не оправдаться, но он не стал бы возражать, займись этим кто-нибудь другой, и, может быть, подобная история утешила бы даже самого капитана, хотя кто-кто, а он знал, что счастливые концы достигаются вовсе не умением сидеть и выжидать.
Но Нарев молчал. Ему очень хотелось вскочить, что-то крикнуть, заставить всех повернуться в его сторону, добиться, чтобы вспыхнули их глаза... Но Нарев боялся, что стоит ему заговорить – и верх одержит его всегдашнее стремление отрицать, а не утверждать, разрушать, но не строить, поднимать людей скорее на драку, чем на работу. И путешественник промолчал, боясь в эти мгновения самого себя: он знал, что дело серьезное, и что ни в панику, ни в истерику сейчас впадать нельзя.
Заговорила Инна Перлинская. Актриса из тех, кого запоминают зрители, и кто, начав с юности, всю жизнь проводят на сцене, естественно переходя к ролям все более зрелых героинь, Инна сразу почувствовала зал, настроение своих немногочисленных на сей раз зрителей, и поняла, что сейчас важно, какие слова человек скажет, а вовсе не то, глубоко ли он убежден в справедливости этих слов, и ему ли принадлежит высказанная мысль, или давно уже стала общим достоянием.
Инна не умела заглядывать далеко в будущее и жила ощущением каждого мига. И сейчас в первую очередь почувствовала, что ее расставание с Истоминым, неизбежное на Земле, куда-то отодвигается. Это позволяло надеяться, что ее маленькое, нечаянное, и, быть может, последнее счастье окажется таким, какого она никогда не знала и о каком мечтала всю жизнь спокойным и продолжительным. Актриса, как и остальные, не успела подумать, что она никогда не увидит Земли. "Никогда" для человека равносильно вечности с обратным знаком и, как и "вечность", принадлежит к тем фундаментальным понятиям, с которыми человек до сих пор не в ладу. Человек часто воспринимает "никогда" всего лишь как очень долгий срок, тем самым лишая это понятие присущей ему безысходности и категоричности. Впрочем, может быть, он и прав, потому что личное "никогда" каждого длится не более, чем его жизнь – не так уж и много. Поэтому Инна ощутила вдруг покой и даже радость и, привыкнув испытывать чувства для того, чтобы делиться ими с людьми, не стала удерживать их в себе.
– О, конечно, – сказала она, привычно и незаметно для самой себя улыбаясь. – Но ведь... наверное, все это не так трагично? Я уверена, я чувствую, что мы спасемся. Земля никогда никого не оставляла в беде, правда? Помню, у нас была похожая пьеса... У меня сейчас такое ощущение, словно нам просто подарили еще несколько дней отдыха. Ну скажите, капитан, разве вы не уверены в том, что эти новые переходы, о которых вы говорили, спасут нас? Разве сомневаетесь в том, что они приведут нас обратно на Землю? Мне это кажется настолько логичным, что и тени сомнения не возникает.
Она глядела на Устюга, широко раскрыв глаза, которые все еще были наивными, девичьими, и привычно прятала руки, выдававшие возраст. Устюг помедлил; он полагал, что их шансы невелики, – так подсказывала интуиция, – но разве, в конце концов, он мог знать и предвидеть все?
– Ну, – сказал он, – безусловно, есть надежда...
Инна не дала ему договорить.
– Вот видите? – своим глубоким, профессионально поставленным голосом сказала она и тряхнула черными колечками волос. – Что ж тосковать? Доктор Карачаров, Зоя, Мила, все мы ведь жаловались, что у нас вечно не хватает нескольких дней, чтобы спокойно посидеть и понять что-то важное, или закончить работу, или побыть не одной. Нарев, вы же профессиональный путешественник, разве вам не интересно все это?
– Инночка, – сказал Нарев. – Я ведь не ропщу, мудрица! он сам рассмеялся над этим словом и рассмешил всех. – И в самом деле, нужно ли разочаровываться в Земле и в нас самих? О, мы просто еще плохо знаем себя! Дайте время – и мы покажем!
– Времени, кажется, будет в избытке, – пробормотал Карачаров, но даже его воркотня не показалась мрачной.
– А вы доктор, настроены пессимистически?
– Да нет, – сказал физик. – Просто мне надо все это обдумать как следует.
– Конечно же! Думайте, дерзайте... Воспользуемся неожиданными каникулами, и – да здравствуют переходы!
На Земле и в полетах Мила вела дневник, как это бывает с людьми, не уверенными в том, что они могут все, без остатка, рассказать находящемуся рядом человеку – и будут поняты. Это зависит не столько от собеседника, сколько от самого человека, от его умения быть (или не быть) откровенным по-настоящему. Люди откровенные редко ведут дневники, а счастливые, кажется, не занимаются этим вовсе. Наверное, Мила не была счастлива с самого начала, хотя, быть может, и не сразу поняла это.
Привычке вести дневник она не изменила и тогда, когда Земля осталась далеко.
"Странные мы люди: то ли умеем так хорошо скрывать наши мысли, то ли все очень легкомысленны или легковерны. Но, может быть, это к лучшему? Мы теперь дружны, как никогда, начинаем и заканчиваем день сообща, и не знаю, как все, но я чувствую себя прекрасно, сплю крепко, настроение все время хорошее. Мы все очень хотим нравиться друг другу, быть красивыми не, только внешне, разумеется.
Конечно, очень хочется работать, заниматься своим делом. По-настоящему это возможно только на Земле. И Юра... Представляю, как увижу его, обниму – и сердце начинает торопливо бежать куда-то. В такие минуты мне жаль Валю – он не может представить, что это за чувство. Впрочем, спорт отнимает у него все. Странно: то, что обогащает нас, в то же время и обедняет, не оставляя места для другого.
Сегодня, как обычно, день начался с зарядки. Мы вскочили по сигналу и, едва успев протереть глаза, собрались в зале. Было забавно: по утрам мы все выглядим растрепанными и немного очумелыми. И все равно это чудесно: на Земле и планетах люди лучше всего чувствуют себя в обществе, а не поодиночке, и мы тут должны придерживаться того же.








