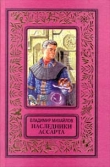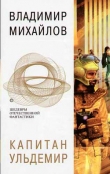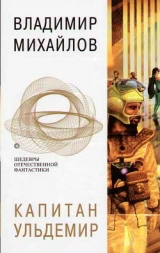
Текст книги "Тогда придите, и рассудим (Капитан Ульдемир - 2)"
Автор книги: Владимир Михайлов
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
– Своя логика в этом есть. Но как доказать?
– Методом исключения. Если остальные возможности отпадут...
– Ладно, допустим. Но скажи, милый мар Форама: с этим ты и хочешь выступить перед начальством?
– Что ж тут такого? Нам поручили...
– Дай договорить. Ты подумал, какие выводы однозначно следуют из твоего предположения?
– Ну, до выводов я еще не добрался.
– За ними далеко ходить не надо. Вот первый: если все обстоит так, как ты предполагаешь, то работы по созданию нашего сверхтяжелого будут заранее обречены на провал. Так?
– Н-ну... Безусловно, пока картина не изменится...
– Стоп. Второе: можно ли утверждать, что эти твои изменения характеристик пространства влияют только на наш элемент, а на другие, более легкие, не влияют?
– Очень возможно, что придет и их черед. Откуда мне знать? Ведь механизм явления нам пока неизвестен!
– И ты рассчитываешь, что наши высшие уровни согласятся...
– У тебя, Цоцонго, есть скверная привычка язвить по поводу тех, кто стоит на более высоких уровнях, чем мы с тобой. Я был бы очень рад, если бы ты эту свою привычку оставил.
– Знаешь ли, Форама...
– Я настаиваю. В конце концов, лояльность ученого...
– Погоди, мар. Я хочу сказать вот что: если завтра, или даже сегодня после обеда, начнется война, я надену мундир, возьму то, что мне выдадут и, по старой памяти, пойду грузиться на десантный корабль. Не пойду побегу! Понятно?
– Молодец.
– И если даже в результате от меня останется лишь маленькое облачко где-нибудь на подступах к вражеской планете, я все равно до последнего мгновения буду считать, что поступил единственно правильным образом.
– И я тоже.
– Но – слушай и запомни: это не помешает мне, опять-таки до последнего момента, называть дураком того, в чьей глупости я абсолютно уверен. Ты знаешь, что я много лет провел на стратегической службе, и не где-нибудь, а в космическом десанте, где безусловность повиновения и точного исполнения – даже не закон, а религия, культ. Но и там мы, не стесняясь своих малых звездочек, характеризовали своих старших так, как они того заслуживали.
– Как же так?..
– Потому что это разные вещи. Есть Планета, это – принцип. Это наша Планета, она – для нас. И за нее я буду драться с кем угодно, драться жестоко. Но не за тех, кто – беда Планеты, а не ее достоинство. На каких бы уровнях они ни стояли.
– И все-таки воздержись. Любая двойственность вредна.
– Ладно, мое мнение ты услышал. Не буду тебя нервировать, раз ты у нас такой нежный.
– Я ведь тоже служил, Цоцонго.
– Да, состоял при таком же, как тут, компьютере, только что носил мундир. Но вернемся-ка лучше к делу, продолжим рассуждения. Если твои предположения справедливы, то от неприятностей не гарантированы и наше оружие, наши энергоцентрали, залежи ископаемых наконец... Дальше: где проходит граница, за которой эти новые свойства пространства перестанут действовать? Что уцелеет? Титан? Железо? Алюминий? А золото, серебро, платина? Промышленность, экономика?
– Это ужасно, Цоцонго.
– И, главное, защиты не будет: от законов природы не укроешься ни в какое убежище.
– Но что я могу сделать! – сказал Форама в отчаянии. – Я и на самом деле не вижу иного объяснения! Нельзя строить гипотезы по принципу "нравится – не нравится"! Это же наука!
– Наука – пока этим занимаешься ты. Ну я, допустим. Наши коллеги исследователи. Но вот представь: ты доложил свои выводы тем, кто ожидает результатов. Поставь себя на их место. Естественно, они тоже ужаснутся. И в первую очередь потребуют чего? Чтобы их успокоили. Утешили. Указали выход из положения. Или хотя бы направление, в котором этот выход искать. Пойми: бремя руководства заключается в том, что все, что происходит в сфере его влияния, хорошее и плохое, приписывается ему, даже если на самом деле от него нимало не зависит. И поскольку никто не отказывается, когда им приписывается хорошее, то трудно возражать, и когда приписывают плохое: как ни доказывай, мнение массы все равно останется прежним.
– Ну, пусть так...
– Как же, по-твоему, должно почувствовать себя руководство, которому ты заявляешь, что при нем может наступить всего-навсего конец света? И к тому же не можешь подсказать, как его предотвратить. И как оно, по-твоему, должно поступить?
– Как же?
– Самое малое – просто-напросто с тобой не согласиться. Поверят они сами или нет – дело другое, но вслух они не согласятся. Отвергнут. Скажут, что ты спятил. Мы оба – если я стану тебя поддерживать. Будут рассуждать по такой схеме: если и предстоит конец света, пусть раньше времени никто ничего не знает. Чтобы не было паники. Ужаса. Смуты. Всего прочего. И тут есть Своя логика.
– Но на результат это не повлияет!
– Естественно, Форама.
– Постой. Но почему мы вдруг начали думать в этой плоскости? Ведь и на самом деле может найтись какой-то выход! С какой стати мы примиряемся с мыслью о невозможности спасения? Давай думать, Цоцонго, давай думать, пока еще есть время! Во-первых, мы не знаем, с какой скоростью будут происходить эти изменения. Так что до железа, быть может, дойдет еще очень не скоро; не исключено, что и вообще не дойдет. К счастью, не все тут надо решать сразу. В первую очередь – тяжелые, Цоцонго, в них опасность. О сверхтяжелых я не говорю, их – ничтожные количества... Тяжелые элементы. В рудах – не так страшно: там они в очень рассеянном виде. Просто эвакуировать людей подальше. Конечно, будет великое множество микровзрывов, немалая в сумме энергия уйдет в пространство, возникнут, быть может, нарушения климата, но с климатом можно еще побороться... Оружие? Срочно выбрасывать в пространство, и подальше. Нацелить хотя бы на солнце, что ли...
– А энергоцентрали?
– Стопорить. Вынимать горючее. В ракеты. И – туда же.
– Планета без энергии?
– Вовсе нет. Речь идет только о тех станциях, что работают на тяжелых элементах. Половина, в крайнем случае. И может быть, Цоцонго, это и к лучшему. Будет меньше дерьма, меньше роскоши, реклам, оружия, отравы в атмосфере...
– Конец цивилизации.
– Но не жизни. Живые, могут искать выход. У мертвых выхода больше нет.
– И этим ты хочешь успокоить начальство?
– Что же делать, если другого пути не найдется?
– Предложишь им остаться без оружия?
– Цоцонго, обожди. Если я прав, то и у Врагов не лучше...
– Не лучше, да. Но ведь они не явятся, чтобы доложить об этом. Если даже знают. Но есть вероятность, что мы, благодаря нашему сверхтяжелому, столкнулись с этим эффектом первыми. А те спохватятся, только когда в их лабораториях начнут фукать ядра полегче нашего. Но и тогда они будут держать все в строжайшей тайне, как и мы. Будут надеяться, что, может быть, как раз мы ничего не знаем, что у нас начнется паника – и тогда бери нас голыми руками. Только руки нечем будет довезти: флота больше не будет, придется восстанавливать доисторические конструкции на химическом топливе. Итак, что будет происходить на той планете, мы узнаем далеко не сразу. А чтобы и они не узнали, что происходит у нас, даже те меры, которые решатся принять, будут строго засекречены. Демонтаж централей будут объяснять ремонтом, а кое-где – уступкой мнению окружающего населения, а что касается оружия, то за него будут держаться до последней возможности.
– Последней, предпоследней... Цоцонго, надо немедленно установить наблюдение во всех институтах, где есть сверхтяжелые. Обеспечив безопасность, конечно. Эвакуировать людей... Если мы правы, то элементы будут разрушаться в строгой последовательности, от больших номеров к меньшим. И по скорости этого процесса мы сможем составить представление о его характере – равномерен он, ускоряется или замедляется, и о том, каким временем мы вообще располагаем. Я думаю, это первое, что должна сделать администрация. И надо доказать им, что наибольшая опасность – именно в оружии, и его надо выкинуть поскорее.
– Попробуем... Только, видишь ли, Форама, оружие ведь не обязательно запускать к солнцу.
– Ты хочешь сказать...
– На Врага. Чтобы грохнуло не зря: глядишь, и уложат двух зайцев сразу. Но ведь это и тем наверняка придет в голову...
– Цоцонго, знаешь что? Я только что понял: ситуация настолько неопределенная, что предпринять что-либо можно только с ведома и согласия. Врагов.
– Эй, Форама! Чем это пахнет?
– Но есть ведь у нас договоры об оружии! Почему не заключить еще один? Тут дело поважнее.
– Дело, действительно, важное. И ты предлагаешь ни более, ни менее, как раскрыть врагу самый, может быть, большой секрет, каким мы обладаем в текущем столетии!
– Но ведь не сами же мы! Мы предложим...
– И сделаем большую ошибку: вторгнемся в чужую область деятельности. Из ученых станем делаться политиками. А это ни к чему. Этого никто не любит. Тебе нравится, когда политики начинают устанавливать научные законы? Так же и им. Да и мы, действительно, не имеем нужной подготовки и не можем себе представить всех сложностей, связанных с этими делами.
– И все же я...
– Советую тебе мысленно проститься со своей красоткой, Форама: другой возможности у тебя не будет.
– Что ты говоришь, Цоцонго!
– Простые вещи. Достаточно уже и того, что мы, по стечению обстоятельств, стали обладателями настолько секретной информации, какая нам по уровню вовсе не полагается.
– Мы же сами сделали открытие!
– Открыть – еще не смертельно. Но заодно мы получили возможность заглянуть в будущее, увидеть, как будут развиваться события в планетарном масштабе и даже в межпланетном. Такого нам никто не позволял.
– Но послушай...
– Нет, выговаривать тебе за это не станут. Но "мало ли что может потом приключиться. Случайно.
– Говори, сколько хочешь, – я не поверю.
– Я лишь советую: доложи о физической стороне вопроса. И тебя внимательно выслушают. Но даже там, где выводы лежат на поверхности и напрашиваются сами собой, не делай их. Предоставь другим. Сам же старайся показать, что ты понимаешь ровно столько, сколько тебе полагается. Ни на волос больше.
Форама помолчал.
– Ну, а если они этих выводов сами не увидят? И надо будет, чтобы кто-нибудь подсказал? Тоже молчать?
Цоцонго ответил не сразу:
– Можешь меня презирать, однако, с точки зрения здравого смысла, самым лучшим было бы – не говорить ничего вообще. Не нашли, не разобрались – и дело с концом. К сожалению, мы люди честные и не сможем промолчать. А то бы благодать: в конце концов все свалили бы на вражеских лазутчиков, мало ли на них валили в разные времена... Но мы скажем, и уже тем самым навредим себе предостаточно. А что касается твоего вопроса... Знаешь, мне как-то неохота, чтобы мою кабинку, когда я в очередной раз поеду на работу или домой, на перекрестке случайно перетолкнули бы не в соседний ряд, а скинули с третьего яруса эстакады на мостовую. Или какие-нибудь отверженные с лучеметами ворвались ночью в мое жилище.
– Неужели общество не выскажет своего мнения?
– Репортеров там не будет, могу гарантировать.
– Цоцонго, – сказал Форама вполголоса, но решительно. – Они ведь могут просчитаться. Без нас наделают глупостей. А Планета – это ведь прежде всего люди. Но я тебе не верю, Цоцонго. Они не такие. Они государственный разум. И все поймут, и все сделают, как надо.
Цоцонго зевнул, потянулся.
– Ну и наговорили мы... Давно уже я столько не трепался. Знаешь, мар, меня все это не особенно и волнует. Я подохну без особого сожаления, потому что буду хоть знать причину, один из немногих. И девушки, с которой мне было бы так жалко расстаться, у меня нет. Но почему-то я чувствую, что обязан помочь тебе. Вот почему я предостерегаю.
– И все же я скажу им, Цоцонго.
– Скажешь, скажешь. Только, пожалуйста, хоть не все залпом. Посмотрим, как будут слушать, как станут развиваться события. Нужно будет – скажешь, а там хоть трава не расти. Вот если бы ты мог предложить принцип аппарата для нейтрализации этого явления, для локальной нейтрализации, чтобы мы уцелели, а те – нет, вот тогда тебя любили бы, кормили и гладили по шерстке. Знаешь, чем черт не шутит, – ты заяви, что намерен работать над этой идеей. Будет полезно для здоровья. А обо всем остальном они забудут через пять минут, потому что у них возникнет множество проблем, о которых мы с тобой и представления не имеем. Серые мы люди, Форама, знаем только свои ядра и частицы, от и до, не более. Что поделаешь... Знаешь, у меня что-то аппетит разыгрался. Есть-то нам дадут?
Едва слышно щелкнул замок, дверь гостиной отворилась. На пороге стоял сопровождающий из шестерки, из-за его плеча выглядывал тот самый ключник, что принимал их внизу.
– Оба, с вещами, – сказал ключник, дыша в сторону.
– Вот беда – вещей нет, – сказал Цоцонго.
– Положено с вещами, – ответил ключник и еще пошевелил губами, без звука. – Ладно, валяйте так. У вас все не как у людей... Гуляйте здоровы, еще увидимся.
– Думаешь? – спросил Цоцонго весело.
Ключник неожиданно усмехнулся как-то совсем иначе, открывшись в этой улыбке на миг, сделавшись проницаемым и беззащитным.
– Есть здесь у нас нечто, – совсем другим тоном сказал он, словно равный заговорил с равным, но опытный – с неофитом. – Нечто, от чего тебе уже не избавиться, когда вдохнешь его; а вы уже вдохнули. И оно тянет, как многоэтажная высота подмывает броситься вниз, навстречу тому, что и так неизбежно... – Он брякнул ключами. – И однажды поймешь, что лучше прийти сюда самому, чем ждать. Здесь – мир определенности и покоя, гавань, куда выносит потерпевших крушение... – Он на миг закрыл глаза, а открыв, устремил их на сопровождающего. – Ладно, катитесь, падлы, – снова вошел он в защитный свой образ, – языком тут стучать с вами – без толку...
– Слишком мало времени, – проговорил Фермер. – А твои люди почему-то медлят.
– Они мои, пока я не отпускаю их от себя, – откликнулся Мастер. – Я ведь не подменяю своими людьми тех, под именем которых они выступают. Там возникает своего рода симбиоз. И моя информация, кажется им, не приходит извне, а возникает в них самих. А они привыкли не очень доверять себе. Что же, сомнение – прекрасная черта...
– Это один из точных признаков, по каким узнаешь заторможенную, скованную в своем развитии цивилизацию: предположения и догадки о существовании иных, высших культур и попытки добиться контакта с ними технологическими средствами, – в словах Фермера звучало не пренебрежение, но сожаление. – А ведь контакт, как они это называют, так прост!
– Неизбежная примитивность мышления, – откликнулся Мастер. – Для того, чтобы уверовать в контакт, людям подобных цивилизаций необходимо увидеть снижающийся корабль сверхнебывалой конструкции. Скрытая форма идолопоклонства, не что иное. Им нужен голос с неба, чтобы понять, что это – откровение. Их логика не позволяет им понять, что для любой высшей культуры самый простой и употребимый способ передать свои знания низшей вложить их в уста одного из них.
– Мне трудно признать такую категорию, как безнадежность, – сказал Фермер. – Но когда думаю о них, порой опускаются руки и хочется предоставить все дела их течению.
– Нет, – не согласился мастер. – Когда садовник складывает руки, в рост идут сорняки. А потом приходится их выжигать.
– Потом они сжигают сами себя, освобождая место, – поправил Фермер. Но это немногим приятней.
– Ты хочешь сказать, что не в состоянии помешать им?
– Я – Фермер. Могу засеять поле, но не в состоянии помогать росту каждого стебелька в отдельности. Даже каждого ствола. И уж подавно не могу сделать так, чтобы из семечка яблони вырос дуб. Даже не дуб, а хотя бы яблоня другого сорта. Что могу, я делаю. Хотя я посылаю только мысли, а ты – своих людей. И при этом не одних только эмиссаров.
– Посылаю. И мне жаль их, Фермер. Им приходится нелегко. Вы же знаете задачу эмиссара: его объект – люди, а не события. И пусть он в силах влиять на человека, порой выступать от его имени, поддерживать его до определенной степени, чтобы, когда эмиссар уйдет, этот человек и сам был в состоянии продолжить начатое дело, – но этим его возможности, по сути, и ограничиваются. Я могу оказать непосредственную помощь лишь в критических ситуациях: вмешательство со стороны бросается в глаза и подрывает доверие. Во всех остальных случаях мои люди должны обходиться своими силами. И очень хорошо, когда они могут черпать поддержку друг в друге – чаще всего даже не понимая, что оба они из одной команды и что встреча их – не первая. Правда, опытный эмиссар чувствует это почти сразу. Но опытных там у меня, как ты знаешь, – всего один. И ему придется нести тяжесть не только его собственной задачи, которая достаточно сложна, но и как-то поддержать другого, который, по обстоятельствам, должен будет сыграть там главную роль.
– Ты уверен в успехе, Мастер?
– Уверен? Не знаю. Я верю – это, пожалуй, точное слово.
С Форамой из дому ушли шестеро, но еще двое остались. Мин Алика лежала, свернувшись клубком под одеялом, по временам крупно вздрагивая; мыслей как бы не было, но каждый раз, когда кто-то из оставшихся двигался, на нее нападал страх: их было двое, здоровенные молодчики, она – одна, защищенная лишь тонким одеялом, а слышать о таких ситуациях ей в разные времена приходилось разное. Боялась она так, что это, наверное, было заметно; во всяком случае один из оставшихся, глянув на нее, вдруг усмехнулся и сделал пальцами козу, как маленькому ребенку, и Мин Алика послушно и поспешно улыбнулась, хотя не до смеха ей было. Однако пока что они вели себя чинно, ничего себе не позволяли, а вскоре и совсем затихли, словно задремали на табуретках по обе стороны двери: привыкли, видимо, ждать, терпения у них было намного больше нормального. Понемногу Мика осмелела: не расставаясь с одеялом, стала по очереди дотягиваться до своих вещичек и под одеялом же одеваться. Было это не очень удобно, но куда безопасней: самое страшное когда тебя видят и ты становишься вдруг для них конкретной и досягаемой. Она ворочалась под одеялом, но они только мельком покосились на нее: ощущали, видно, что никакого подвоха с ее стороны не будет, а может быть, и беглых взглядов им было достаточно, чтобы понять, что она там под одеялом делает и чего не делает.
Так Мика вползла в домашние брюки, – в них она чувствовала себя совсем уверенно, – и тогда уже встала; комнатные босоножки аккуратно стояли подле, как она сама их вчера поставила. Тогда только один из сидевших встал и шагнул к ней; Мика сжалась, готовая кричать и отбиваться, но тот в двух шагах выжидательно остановился. Она поняла и, не убирая постели, ушла в душевую. Противно было, что чужой начнет сейчас копаться в постели, которая теперь была уже не просто местом, где спят, но – соучастником и свидетелем, молчаливым другом, с которым можно без слов вспоминать и переживать бывшее; да, противно – но Мин Алика понимала, что таким было дело этих людей, которое и им самим, может быть, не бог весть как нравилось, но они его делали, у каждого из них были на то, наверное, свои причины, и мешать им так или иначе было бы бесполезно. Когда она, намеренно не спешившая, вернулась в комнату, вещий как раз заканчивал водить над постелью маленькой черной коробочкой, едва слышно жужжавшей; вот он выключил приборчик, сунул в карман, вернулся к своей табуретке и снова замер, как ненастоящий. Алика включила плитку, поставила воду для кофе, стала собирать небогатый завтрак. Минутку поколебалась: предложить им или не стоит? Тут возможны были две линии поведения: поза человека обиженного, никакой вины за собой не чувствовавшего и потому относящегося ко вторгнувшимся с подчеркнутой холодностью: вы, мол, мне не нравитесь и скрывать этого не хочу, потому что за одно лишь это вы мне ничего не сделаете, а что подумаете – мне безразлично; вторая линия предусматривала поведение человека своего, все понимающего и даже сочувствующего, и опять-таки совершенно безгрешного: что поделать, ребята, я понимаю, что вам и самим не бог весть как нравится сидеть здесь, бывает работа и повеселее, но что делать, служба такая, я тут ни в чем не виновата и ничем помочь не могу, терпите, я вам сочувствую... В первом случае приглашать их к столу не надо было, а во втором – надо; Мин Алика решила не приглашать, тем более что, с их точки зрения, ей и следовало быть злой: выдернули мужика из постели, не дали еще побалдеть, – да и какие такие ресурсы у девятого уровня, чтобы так вдруг, не готовясь специально, угощать кого попало? Им не понять было, конечно, что хотя она ощущала и обиду и боль, однако после всего, совершившегося ночью, такое обилие добра накопила" в себе, что и на них хватило бы. И все же она их не пригласила, продолжая держаться с некоторым опасением, потому что если начнешь показывать себя своим человеком и сочувствовать, то кто может сказать, какого сочувствия им еще захочется: "жалеть, так уж до конца; а если бы она сама не поняла или не решилась, то им могла прийти и такая мысль в голову, что надо помочь доброй девушке понять, надо растолковать на пальцах... Мин Алика чуть не улыбнулась, на краткий миг ощутив себя тем, кем была на самом деле, и представив – воображение у нее было живое, – каким боком обернулась бы для них подобная попытка; но улыбаться сейчас было совершенно ни к чему, и внешне она осталась такой же.
Щелкнул тостер, одновременно шапкой поднялся кофе – черный, густой, совсем как настоящий – для тех, кто настоящего никогда не пробовал. Те двое, наверное, пили – они лишь повели носом и уголки рта у них показали не то чтобы презрение, но четко выразили мысль: каждому – свое. Мин Алике пришлось самой задвинуть ложе в стену, – Опекун, видимо, был гостями отключен на время их пребывания здесь: лишний контроль ни к чему, да и не баре, приберетесь и сами. Перед тем как сесть к столу, она включила приемничек и даже не глядя почувствовала, как напряглись те двое. Но коробочка была прочно настроена на местную программу, шла музыка пополам с торговой рекламой, и все это каждые пять минут прерывалось отсчетом времени, чтобы никто не прозевал свою минуту выхода, свою кабину. Что-то, сегодня было, видимо, не в порядке в атмосфере – или с городскими помехами, и музыка порой перемежалась тресками и шорохами; но так бывало нередко, и двое, расслабившись, вернулись в привычный режим ожидания. Позавтракав, Алика сунула посуду в мойку, а сама стала быстро наводить марафет для выхода. Это была как бы проба: ей могли, усмехнувшись, сказать, не трудись, мол, зря, выпускать тебя не приказано, если мажешься, чтобы нам нравиться, – тогда, конечно, пожалуйста... Те ничего не сказали, не покосились даже. Щелкнув, распахнулась дверца кабинки; створки еще только начали отодвигаться, а оба беззвучно оказались уже возле нее с мускулами, натянутыми, как струны, казалось, чуть звенящими даже. Но кабинка была пуста, она пришла за Аликой. Женщина натянула плащик; тот, с черной коробочкой, вышел из кабины. Алика взяла сумочку, постояла секунду, нерешительно помахивая ею; но на нее по-прежнему не смотрели, видимо, в дамском багаже успели разобраться заранее. Тогда она вошла в кабинку; пока створки сходились, успела заметить, как губы второго сидящего шевельнулись – в углу рта у него была приклеена таблетка микрофона. Значит, незримо надзирать все-таки будут.
Теперь времени у нее было – целое, богатство: полных две минуты, пока кабина не минует внутреннюю сеть и не окажется на магистрали. Сработала инерция поведения, все продолжилось, как и должно было: мгновенное расслабление, приступ настоящего страха, с дрожью рук, с нахлынувшим отчаянием... Внутренне Мин Алика улыбнулась этой точности игры, в которой больше не было никакой нужды. Теперь надо было обезопаситься. Она закрыла глаза, мысленно прислушиваясь ко всему, что, явно или неявно, звучало в кабинке, потом безошибочно подняла руку к воротничку, под ним нащупала тоненькую булавку, вколотую ими, наверное, пока она еще лежала. Булавку Мин Алика воткнула в сиденье снизу. Теперь пусть сигналит, пока не иссякнет ресурс.
Две минуты спустя кабинка выщелкнулась на точно подоспевшее пустое место на линии и поехала вместе со множеством других, меняя, когда надо, ряды и когда надо – направления. Чуть поодаль и намного выше, над всеми ярусами эстакад, не опережая и не отставая, как собачонка на привязи, скользила маленькая, на двоих, лодка, и внутри ее, на небольшом экране, яркая точка держалась в центре, а следовательно – все было в порядке.
Казалось бы, и не так долго пробыли они в отсутствии, и все же возникло у Форамы такое ощущение, когда они снова очутились на воле, в городе, словно он из какого-то абстрактного пространства, чисто математического, снова родился на свет и, ошеломленный всеми его шумами, красками и запахами, с кружащейся головой, пытается разобраться в открывшемся ему великолепном многообразии, подсознательно стараясь при этом выделить из множества линий, красок и ароматов – очертания, цвета и запах одного человека, одной женщины. Форама даже замедлил было шаг, но его вежливо поторопили; ясно было к тому же, что Мики здесь нет и не могло быть: вряд ли она успела узнать что-то определенное о его судьбе; да не только она он и сам ничего не знал, строил только предположения, которые не оправдывались.
К таким предположениям относилось, например, что их с маром Цоцонго должны были доставить вроде бы туда, откуда увезли: в то, что осталось от вчера еще могущественного института, цитадели физики, на который даже стратеги поглядывали с уважением, – а они, как известно, не любят уважать что бы то ни было, кроме самих себя. В институт, пусть даже искореженный; даже камни его были, казалось, до такой степени проникнуты физическими мыслями, что думать там о чем-то другом бывало просто невозможно, зато о работе мыслилось быстро и хорошо; а значит, где же, как не там, следовало продолжить разговор на начатую утром научную тему? Однако лодка, в которую их вежливо, но решительно усадили (они и не собирались, впрочем, возражать) взяла курс в другом направлении. Фораме не часто приходилось разглядывать город с высоты, но Цоцонго был человеком куда более искушенным и уже через несколько минут полета, оторвавшись на миг от окошка, сообщил Фораме, что направляются они, насколько он мог судить, в самую область слабых взаимодействий. На языке физики это означало, что летят они в атомное ядро, но именно так на их полушутливом жаргоне давно уже назывался тот район необъятного города, где помещалось все то, что в обиходе общо и неопределенно называли одним словом – "правительство", или порой, для разнообразия, – "администрация". Услыхав это, Форама встрепенулся. Посетить резиденцию правительства было, пожалуй, лишь немногим менее любопытно, чем и на самом деле оказаться в середине подлинного атомного ядра. И там, и тут предполагалось, в общем, что происходящие процессы известны, поскольку можно непосредственно наблюдать их результаты; и в какой-то степени даже предугадывать их, – однако на втором плане всегда присутствовала мысль, что знание это – рабочее, временное, сегодняшнее, принятое потому, что оно не противоречило явлениям – и тем не менее могло оказаться совершенно неверным, если говорить о механизме осуществления этих явлений. Точно так же (думал Форама) видя человека, минуту назад зашедшего в табачную лавку и теперь вышедшего оттуда с пачкой сигарет в руке, мы с уверенностью предполагаем, что он купил ее там – хотя на самом деле он мог, конечно, купить ее, но мог и украсть, и отнять или просто вынуть из собственного кармана, вспомнив, что пять минут назад уже купил сигареты на другом углу и сюда зашел лишь по инерции, задумавшись о чем-то. Однако наше объяснение нас вполне устраивает, поскольку сам по себе процесс, в результате которого в руке прохожего оказались сигареты, интересует нас куда меньше конечного результата – потому, может быть, что мы хотим попросить у него сигарету или, напротив, заговорить с ним о том, что курение вредно и аморально. Это в определенной степени напоминало то, что Форама знал о процессах, происходящих в атомном ядре; что же касается правительства, то о нем физик имел еще более слабое представление.
Не он один, впрочем. И дело тут было не в недостатке любознательности у граждан или в отсутствии информации. Было и то и другое, но – до определенного предела. Правительственные учреждения все были известны, в них можно было, если угодно, зайти, походить по этажам и коридорам, поглазеть на людей, осуществляющих руководство: клерков, начиная с низшей, двенадцатой степени, и до шестой, даже до пятой; людей четвертого уровня и выше было на свете вообще не так уж много, а в каждом департаменте единицы, и увидеть их можно было только при определенном везении или настойчивости, подкрепленной конкретным и достаточно убедительным поводом. Возглавлялись эти департаменты обычно советниками третьей и второй ступени, но вообще-то второй уровень занимали уже Гласные, и видеть их приходилось разве что на экранах. Что же касается первого уровня, наивысшего, то даже из Гласных его имели лишь немногие, и то уже в почтенном возрасте, когда большая часть жизни была за плечами. Но пусть на экране, пусть раз-другой в году, все же видеть можно было и их; и, однако, не было безоговорочной уверенности в том, что именно они, Гласные, и являлись правительством. Тут начиналась область неопределенностей и предположений. Как и когда они впервые возникли – сказать трудно, но, во всяком случае, достаточно давно, когда Форама еще и на свет не рождался. Слухи эти официально никогда не опровергались, потому что официально их и не существовало, законным правительством были Гласные. На чем основывались слухи, сказать было трудно, сейчас они были уже традицией, в момент же из возникновения – существовала, надо полагать, какая-то причина, информация, какой-то огонек, к дыму от которого принюхивались и до сих пор.
Заключались слухи в том, что настоящим, подлинным, реальным правительством были вовсе не Гласные. Они, по этой теории, представляли собой лишь промежуточное звено – своего рода преобразователи, наподобие радиоприемников, преобразующих неуловимые для чувств электромагнитные колебания в уловимые звуки или изображения. За смысл и содержание передач аппарат, однако же, не отвечает... Отсюда, кстати, выводили и название Гласные, поскольку они, следовательно, были голосами, артикуляционным аппаратом, которым управлял кто-то другой.
Кто же? Слухи на этот счет тоже были, как казалось, вполне определенными, однако по существу крайне неконкретными. Говорили, что те, кто представлял собой подлинное правительство, не были группой людей, уединившихся в каких-то неприступных убежищах, наподобие тех, в которых располагались планетарные электронные устройства – Политик, Полководец и прочие, – уединившихся, чтобы, отрешившись от всего мирского, мыслить, провидеть и решать; напротив, по традиции считалось (хотя официально и не признавалось), что люди эти жили в самой гуще жизни, среди всех прочих людей, занимались какими-то повседневными делами, как и все смертные, и вовсе не на командных постах, а иногда и в самом низу пирамиды уровней: так, уверяли, что один из подлинных правителей служил швейцаром в самом фешенебельном ресторане города – "Аро Си Гона"; однако в этом суперресторане было двенадцать подъездов, на каждый – по три смены швейцаров, по два человека в смене, и кто именно из семидесяти двух увитых шнурами и осыпанных золотом персон являлся живым воплощением могущества, сказать никто не мог; сами же швейцары, когда с ними заговаривали на эту тему, – кто хохотал, кто надувался, в зависимости от характера и темперамента. Смысл такой анонимности (согласно той же системе слухов) заключался в том, что, находясь всегда кто в самом низу, кто – где-то в середине, правители были в курсе всего, что происходило на Планете, не получали информацию из чужих рук, а собирали ее сами и поэтому имели возможность реагировать на все должным образом и своевременно. Известно, что причиной заката многих могучих некогда правительств было именно отсутствие объективной информации или же нежелание к ней прислушаться. Если верить слухам, правительству Планеты такое не грозило. Как эти неизвестные попали в правительство или, вернее, стали им, за счет каких людей пополняли свои ряды, – объяснялось следующим образом: то ли сами эти люди, но скорее какие-то их предшественники, может быть, даже прямые предки некогда стали таким вот анонимным руководством вследствие того, что в их руках сосредоточилась – тут мнения делились: кто говорил, что экономика, и следовательно – деньги, дающие реальную власть; кто – что это была военная сила, тоже позволяющая властвовать реально; третьи полагали, что в руках первых властителей была секретная информация обо всем, в первую очередь о людях, в том числе и о тех, кто составлял тогдашнее официальное правительство. При помощи одного, другого, третьего или же всего вместе неизвестные властители подчинили себе то официальное правительство, обратив его лишь в провозвестников своей воли, своего рода глашатаев; название "Гласные" пришло не сразу и официально должно было означать, что правительство все делает и обсуждает вслух, на глазах у общества, у всей Планеты, и что секретов у него нет. Так оно и шло годами, десятилетиями, а может, и столетиями.