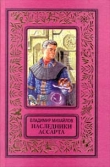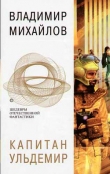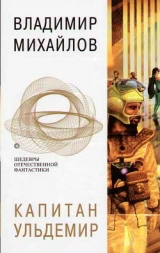
Текст книги "Тогда придите, и рассудим (Капитан Ульдемир - 2)"
Автор книги: Владимир Михайлов
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
– Минуточку, мар. С какого именно момента? Это важно.
– Сегодня – пятый день с тех пор, как все началось. Скорость распада начала увеличиваться как раз в последние дни.
– Скачками? Постепенно, равномерно? Подчиняясь какой-то закономерности? Можно ли отыскать функциональную зависимость?..
– Пока не удалось. Не так ли, мар Форама: четкой закономерности там не было или, во всяком случае, она смазывалась другим явлением.
– В общем, – вступил Форама, – тенденция ускорения была несомненной, но ускорение не выглядело, как функция какой-то переменной. Или, вернее, переменная сама возрастала без системы, не подчиняясь какой-либо закономерности. А смазывалось явление тем, что величина распада еще и варьировала в течение суток: становилась максимальной ночью и ослабевала к середине дня, несколько позже полудня. Причины этого пока совершенно неясны – для нас, во всяком случае. Видимо, нужно собрать дополнительные материалы.
– В чем вы нуждаетесь, мар Форама?
– Мы должны попытаться установить: не началось ли пять дней назад нечто, какой-то процесс, который так или иначе можно было бы связать с поведением элемента. Мы не имеем представления о характере этого процесса, поэтому надо принимать во внимание буквально все. И то, что происходило в других лабораториях института, и в окрестном районе, и – кто знает – даже у антиподов. Очень важно, что этот гипотетический процесс должен изменяться таким же образом, нарастая и ослабевая от полуночи к полудню.
– Громадный объем работы, – сказал директор. – Но, я уверен, нам помогут. Очень много заинтересованных.
Все невольно покосились туда, где заинтересованные сидели за другим железным верстаком и тоже, видимо, составляли свою диспозицию.
– Но уже сейчас, – сказал Форама, – напрашиваются некоторые предположения.
– Мы внимательно слушаем, мар Форама.
– Совершенно не исключено, что некое воздействие, вызывающее повышение скорости распада, связано с ориентацией планеты в пространстве. Если принять такое предположение, то придется учесть и возможность внешнего воздействия, иными словами, что источник возмущений может находиться вне планеты.
– Интересно. А вы, мар Цоцонго, тоже так считаете?
– Не исключено. Хотя это и не обязательно. Например, воздействие радиоволн определенных частот. Известно, что проходимость коротких волн меняется от времени суток, и...
– Однако, мар Цоцонго, до сих пор считалось общепризнанным, что никакие воздействия такого рода не могут влиять на скорость распада неустойчивых элементов...
– Тут речь может идти о возмущении среды. Не забудьте: в нашем случае среда – пространство, реорганизованное комбинацией полей...
– Об этом никто не может судить лучше вас.
– Раз уж приходится заниматься тем, что, по существующим воззрениям, вообще не должно происходить, то почему бы не допустить и такого предположения? Механизм влияния, конечно, нам пока непонятен. Но можно подумать, что вам ясен механизм внепланетного влияния!
– Нет, разумеется. Но тут остается возможность поисков. Скажем, какое-то жесткое излучение...
– Кто-нибудь его да зарегистрировал бы, – не согласился Цоцонго. – Ибо тут нужно необычайно мощное излучение, способное разбивать ядра. Это раз. А во-вторых, оно должно нарастать, иными словами – мы должны сближаться с его источником. Видимо, нужно запросить обсерватории.
Подошедший к их столу вещий уже минуту-другую прислушивался к этому обмену мнениями. Сейчас он, видимо, счел, что наступил подходящий момент для того, чтобы повернуть ученое собеседование в надлежащем направлении.
– Прекрасно, – сказал он. – А вы не подумали, мары, что вражеская планета – тоже внешний фактор? И что поток излучений, о которых вы говорили, мог исходить именно оттуда? Мы срочно запросим обсерватории: в какое время суток их планета стоит в нашем небе выше всего и каково сейчас взаимное движение планет. Но если моя, пусть и не совсем научная гипотеза подтвердится, то неизбежно возникает вопрос: каким же образом наши враги с такой точностью узнали, какая именно работа ведется в вашем именно институте? Мы будем крайне серьезно интересоваться этим. И виновных, самое малое, в разглашении тайны мы неизбежно найдем.
– И все же я предпочитаю думать, – упрямо проговорил Форама, – что мы столкнулись с каким-то явлением природы, которое пока не можем объяснить.
– Мар Форама, – помолчав, сказал змееносец, директор института. – До сих пор, по крайней мере, наука исходила из стремления объяснить мир на основании уже известных нам и многократно подтверждавшихся на опыте явлений. Лишь при полном отсутствии другого выхода мы решаемся строить гипотезы относительно новых, неизвестных нам процессов. Вы это прекрасно знаете. В данном случае, как мне кажется, нет ни малейшей надобности измышлять какие-то дополнительные силы природы, потому что все, видимо, может быть истолковано на базе известных нам законов, а также тех обстоятельств, о которых нам крайне своевременно напомнил го-мар. Старик, привстав, поклонился вещему. – Думаю, что именно в этом направлении мы и направим наши объединенные усилия.
– Но ведь, в конце концов, мир развивается! Происходит движение материи! И...
– Мар Форама! Мир развивается по своим неизменным законам, и допущение иной возможности ставит допустившего вне пределов науки. Ставит на уровень донаучных представлений. И я бы не хотел верить, что вы всерьез предполагаете...
Форама промолчал.
– Прекрасно, – бодро проговорил вещий. – Итак, будем и далее исходить из установленных законов физики – и психологии, и политики, и всего множества обстоятельств, которые постоянно влияют на нашу жизнь в самых разнообразных своих комбинациях. Да, мары, поведение не только ваших элементов, но и любого человека, его поступки, даже самые низкие, постыдные и отвратительные тоже обусловлены законами, и законы эти нам известны не хуже, чем вам – какой-нибудь закон тяготения. Это законы не природы, но общества; но общество обладает и иными законами, строгими и действующими неукоснительно, и направленными на полное искоренение таких поступков, о которых я только что упомянул. Сейчас мы продолжим работу; кроме астрономов, запросим и стратегических наблюдателей, и нашу славную внешнюю разведку... Однако поскольку опыт учит нас не пренебрегать даже самыми иллюзорными возможностями, я думаю, будет лучше, если вы, мар Форама и мар Цоцонго, продолжите поиски в том направлении, какое, видимо, вам ближе – неизвестных явлений. Однако, если помимо этого у вас возникнут какие-то предположения относительно каналов утечки информации, мы будем вам только благодарны.
– Хорошо, – сказал Форама, вставая. – Тогда я поеду.
– Вряд ли вам следует сейчас покидать нас, – сказал вещий. – Дома у вас сейчас некоторый, я бы сказал, беспорядок: мы были несколько растеряны в первый момент, не застав вас там. А у прекрасной Мин Алики в данный момент находятся наши люди: нам все же необходимо до конца выяснить то, чего сами вы, к сожалению, нам сказать не можете: что она в конце концов за человек. Потому что тут у нас возникли некоторые неясности... Нет, мар Форама, и вы, мар Цоцонго, – мы создадим вам все условия для напряженной работы и полного отдыха, не хуже тех, какие были здесь, в институте. И будем ждать результатов. Связаться с нами при нужде вы сможете мгновенно. А сейчас наши люди вас проводят...
Снова те шестеро материализовались из ничего, из каких-то завихрений воздуха, – и окружили, оставляя свободным лишь направление к выходу. Форама усмехнулся углом рта, расправил плечи, независимо заложил руки за спину, повернулся и зашагал. Цоцонго Буй шел за ним, оставшиеся у стола молчали и смотрели им вслед.
4
Что верно, то верно: отдохнуть им здесь никто не помешает. Если даже и захочет, не помешает: просто не доберется до них, не преодолеет это множество постов, решеток, автоматических и охраняемых, под напряжением и без; заблудится в лабиринте подземных двориков, где ни единого человека, но полно собак, здоровенных, с теленка, с холодно-презрительным взглядом, готовых без предупреждения, не подав голоса, развернуться пружиной, броситься, повалить, запустить зубы в теплое и пульсирующее... Двоих провели по всем этим переходам и дворикам, предупредив, что разговаривать здесь не разрешено, собаки не любят человеческой речи; миновали еще одни ворота, которые запер за ними дылда с серебряными ключиками на высоком стояче-отложном воротничке, с цветом лица неестественно бледным (такой бывает трава, растущая в подвалах, куда не проникает естественный свет). Заперев ворота, дылда пересчитал приведенных справа налево: "Один, два", потом слева направо – тоже "один, два". Счет сошелся, он удовлетворенно кивнул, подобие улыбки ужом скользнуло по белесым губам. "Яйцеголовые, падлы, – сказал он в пространство, не глядя ни на кого в особенности, допрыгались, зажрались, баб налапались, книжек начитались, стали планету продавать, теперь побрызгаете красной юшкой, ублюдки грязные, метисы чертовы, чтобы тихо было, еще наслушаетесь, как другие орут, пока не придет ваш черед. Туда вам и дорога!" Холодные мурашки засуетились на спине, Форама невольно передернул плечами. "Вместе, что ли? – спросил ключник. – Это что за мода такая пошла?" – И снова повернулся к двоим. "Зря не вызывать, за это – в рыло, и следа не останется, – предупредил он, все так же глядя поверх них. – Завтрак без вас сожрали, обед через четыре часа". Тот из шести, с тремя сердечками, что провел их по лабиринту, перебирая пальцами незримую нить, молча ухмылялся, наслаждаясь. "Падлы", снова проговорил ключник, тогда сопровождающий впервые подал голос: "Не брызгай, Блин, это не твои постояльцы. Ну-ка, проводи нас к лифту – нам наверх". Ключник засопел обиженно, стараясь понять. "Это что же, проговорил он затем, – спектакли тут разыгрывать мода пошла?" "Забыли тебя спросить, – откликнулся проводник, – приказано – выполняй". Форама облегченно вздохнул, когда они очутились в обычной кабинке лифта и поехали наверх. Сюда наверняка можно было попасть и более кратким и нормальным путем, но их специально провели через подвалы – чтобы до конца прониклись пониманием серьезности событий.
В конце концов они очутились в помещении, напоминавшем хороший гостиничный номер: две спальни, гостиная; в гостиной успели уже установить средней мощности вычислитель, информатор; телефон тоже был. Форама первым делом схватил трубку, но вместо автомата ответил человек: "Слушаю?" Форама после мгновенной паузы попросил: "Соедините с городом". "Связь только с начальствующим составом, – ответил телефонист. – С кем соединить?" "Не надо", – ответил Форама и положил трубку.
После этого они оба долго молчали, понемногу приходя в себя, нормальным образом выстраивая мысли: помогала привычная дисциплина рассуждении. Только сейчас они вдруг по-настоящему поняли, что произошло, до этого им все как-то некогда было сообразить: ведь что бы ни происходило с ними сейчас и что бы о них ни думали, в чем бы ни подозревали, но главным было то, что вся работа, по сути, пропала зря, в самом, казалось, счастливом конце уперевшись в непредвиденную, новую, мощную загадку. И – люди погибли, что еще хуже, хорошие, умные люди погибли безвозвратно. Но и этим беды не исчерпывались: планете ведь и на самом деле грозила опасность, они чувствовали ее интуитивно, да и не одни они чувствовали – однако корни опасности каждый пытался искать в привычном для него направлении: они – в своем, вещие – в своем. Что же на самом деле произошло, что могло произойти? Не только престиж требовал докопаться, но и совесть: не кто иной, как они заварили всю кашу с новым элементом, и совесть требовала, чтобы сами они и расхлебывали ее в первую очередь.
Самое время было всерьез задуматься над этим. Но мысли далеко не всегда идут по намеченной для них тропке; и Форама вдруг почувствовал, что как бы ни разлетелась вдребезги работа (а в ней еще недавно, сутки назад еще, видел он весь смысл жизни) и какие бы люди ни погибли, не это сейчас было для него главным. Иной образ возник перед ним, реально, ощутимо, словно Мин Алика вошла сейчас и остановилась посреди комнаты, печально глядя на него; не такая, какой была она в ту первую и последнюю ночь, раскрывшаяся вдруг женщина со всей ее великой женственностью и даром любви, какого она, может быть, и сама в себе не подозревала до самого последнего момента; не такой предстала она, но прежней – стесненной внутренне и от этого сдержанно-покорной, готовой услужить, но лишь потому, что традиция так велела, а не из потребности любви; аккуратно снимающей с себя и складывающей все, что на нее было надето, и поглядывающей при этом снизу вверх с выражением: я все правильно делаю, ничего такого, что было бы тебе неприятно? (Но ему было бы неприятно другое: если бы все делалось с показной, чужой лихостью, за которой часто кроется если не страх, то нежелание и подсознательная мысль: это не я вовсе и делаю и буду сейчас делать, но какая-то другая, та, что на время подменяет меня, а настоящая я стою в стороне, чистая...) И потом торопливо повиновавшейся ему, угадывая все заранее, а вернее, просто выучив наизусть: фантазия у него не работала, и даже мысли не возникало: как сделать, чтобы было лучше – ей; повиновавшейся, как человек в парикмахерском кресле спешит подчиниться каждому движению мастера, поднимая голову или опуская, поворачивая вправо или влево. Да, а о ней он думал в те минуты не больше – об ее удобствах, желаниях, надобностях, – чем обедающий о жареном цыпленке: не все ли ему равно, как начнут его грызть?.. И вот такой явилась она перед ним, проникнув в удобное, но все же запертое и вряд ли легкое для доступа посторонних помещение, проникнув вопреки уверенности подвальной травы с ключами на воротнике – в легкой белой блузочке, в домашней юбке, которая была когда-то служебной, а потом понизилась в ранге (никогда Мин Алика не старалась подать себя, произвести впечатление; что было в ней от природы, то и было, и ни на грамм искусства), стояла, как бы радостно удивленная, но в то же время и испуганная немного, неуверенная, как пришедший экзаменоваться студент, точно знающий, что он и половины не прочитал, но уповающий на то, что другие этого не заметят; Мика стояла, опустив руки, но не вдоль бедер, а слегка перед собой, словно готовая в следующий миг поднять их в защитном движении, бледная, испуганная, потерявшаяся маленькая великая женщина... Вдруг Фораме стукнуло в голову, что и на отношения с ним она пошла не потому, что он показался ей чем-то лучше других; а пошла она на это потому, что он, наверное, просто оказался тем, кто этого всерьез захотел, когда она была одна, одиночество же, как он только сейчас понял, было не ее формой бытия. Форама застонал даже, вспомнив, а вернее – только сейчас поняв, как бездарен был по отношению к ней, как удовлетворялся самим фактом их близости – физической, не более, тем, что лежало на поверхности, – и ему даже в голову не приходило заглянуть и проникнуть поглубже, увидеть то; что жило в ней в полусне и ждало: планета ждала своего открывателя, да что планета – целая вселенная ждала, еще ни в какие каталоги не внесенная вселенная... Вот почему так рванулась она ему навстречу, навстречу глазам, впервые увидевшим ее, сердцу, впервые зазвучавшему не как мотор, а как оркестр, рукам, охватившим ее не как материал ("Как рабочее тело", – подумал он, грубо насмехаясь над самим собой), но как что-то такое, что поднимают, чтобы поклоняться... Рванулась – потому что и сама возникла в тот миг из любовного небытия, словно любовь была до сих пор дешевой литографией на стене или базарным ковриком; но они шагнули – и поняли вдруг, что это не плоская картинка, что коврик – лишь занавес, а за ним – мир, в который вдруг открылся вход... Какие-то детали, все новые, всплывали в памяти только сейчас, подобно ныряльщику, поднимающемуся на поверхность, чтобы вдохнуть свежего воздуха, всю надобность которого только и понимаешь под водой; как он стоял в комнатке, где повернуться негде было, держа Мику на руках, словно младенца, и не было ни тяжело, ни неудобно, как если бы они для того только и были созданы, чтобы он носил ее, а она, обхватив тонкими руками его шею, руками, которые все время до того казались ему некрасивыми, слишком уж детскими или как от недоедания, – и прижавшись щекой, дышала куда-то под левое ухо, и было в этом спокойном и родном дыхании столько великого смысла, что рассказать его не хватило бы всех слов в языке... А потом – или наоборот – она лежала, а он стоял на коленях перед нею, стиснув руки, как для молитвы, и говорил что-то, но слова не удержались в памяти. А еще было: он лежал один, и створки двери вдруг распахнулись, ушли в сторону, и в его каюту вошла она...
"Да нет же", – сказал Форама сам себе. "Какая каюта, какие створки?.. Ладно, ладно, – сказал он сам себе. – Мастер, черти бы его взяли, сделал по-своему, заставил меня. Нет, не меня, Фораму. А я кто? Я и есть... Но насколько труднее было бы мне оказаться в этой каше, если бы не возникла она, даже сейчас, на расстоянии, держащая меня прямо, не позволяющая согнуться, да, прав был Мастер – с этим я вдвое, втрое сильнее. Только почему это Мин Алика, ну ничем не схожая с Астролидой, зачем же меня так разменивать?.. Какая Астролида, – подумал Форама, – я в жизни не слыхал такого имени, я не знал такой женщины, да и о каком мастере речь идет? Нет, Алика и только она стоит сейчас передо мной, вдвойне беззащитная оттого, что не может более оставаться равнодушной, оттого, что судьба только что сделала ее безмерно богатой – чтобы тут же другой рукой отобрать все дарованное, и тем сделать ее много беднее, чем раньше". А он, Форама, носитель счастья и несчастья, сидит сейчас в достаточно удобном помещении, где действительно можно было, наверное, и работать, и отдыхать, но откуда нельзя было не только выйти, но даже позвонить ей и сказать хоть два слова, приободрить, передать, что – любит, что – верит, что обязательно будут они вдвоем, пусть даже не только институт – пусть даже вся чертова планета летит вдребезги...
Он подумал так и испуганно удивился: неужели он помыслил такое о планете, о своей родной планете, на которой и для которой он жил, работал, искал и находил, синтезировал новые элементы; которой желал не меньше добра, чем самому себе? Ведь не было у него таких мыслей! Неоткуда было им взяться! Он прокричал это мысленно, и вовсе не потому, что как раз там, где он сейчас находился, было для подобных мыслей самое неподходящее место; пусть и Не вслух они высказаны, а все же – кто знает?.. Нет, он и на самом деле всю жизнь понимал: если не родная планета, то кто же? Враги? Но Врагов он ненавидел с детства, с ними было связано все черное, мрачное, жестокое, ужасное, нечеловеческое – естественно, они ведь и людьми не были в полном смысле слова, это все знали; в лицо их, правда, никто не видал кроме дипломатов, конечно, договоры-то заключать все же приходилось, дипломатов и других, кому по роду деятельности это было положено, – но по карикатурам каждый знал, что они не люди, а чудовища, даже глядеть на них было страшно. Нет, ничего не было прекрасней родной планеты, и что бы на ней ни происходило – все было правильно. Совсем раем была бы она, если бы не кружили над ней вражеские бомбоносцы, выбегая из-за горизонта и поспешно, словно стыдясь укоризненных взглядов, пересекая небосвод, каждые пять минут – новая шеренга. Так откуда же могла взяться эта, недопустимая даже в качестве обмолвки, грязная, отвратительная мысль о том, что пусть хоть вся планета взлетит на воздух – только бы с Микой ничего не приключилось? Непростительно; хотя, конечно, только представление о Мике, беззащитной, растерянной, одинокой, могло сложить в его уме слова в столь нелепую комбинацию. Только страх за Мин Алику, конечно...
– Держись, – сказал он ей, и настолько реальной виделась ему Мика в тот миг, что слово он произнес громко и четко, не промямлил, как бывает, когда человек говорит заведомо сам с собой. Цоцонго услышал и, поскольку их было тут лишь двое, воспринял, как обращенное к нему.
– А чего ж не держаться, – сказал он спокойно. – Продержимся, пока земля держит. Ну что: я считаю, что уже освоился. Может быть, пока все тихо-спокойно, поразмыслим над случившимся? В конце концов, для того нас сюда и доставили.
– Цоцонго, скажи: что за глупость? Почему я не могу отсюда позвонить по личному делу? Я добропорядочный гражданин...
Несколько секунд мар Цоцонго Буй смотрел на коллегу иронически-задумчиво, словно раздумывая, как ответить наиболее популярно. Потом сказал:
– Видишь ли, мне кажется, сейчас не только та информация, которой мы с тобой обладаем, но и само наше существование – секрет государственной важности. Никто ведь не знает, кому и зачем ты собираешься звонить. Может быть, как раз тем, кому вовсе не следует знать, что ты остался в живых после беды в институте Ты дома ночевал?
– Знаешь ведь, что нет.
– Ну, вот. Все, кто тебя знал, полагают, естественно, что ты участвовал в эксперименте. И, узнав, что институт взорвался, причислят тебя, естественно, к погибшим.
– Кому это нужно?
– Сложный вопрос, – ответил Цоцонго, потягиваясь. – И решение его, надо полагать, зависит от того, как все они станут выпутываться из этой истории.
– Они?
– Начальство. Много всякого начальства. Аварию в институте надо прежде всего объяснить. И решить, кто за нее ответит.
– Да за что же отвечать? Если все случившееся – результат какой-то неизвестной нам природной закономерности, стихии, о какой ответственности может идти речь?
– Ох ты, блаженный. Постарайся понять: тут два ряда явлений. Первый ряд – установить действительную причину взрыва, чтобы использовать ее в дальнейшем – и в целях безопасности, и в целях обороны, об этом нам достаточно ясно сказали. А второй ряд – на кого взвалить ответственность за взрыв. Этика не позволяет оставлять безнаказанными события, при которых гибнут люди, – если только вмешательство природы не является настолько очевидным, как при землетрясении или извержении вулкана. Предположим, есть некто, от кого по тем или иным соображениям хотят избавиться. То ли он, как наш директор, больше уже мышей не ловит, но добром уйти не хочет, то ли кто-то другой... Вот в такой ситуации очень выгодно будет взвалить вину на него, независимо от истинной причины, которая так и останется в секрете, даже если мы с тобой ее установим однозначно.
– Ну, не знаю. Но пусть даже так – зачем при этом держать меня взаперти?
– О чем же я тебе толкую? Ты должен найти истинную причину взрыва; значит, ты будешь ее знать. И я тоже. Но если гласно будет объявлена другая причина, то возникает опасность, что мы, случайно или намеренно, разболтаем то, что нам известно, и получится небольшой, но все же скандал. Потому что у того, кто будет обвинен – не в том, что он устроил взрыв, конечно, но в том, что не сумел предусмотреть и предотвратить, – тоже наверняка есть свои друзья и сторонники, и они уж постараются использовать то, что мы разболтаем. Больше того, они постараются это из нас вытащить, даже если мы будем молчать как рыбы.
– Но мы же никому не станем говорить, Цоцонго!
– Как ты в этом уверишь? Куда надежнее подержать тебя в некоторой изоляции... особенно когда все будут считать, что ты распался на атомы вместе с остальными участниками. Согласись, это открывает возможность различных вариантов в решении нашей судьбы.
– Может быть, – хмуро проговорил Форама. – Хотя верить не хочется – не может же все быть так... Ладно, давай начнем работать. Очень интересно, что же такое у нас взорвалось на самом деле, тебе не кажется? Помолчим немного, подумаем...
Они помолчали и подумали. Не только думали, впрочем; что-то и черкали на бумаге, время от времени то один, то другой подходил к информатору или вычислителю, заказывал информацию и получал ее или же задавал какую-то, тут же на ходу составленную программу. Проходило немного времени возникал ответ, скомканная бумага летела в корзину, и все начиналось с начала.
Часа через два Форама резко поднялся из-за стола – тяжелый стул с грохотом упал.
– Кажется, я что-то начал понимать.
– Давно бы так, – сказал Цоцонго. – У меня пока без проблесков. Излагай. Желательно – так, чтобы я понял.
– Ты-то поймешь. Не знаю, как остальные... Хотя у них будет возможность повторить и проверить все мои рассуждения.
– Я готов воспринимать идеи.
– Я тут вытребовал все, что наш институтский мозг успел записать о ходе эксперимента. Просто прекрасно, что мозг – в централи, иначе и от него ничего не осталось бы. Ты, кстати, превосходно сделал, что забрал домой фотографии.
– Сохранил для потомства, да. За что мне, надо полагать, основательно достанется от этих... – Цоцонго произнес два слова на сленге межпланетных десантников. – Снимки ведь тоже относятся к нулевому уровню молчания. И служат прекрасным доказательством того, что я, – а раз я, то, возможно, и другие, – нарушали правила секретности. Может не поздоровиться и тебе.
– Никто не станет об этом думать, как только до них дойдет, чем пахнет дело.
– Значит, ты докопался до чего-то серьезного. Вот что значит быть спортсменом, и ходить к девочкам. Ну, не делай страшные глаза: пусть к одной, это еще приятнее.
– Ты все поймешь сразу. Тут надо было просто привести все в удобный для решения вид... Начать с того, что никакой диверсии, конечно, не было и быть не могло. Способа влиять на скорость ядерного распада нет, но если даже какой-то небывалый гений у Врагов нашел такой способ и сразу же передал свою находку стратегам, как это, безусловно, сделали бы мы с тобой, то они не стали бы испытывать его на сверхтяжелых элементах, поскольку они в экономике и военном деле сегодня никакой роли еще не играют, но начали бы с тяжелых, потому что заряды наших охотников содержат именно тяжелые ядра, и это был бы прекрасный способ вывести нашу защиту из строя. Но вот охотники целехоньки, а взорвалась наша лаборатория.
– Да, по элементарной логике так оно вроде бы выходит, – помедлив, кивнул Цоцонго.
– Значит, остаются, как ты понимаешь, две возможности.
– Явление природы – раз; а вторая?
– Некая высшая цивилизация, о которой мы ничего не знаем и которая относится к нам не то чтобы враждебно, но без должного внимания, и занимается своими делами, не предполагая, что при этом может нанести нам какой-то ущерб.
– Мне этот вариант не кажется убедительным, – скривился Цоцонго, – хотя звучит он весьма успокоительно: если такая цивилизация существует, ее носители, надо надеяться, заметят, что сделали нам бо-бо и, догадываясь об уровне нашего развития и локальной космической ситуации, поспешат явиться с повинной... пока у нас тут не пооткручивали голов кому надо и кому не надо. Но это, думается, гипотеза чисто умозрительная, ни на каких фактах не основанная и ничем не подтвержденная. Вряд ли можно выходить с нею к руководству.
– Нет, конечно. Посмеются, и только. Да и сам я, откровенно говоря, в такую возможность не верю. И сделал такое предположение, лишь чтобы показать, что и такой вариант нами исследован.
– Значит, явление природы? – Цоцонго скептически поджал губы. – Уж больно необъятная категория. Помнится, ты говорил о каком-то потоке частиц или излучения. Если такой поток существует, это установят очень быстро или уже установили. Он не мог пройти сквозь стены или перекрытия института, не оставив следов, которые мы уже умеем обнаруживать и интерпретировать. А ведь стены сохранились, пусть даже и в обломках. Не говоря уже о том, что наши стратеги так пристально изучают всеми мыслимыми способами каждый квадратный дюйм неба, что мимо них вряд ли проскользнуло бы что-либо подобное.
– Поток, Цоцонго, это был бы очень неплохой вариант. Тогда осталась бы лишь задача – найти способ защиты от него, этакий зонтик, раскрыть его – и возобновить работу, потому что продолжать ее все равно придется... Это если во всем виноват поток частиц. Однако... – Форама нахмурился. – У меня странное ощущение, что на самом деле я знаю, в чем дело, но никак не могу понять – что же именно я знаю. Как будто знание и во мне, и в то же время где-то снаружи...
Цоцонго живо взглянул на него.
– Интересно: и у меня похожее состояние, некая уверенность, но не в том, что я все знаю, а в том, что все знаешь ты. Как будто похожие ситуации у нас уже бывали когда-то...
Форама пожал плечами.
– Специалисты называют это ложной памятью. Однако вернемся к делу.
– Жаль, – задумчиво сказал Цоцонго, – что никто другой на планете не занимался нашей темой. Было бы интересно узнать, уцелели их лаборатории или их так же исковеркало. Хорошо; ну а если не поток – что тогда?
– Четкого ответа у меня, как ты понимаешь, пока нет. Но – не кажется ли тебе, что в таких случаях, как наш, надо искать наиболее сумасшедшую гипотезу?
– Я-то всегда придерживался такого мнения. И что видится тебе самым безумным?
– Ну, я как раз стараюсь исходить из самых разумных предпосылок. Как говорит наш змееносец – интерпретировать факты, опираясь на известные и проверенные опытом закономерности. Могу добавить: не только проверенные опытом, но и теоретически обоснованные.
– Естественно. Иначе что осталось бы от науки?
– Как знать... Может быть, поднялась бы на иную ступень.
– Поднялась или опустилась? Черт знает, что ты хочешь сказать таким вступлением?
– Что вода кипит при ста градусах.
– Это и есть безумная гипотеза?
– Но кипит при давлении, которое мы считаем нормальным. А когда мы забираемся повыше, она закипает, скажем, при девяноста. И нас это не удивляет, поскольку нам известна зависимость между давлением и температурой кипения. А вот если бы мы этого не знали, то восприняли бы такой факт как потрясение основ и попрание фундаментальных закономерностей, подтвержденных опытом и теоретически обоснованных. В особенности, если бы наш подъем в гору оказался настолько постепенным, что мы и не заметили бы перепада... Возник бы повод обвинить кого-то в преднамеренной порче термометров. И далеко не сразу пришли бы к пониманию механизма событии.
– То есть, что изменилось давление.
– То есть, что с нашим пространственным перемещением связано изменение каких-то законов, которые мы считаем неизменными, и что в этом плане пространство анизотропно.
– Ты считаешь, параметры пространства могли измениться?
– В этом роде. И нас угораздило создать свой сверхтяжелый именно тогда, когда мы оказались в зоне изменений какой-то из характеристик пространства, или вещества, или еще чего-то...