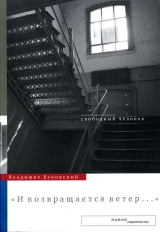
Текст книги "И возвращается ветер"
Автор книги: Владимир Буковский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
– Учиться вам пока преждевременно. Вместо того, чтобы писать всю эту... это вот, – тут он опять приподнял краешек журнала, – нужно было собраться и почитать семилетний план. Можете идти.
Так вот первый раз качнулась колода и врезала мишке по боку. Директора сняли с работы, отцу дали выговор по партийной линии, школу вычеркнули из какого-то там межрайонного соревнования, а мне предстояло всю жизнь вариться в рабочем котле: бегать за водкой, красть детали и набираться все той же мудрости – сверху молот, снизу серп... хочешь жни, а хочешь куй... Когда читаешь или слушаешь рассказы о концлагерях, о массовых расправах, о миллионах бессмысленно загубленных жизней, при всей яркости впечатлений, искреннем возмущении и негодовании, все это остается как-то в стороне, в абстракции. Не меняет это как-то тебя лично: твоих привычек, походки или почерка – скорее располагает к философским размышлениям о том, как много зла в мире да как скверно устроен человек. Другое дело, если хоть слегка проехалась тебе по боку гнилая колода государства. Всего-то и беды, что запретили мне учиться, определили идти на завод – не в тюрьму, не на плаху, на завод! Я ж места себе не находил. Произошло со мной что-то такое, после чего не мог я больше быть прежним человеком.
Еще только выходил я из горкома партии, а уже твердо знал: никогда и ни за что на свете не пойду на этот завод вариться в рабочем котле, хоть убей – не пойду! Казалось бы, разве не знал я заранее, в каком государстве живу и чего нужно ожидать от этого государства? И тем не менее был поражен: где ж мое право на образование? Какое отношение ко мне имеют эти тупые старики и старухи в кабинете горкома? Почему они определяют за меня, что мне делать, чего не делать, как мне жить всю жизнь и чем заниматься? До этого мне самому не ясно было, что делать после школы, – просто не задумывался. Тут же, не дойдя еще до дома, бесповоротно решил, что поступлю в институт, – кровь из носу, а поступлю! Я не предмет, а человек и никому не позволю собой распоряжаться.
Из этой школы все равно надо было уходить, жалеть о ней было нечего: здесь мне не дали бы характеристику для поступления в институт. На оставшиеся полгода поступил я в вечернюю школу рабочей молодежи. Предполагалось, что и я где-то работаю, где-то варюсь, – без этого в вечерней школе учиться не положено. В доказательство требовалось принести справку с места работы. Справку так справку. В бумажном нашем государстве все призрачно, и только бумага является доказательством твоего существования. Справку я сделал сам: попросил у приятеля, который работал, взять справку для себя, свел его фамилию и вписал свою – недаром же была у меня всегда пятерка по химии. Проверять никто не стал: справка есть – все в порядке.
Затем нужно было исхитриться получить характеристику для института. По счастью, классная руководительница, зная мою историю, сочувствовала мне. Бог знает, может, она сама или ее родственники пострадали когда-нибудь от этой власти, но долго уговаривать ее не пришлось. В вечерней школе отношения между учениками и учителями проще, человечней. Ученики часто старше учителей, иногда уже семейные люди, и никакой обычной для дневных школ чепухи с воспитанием здесь нет. Поступила она очень просто: сдавая директору на подпись целую груду характеристик, она подсунула и мою.
Директору было некогда читать этот ворох бумаги, и он подписал не глядя. С нее же спрос был маленький: никто ей официально не приказывал не давать мне характеристики.
Теперь все зависело от меня, и, пока другие бывшие школьники, сдав выпускные экзамены, гуляли по Москве и песни пели, я сбежал за город. Никому не говоря о своих планах, даже родителям, я, как помешанный, день и ночь зубрил учебники и к началу приемных экзаменов в университете знал их на память, от корки до корки. В самый последний день приема документов я тайком вернулся в Москву, Конкурс был огромный: 16 человек на место, и нервное напряжение невероятное, в особенности же из-за страха, что кто-нибудь узнает и донесет.
Уже в самом университете я встретил девчонку из бывшей своей школы. Сдавали мы на один и тот же факультет и были конкурентами, так что до последнего момента я ждал разоблачения и о самих экзаменах думал меньше. Нужно было сдать пять экзаменов, и каждый раз, сдав очередной, я удирал из Москвы, чтобы никого не встретить, соблюдая все правила конспирации. Наконец, вывесили списки принятых – я был в их числе. Теперь никто ничего не мог поделать: формально я уже был студентом.
Но этого мне показалось мало – был мой черед толкать колоду. "Как же так? – думал я. – Какой-то несчастный школьный журнальчик без всякой политики, и уж весь зверинец переполошился, вплоть до ЦК. Значит – боятся. Значит – это для них самое опасное. Стало быть, это сейчас и нужно". Одно дело теоретически знать, что нет свободы печати, свободы слова, другое дело – убедиться в этом на практике. Разве есть гарантия, что не вернутся сталинские времена, если за пустяковый журнальчик дают выговоры, выгоняют с работы и запрещают учиться? А потом опять будут говорить, что никто не знал и все боялись? Так-то все и начинается.
Любопытное это было время, и чем дальше оно уходит, тем труднее становится правильно оценить его. Теперь говорят "хрущевская оттепель". А что это значило в действительности? Что, собственно, сделал Хрущев? Осудивши Сталина и чуточку показав кухню государства, кухню людоедов, он тотчас испугался сам и затрубил отбой. Счастье еще, что успели выпустить заключенных, – и то, как узнал я впоследствии, благодарить за это надо не столько Хрущева, сколько Снегова. Близкий друг Хрущева по старым временам. Снегов сам сидел в концлагере и был выпущен Хрущевым, как только тот пришел к власти. По убеждениям Снегов был коммунистом, коммунистом и остался, несмотря на лагеря, на пережитый им террор и увиденную изнанку социализма. Это не удивляет меня. Люди старшего поколения, особенно помнившие досталинские времена, не так легко отождествляли идеи коммунизма с личностью Сталина, как мы. Казалось им, что если б не Сталин, исказивший светлые ленинские идеи, то все было бы прекрасно. Трудно им было понять, насколько Сталин со всеми своими зверствами органично вытекает из ленинских идей, из самой идеи социализма. Не случайно оказался он таким всемогущим и бесчеловечным, не случайно партия выдвинула и поддержала именно его.
К тому же людям старшего поколения, осуждавшим очевидные сталинские преступления, трудно было усомниться в правильности самих идей – идей, ради которых они жили и сами участвовали в расправах над классовым врагом. Так глубоко их отрицание зайти не могло – какой-то психологический закон самосохранения заставлял их верить, что виноват один Сталин, но не они. Не может человек, прожив жизнь, осознать под конец, что вся жизнь, все, во что он верил, было ошибкой – более того, преступлением.
Даже нам, пережившим разоблачение Сталина в 14-15 лет, это далось нелегко, осталось травмой на всю жизнь, а люди старше нас лет на 10-15 уже не могли очухаться, совершить такое психологическое самоубийство. Поэтому в 50-е годы, ныне именуемые "хрущевской оттепелью", господствующая идея оставалась коммунистической в ее более либеральном варианте: Ленин оставался для них авторитетом, югославский социализм – образцом правильного воплощения правильных идей, и все их новаторство дальше Тито не шло.
Но Снегов, несмотря на свою коммунистическую веру, усвоил в лагерях арестантскую психологию, этику заключенных. Когда Хрущев назначил его своим заместителем в комиссии по реабилитации, он за пару лет пребывания в этой должности, понимая всю неустойчивость создавшейся ситуации, спешил освободить как можно больше людей. Он успел сделать сверхчеловечески много, и, когда его сняли, практически никто уже не оставался в лагерях – не более нескольких десятков тысяч. При нем же был установлен самый мягкий за всю историю страны режим в лагерях, и до сих пор старые зэки вспоминают это время, как сказку, как Золотой век. Ходят легенды о коммерческих столовых, где можно было за деньги поесть, как на воле; о том, что работать не заставляли, но почти все работали сами, так как платили деньги. Теперь все это кажется невероятным.
К началу 60-х годов, однако, все уже кончилось. Золотой век продолжался всего года три-четыре. Для Хрущева это было лишь политической игрой, борьбой с противниками в ЦК, больше него связанными со сталинскими репрессиями. Вся старая налаженная пропагандистская машина сталинских времен была в растерянности. Никто не знал: что будет разрешено завтра, как понимать критику культа личности, где границы этого понятия? Проскочило в печать несколько критических книг, но и тут была половинчатость: можно было критиковать жизнь сталинского времени, но не позже (и не основы!); секретарь райкома уже мог оказаться отрицательным персонажем, но секретарь обкома непременно оказывался положительным и к концу романа устанавливал хрущевскую справедливость. Власть КГБ, хоть и урезанная, оставалась огромной, политические аресты не прекращались, просто сократился их масштаб. Заслуга ли это Хрущева и его "оттепели"? Думаю, такое мнение ошибочно. Массовый политический террор прекратился прямо со смерти Сталина и больше уже не возобновлялся. Дело здесь не в Сталине и не в Хрущеве: массовый террор был просто невозможен – сработал инстинкт самосохранения правящей верхушки. Неумолимая логика террора такова, что он, разрастаясь, становится неуправляемым и оборачивается, как правило, против самих террористов. Никто не был гарантирован от пули: расстреляв в 20-30-е годы всех политических противников и классовых врагов, коммунисты уже не могли остановить террора, и он стал орудием внутрипартийной борьбы и тотального подавления, он стал необходим партии, чтобы жить и править. Вдруг оказалось, что две трети делегатов XVII съезда партии – враги, и их расстреляли, а к концу 40-х годов сменился практически весь состав политбюро.
Позже я встретил человека, история которого хорошо иллюстрирует механику этого разбега. Дело происходило в 47-м году. Человек этот, полковник бронетанковых войск, был арестован по ложному доносу и обвинен в измене родине. Никаких доказательств его вины не существовало, да никто их и не искал. Все, чего хотели от него следователи, – это получить новые имена, новые жертвы. От него требовали только назвать, кто его завербовал в иностранную разведку, и жестоко пытали. Он же согласен был подписать любую нелепость против себя, но не мог оговорить своих ни в чем не повинных знакомых. Наконец, чувствуя, что больше ему не вытерпеть пыток, и боясь в беспамятстве подписать ложный донос против кого-нибудь, он сделал неожиданную для самого себя вещь.
Допросы и пытки проводили три следователя КГБ – старший и два помощника. Очередной раз, когда от него опять требовали назвать завербовавших его врагов, он вдруг указал пальцем на старшего следователя: "Ты! – сказал он. – Ты же, сволочь, меня и завербовал! Помнишь? На маневрах, под Минском, в тридцать третьем году, у березовой рощи!" – "Он бредит, сошел с ума, уведите его!" – сказал старший следователь, "Нет-нет, отчего же уводить? – сказали заинтересованно двое остальных. – Это очень любопытно, пусть говорит дальше". Больше он этого старшего следователя не видел – должно быть, его расстреляли. Один из помощников стал старшим, дело быстро окончили, и моего знакомого отправили в лагерь с четвертаком.
Легко понять, что, как только безумие массового террора приостановилось смертью Сталина, охотников возобновить его не нашлось. Теперь же, по прошествии стольких лет, когда в силу естественных причин сменился и карательный аппарат, и правящая верхушка, вернуться к тем временам просто невозможно: система бюрократизировалась, обросла жирком, да и невозможно вернуть теперь ту атмосферу всеобщей шпиономании и подозрительности. Точно геологический процесс образования материка, начавшись землетрясениями и извержениями лавы, этот строй постепенно твердел, окаменевал и достиг того состояния, когда изменения перестали быть возможными – никто их не хочет. Народ не хочет больше революций и борьбы он инстинктивно знает, что революция не даст ему ничего, кроме неисчислимых бедствий, крови, голода и новой тирании. Правители же не хотят больше террора и потрясений, которые неизбежно уничтожат их самих. Потому не назвал бы я начало этого процесса оттепелью, а скорее остыванием, окаменением.
И все-таки оттепель, оттаивание в конце 50-х и начале 60-х годов существовали, да только не хрущевские и не сверху, а в умах самих людей, в их настроениях. Пережив весь этот кошмар, люди нуждались в передышке для осмысления происшедшего. Этот процесс отчасти захватил и вел самого Хрущева, а не наоборот. После кульминации 56-го года Хрущев только тем и занимался, что пытался противодействовать этому процессу, этой самой оттепели.
Судьба этого человека трагична и поучительна. Конечно, после того шока, который дало нам все разоблачение Сталина, ни один коммунистический вождь никогда уже любим народом не будет и ничего, кроме насмешек да анекдотов, не заслужит, Но никто, видимо, и не вызовет столь единодушной и лютой ненависти, как Хрущев. Все раздражало в нем людей. И его неумение говорить, неграмотность, обычная для всех коммунистических правителей до него и после. И его толстая ухмыляющаяся рожа – кругом недород, нехватка продуктов, а он ухмыляется, нашел время веселиться! И его поездки за границу, его лихорадочное и мелкое реформаторство – словом, всё, любые его начинания вызывали только злобу и насмешки. Понять это нетрудно. До него был тот же голод, несвобода, страх, безысходность, но была вера в усатого бога, которая заслоняла все. Он отнял эту веру, и, хотя очевидность сказанного им ни у кого сомнений не вызывала, вся горечь, вся ненависть, вызванная смертью бога, обрушилась на Хрущева.
Более того, лишив людей иллюзий, он позволил им оглянуться, увидеть реально всю свою жизнь, и, точно до него не было всей этой жизни, тотчас же он оказался во всем виновен. Вдруг стала очевидна нежизнеспособность всей системы, некомпетентность руководства. Главное же, он ничего не изменил по существу: не искоренил сталинизма, не исправил хозяйства, не дал настоящей свободы, а вместо всего этого вновь попытался продать людям те же иллюзии, которые только что столь наглядно были разоблачены. Его наивные обещания коммунизма к 1980 году вызывали только смех, Думаю, он был последним коммунистическим правителем, который действительно верил в возможность построить коммунизм и пытался осуществить это. Но никому его коммунизм был уже не нужен, никто, кроме него, в такую возможность уже не верил. Всем был настолько очевиден обман, что даже кроты прозрели.
Наконец, он был лишь скверной пародией на Сталина. Не сломав старой системы, он оказался ее жертвой, и постепенно вместо культа личности обожаемого Сталина люди получили культ личности ненавистного Хрущева. Было очевидно, что порочна вся система, которая не может просуществовать без культов. Его авантюрная внешняя политика, немногим, впрочем, отличающаяся по существу от предыдущей или последующей, также не снискала ему сторонников: двойственность, половинчатость его линии просто исключала возможность успеха. С одной стороны – искусственно вызванные им берлинский и карибский кризисы, широкая подрывная деятельность против свободного мира, явное стремление к гегемонии. С другой – демагогические призывы к миру, к разоружению, к сотрудничеству и торговле, которым даже наивные западные люди под конец перестали верить. Поэтому, когда его сняли наконец, у него совершенно не оказалось сторонников.
Удивительно: человек десять лет правил и не нажил ни одного сторонника. Лишь очень немногие люди в Москве, усматривая в Хрущеве гарантию против возвращения сталинизма, жалели о нем. Некоторые полагали, что в его лице осуществилась вековая мечта русского народа иметь на престоле Иванушку-дурачка, но более сведущие говорили, что скорее его можно сравнить с Распутиным.
Забавно, однако, что начавшийся при нем процесс внутреннего оттаивания людей происходил, видимо, и в нем самом. Люди, видевшие его после отстранения от власти, рассказывали, что он сильно изменился, тяжело переживал всеобщую неблагодарность и, будучи не у власти, очень скоро усвоил точку зрения общества. Помню, уже в семидесятом году собрались мы у Якира подписывать очередную петицию в защиту Солженицына – в связи с присуждением ему Нобелевской премии. Как водится, Якир сидел на телефоне и обзванивал всю Москву, собирая подписи знакомых. Тут кто-то в шутку предложил ему позвонить Хрущеву – ведь по его распоряжению впервые опубликовали Солженицына. Сказано – сделано. К телефону подошла Нина Петровна, а потом и сам Никита.
"Вы слышали новость?" – спросил Якир. "Какую?" – "Ну как же, Солженицыну дали Нобелевскую премию!"
"А как же, как же, – оживился Никита, – слышал, конечно. Я теперь все новости узнаю по Би-Би-Си". – "И как вы это оцениваете? Ведь вы первый разрешили его напечатать". – "Да, помню, Твардовский сказал мне, что это высокохудожественное произведение. Я ему поверил. – И, помолчав, добавил: Что ж, Нобелевскую премию зря не дадут".
Конечно, мы не решились просить его подписать нашу петицию, но, думаю, проживи он лет десять не у дел, непременно оказался бы в числе подписантов. Двигался он явно в этом направлении, и его мемуары, конечно, вовсе не были делом случая.
Так или иначе, а атмосфера тех лет была весенней, полной надежд и ожиданий: фестиваль в Москве, затем выставка США – первые за всю нашу историю ласточки с Запада – разбили напрочь вбивавшиеся в нас мифы. Смешно было говорить о "загнивающем капитализме". По своей важности эти события можно поставить рядом с разоблачением Сталина. Неожиданное сближение с Югославией и начинающаяся ссора с Китаем; иностранные туристы; редкие, но все-таки достижимые импортные товары. Москва преображалась на глазах: вместо уголовного трущобного города моего детства, с бандами подростков в сапогах, плащах и кепках с разрезом, возникал город, жители которого толпились в книжных магазинах, набивались в залы, где выступали поэты, ломились в театр "Современник", а из окон домов по вечерам несся уже не Утесов, а джаз и рок-н-ролл, купленные тайно с рук. Переписывали его с радиоприемников на рентгеновские пленки, и эти "пластинки" миллионами раскупались у предприимчивых людей. Если смотреть на свет, на них видны были изображения чьих-то грудных клеток. Так это и называлось: "Рок на костях". Подростки начинали обзаводиться узкими штанами, такими узкими, что залезть в них было геройским делом. И хоть комсомольцы-дружинники ловили их поначалу, били, резали брюки ножницами, все-таки пробивалась эта мода, и скоро вся комсомолия щеголяла в таких же.
На Садовом кольце, по маршруту троллейбуса "Б", промышлял нищий. Он входил в троллейбус, снимал кепку и говорил громко, ни к кому конкретно не обращаясь: "Дорогой товарищ Тито, ты теперь нам друг и брат! Как сказал Хрущев Никита, ты ни в чем не виноват. Помогите борцу за ослабление международной напряженности!" И ему, конечно, подавали щедрой рукой.
А по всей Москве в учреждениях и конторах пишущие машинки были загружены до предела: перепечатывались для собственной потребы или для друзей стихи Гумилева, Мандельштама, Ахматовой, Пастернака. И было такое чувство, словно понемножку, осторожно все расправляют затекшие от долгого сидения члены, пробуют шевелить конечностями, переменять позу, а все тело от этого покалывает будто тысячами иголочек. Ничто вроде бы уже не держит можно и встать, да отвыкли, отучились стоять на двух конечностях.
Возрождение культуры у нас после полустолетнего господства чумы повторило этапы развития мировой культуры: сначала фольклор, былины, сказания, передававшиеся из уст в уста, от поколения к поколению, затем песни трубадуров и менестрелей, стихи и поэмы, наконец – проза, целые романы, трактаты, философские опусы и публицистические сборники, открытые письма и воззвания, журналистика – так Самиздат в ускоренном ритме охватил ступенька за ступенькой историю культуры. Уже в семидесятые годы даже фильмы самиздатские начали выходить.
Когда-нибудь у нас, думаю я, поставят памятник политическому анекдоту. Эта удивительная форма народного творчества нигде в мире не встречается, только в социалистических странах, где люди лишены информации, свободной печати и общественное мнение, запрещенное и репрессированное, находит свое выражение в этой необычной форме. Краткий и сжатый по необходимости, максимально насыщенный информацией, любой советский анекдот стоит томов философских сочинений. Упрощенность анекдота оголяет нелепость всех пропагандистских ухищрений. Анекдот пережил все самые тяжелые времена, выстоял, разросся в целые серии, и по нему можно изучать всю историю советской власти. Издать полное собрание анекдотов так же важно, как написать правдивую историю социализма.
В анекдотах можно найти то, что не оставило следа в печати, – мнение народа о происходящем. На любой вопрос есть ответ.
Как, например, расценил народ разоблачение культа личности? Когда Сталина вынесли из Мавзолея и похоронили у кремлевской стены, на его могиле появился венок с надписью: "Посмертно репрессированному от посмертно реабилитированных".
А однажды исчез из Мавзолея Ленин. Принялись искать, ошмонали Мавзолей, нашли записку: "Уехал в Цюрих – начинать все сначала".
Или – как потомки оценят наше время? В будущих энциклопедиях напишут: "Гитлер – мелкий тиран сталинской эпохи. Хрущев – литературный критик времен Мао Цзедуна". И, конечно, анекдоты о КГБ.
В Египте нашли мумию. Все египтологи мира собрались, не могут установить, что за фараон. Пригласили советских специалистов. Приезжают три египтолога в штатском. "Оставьте нас, – говорят, – с ним один на один". Оставили. День ждут, два ждут, три – ничего. На четвертый выходят:
"Рамзес Двадцать Пятый". Все поражены: "Как вы узнали?" – "Сам, сволочь, сознался".
На параде на Красной площади министр обороны объезжает войска. "Здравствуйте, товарищи танкисты!" – приветствует он. "Здра... жела... ва... маршал... ву-ву!" – дружно отвечают танкисты. Едет дальше: "Здравствуйте, товарищи артиллеристы!" – "Здра... жела... ва... ву-ву!" Наконец, подъезжает к войскам госбезопасности: "Здравствуйте, товарищи чекисты!" – "Здравствуйте-здравствуйте, гражданин маршал", – отвечают те с нехорошей усмешечкой.
А проблема борьбы за мир и советского миролюбия? Во всем мире столько споров, столько трудов написано, действительно ли Советский Союз хочет мира или только прикидывается. Вот уж для нас не проблема.
Приходит еврей к раввину и спрашивает: "Ребе, ты мудрый человек, скажи: будет война или не будет?" – "Войны не будет, – отвечает ребе, – но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется".
А что говорят советские люди о "загнивающем капитализме"? – "Гниет-то гниет, но запах какой!" – и сладостно потягивают носом.
А когда читают в советских газетах о постоянном кризисе на Западе и о том, как коммунистические и рабочие партии сил не жалеют, чтобы вывести бедных трудящихся к солнцу социализма?
– В еврейском местечке маленький мальчик Мойше целый день занят по хозяйству. Семья большая, родители трудятся, братишки-сестренки плачут, денег нет, а он так устает, что в школе за партой почти что спит. Урок биологии. Учитель спрашивает: "А скажи-ка, Мойше, сколько ног у таракана?" – "МНЕ БЫ ВАШИ ЗАБОТЫ, ГОСПОДИН УЧИТЕЛЬ..." И их сотни тысяч, этих анекдотов, каждый – поэма. Затем я поставил бы памятник пишущей машинке. Родила она совершенно новую форму издательства – Самиздат: сам сочиняю, сам редактирую, сам цензурирую, сам издаю, сам распространяю, сам и отсиживаю за него. Начинался же самиздат со стихов и поэм запрещенных, забытых, репрессированных поэтов – все, что по цензурным соображениям не могло быть напечатано официально, попадало в Самиздат. Теперь же Самиздат в числе своих авторов имеет двух лауреатов Нобелевской премии.
И уж раз зашла речь о памятниках, то нужно еще поставить монумент человеку с гитарой. Где, в какой стране скверные любительские магнитофонные записи песенок под гитару будут тайно, под угрозой ареста распространяться в миллионах экземпляров?
Помню, впервые в конце пятидесятых годов услышал я голос, тихо певший под гитару о московских дворах, о моем любимом Арбате, даже о войне – но так, как никто еще не пел. Не было в этих песнях ни единой фальшивой ноты официального патриотизма, и мы вдруг с удивлением оглянулись вокруг – вдруг почувствовали тоску по родине, которой нет. Ничего политического в этих песнях не было, но было в них столько искренности, столько нашей тоски и боли, что власти не могли потерпеть этого. Нелепые и злобные преследования Окуджавы были чуть ли не первыми преследованиями поэта, совершавшимися на наших глазах.
Чуть позже появился Галич, песни которого до сих пор тайком переписывают друг у друга заключенные в лагерях, Первый вопрос каждому вновь приехавшему на лагерную зону: "Какие новые песни Галича привез с воли?"
Чем дальше, тем больше возникало этих незримых фигур с гитарами. Им не давали залов для выступлений, за каждую их песню могли намотать срок, и поэтому редкий счастливец мог похвастаться, что видел их. Их предшественникам на заре человечества было легче: никто не сажал в тюрьму менестрелей, не тащил в сумасшедший дом Гомера, не обвинял его в слепоте и односторонности. Для нас же Галич никак не меньше Гомера. Каждая его песня – это Одиссея, путешествие по лабиринтам души советского человека.
В то время, однако, наша культура только зарождалась. Никто не собирался давать ей Нобелевских премий – ничего, кроме острога. Я же, случайно наткнувшись на нее в потемках, видел в ней единственную возможность жить, единственную альтернативу.
Летом 1958 года открыли памятник Маяковскому. На официальной церемонии открытия памятника официальные советские поэты читали свои стихи, а по окончании церемонии стали читать стихи желающие из публики. Такой неожиданный, незапланированный поворот событий всем понравился, и договорились встречаться здесь регулярно. Поначалу власти не видели в том особой опасности, в одной московской газете даже была опубликована статья об этих сходках с указанием времени их и приглашением приходить всем поклонникам поэзии. Стали собираться чуть не каждый вечер, в основном студенты. Читали стихи забытых и репрессированных поэтов, свои собственные, иногда возникали дискуссии об искусстве, о литературе. Создавалось что-то наподобие клуба под открытым небом, вроде Гайд-парка. Такой опасной самодеятельности власти не могли терпеть дальше и довольно скоро прикрыли собрания.
Я не бывал тогда на площади Маяковского и знал обо всем понаслышке. Теперь же, после всей истории с журналом и дальнейших событий, пожалел об этом. Среди людей, там собиравшихся, я мог бы найти единомышленников вместе нам легче было бы отстоять себя и свое право на самобытность. То унизительное чувство несвободы, которое я испытал, то оскорбление, когда посторонние люди пытались распоряжаться моей судьбой, жгло меня и требовало активного противодействия. И в сентябре 60-го года, уже поступив в университет, я уговорился с одним своим приятелем, который жил рядом с площадью, и с другим, который учился в театральном училище, вновь начать чтения у памятника.
Расчет был простой: все, кто собирался здесь раньше и не слишком напуган разгоном, после двух-трех наших чтений непременно придут. Так и случилось.
Вскоре чтения вновь происходили регулярно, собирая огромное число слушателей. Мы быстро перезнакомились со "старичками" и с радостью обнаружили, что жизнь у них кипит и помимо чтений. Кроме самиздатского распространения стихов многие годы запрещенных поэтов, они и свои произведения собирали и распространяли. Только что за издание трех номеров поэтического журнала "Синтаксис" был арестован их друг Александр Гинзбург, а они вновь готовили к изданию новые сборники: "Феникс", "Бумеранг", "Коктейль" и другие с такими же причудливыми именами. Они старались, кроме того, посещать официальные советские лекции и диспуты и там выступать, задавать вопросы, завязывать настоящий, по существу спор. У них еще со старых времен образовались обширные знакомства с самыми различными людьми: учеными, писателями, художниками. Круг моих знакомых расширялся стремительно. Сами чтения на площади Маяковского, на Маяке – как мы ее называли, действительно, как маяк, притягивали и привлекали все лучшее и самобытное, что было тогда в стране. Это было именно то, чего я так долго хотел. Около ста лет назад наши сверстники читали взахлеб социалистические брошюры, обсуждали на сходках социалистические утопии, и кто в то время не знал Фурье или Прудона, считался невеждой. У нас паролем было знание стихов Гумилева, Пастернака, Мандельштама, и если сыщики царской России учили социалистические трактаты, чтобы проникнуть в среду молодежи, то агенты КГБ поневоле становились знатоками поэзии.
Это было время, когда свобода творчества, проблемы искусства и литературы стали центральными в жизни общества и самыми большими революционерами оказались художники – неконформисты, поэты – "формалисты" и т. д. Произошло это не по нашей инициативе, а по вине властей, не желавших признавать за людьми свободу творчества и всем пытавшихся навязать свой соцреализм. Парадоксальное явление: на Западе в это время авангардисты были чуть не все как на подбор коммунистами – у нас же они считались вне закона.
Народ подбирался у нас самый разношерстный. Были и такие, кого интересовало только чистое искусство, и они отчаянно" боролись за право искусства быть чистым. Это приводило таких людей, во все времена считавшихся самыми аполитичными, прямо в гущу политической борьбы, на ее передние рубежи. Были такие, как я, для которых право искусства на независимость являлось лишь поводом, одним из пунктов несогласия, – и мы были здесь именно потому, что это оказалось центром политических страстей. Были и такие, как автор запомнившихся мне с той поры стихов:
Нет, не нам разряжать пистолеты
В середину зеленых колонн!
Мы для этого слишком поэты.
А противник наш слишком силен.
Нет, не в нас возродится Вандея
В тот гудящий, решительный час!
Мы ведь больше по части идеи.
А дубина – она не для нас.
Нет, не нам разряжать пистолеты!
Но для самых ответственных дат








