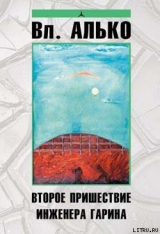
Текст книги "Второе пришествие инженера Гарина"
Автор книги: Владимир Алько
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
*** 26 ***
Одна.
Фактически заточена – долгие семь лет.
Затравлена.
Все в ней взбунтовалось привычно и замерло.
Холодные, заснеженно-белые пальцы пробежали камнями на каждой из рук – хризолит, сапфир, опал, изумруд, алмаз, нефрит, лазурит. Указательный – свободен для напоминаний и расчета. (Синевато-вороненой стали дамский револьвер, будто ладанка с дорогим сердцу пеплом где-то при ней).
Сейчас на женщине похоже, как вечернее платье фиолетового бархата, с длинным разрезом от бедра к низу, декольтированное со спины; гибкая шея открыта, с золотым обхватом узкой змейки. Тесное платье делает шаг женщины манерным и зыбким, но она от этого только выигрывает. Тяжелый залом волос – римским гребнем – обнажает чистый матовый лоб, делает лицо бесстрастно-строгим и прямолинейным в расчетах сердца. Пожалуй, самый ее вид не подошел бы ни одному пикантному вечеру. Чуть вздернутый нос, казалось, смягчает нрав. Большие синевато-серые глаза страдают отсутствием выражения в них. Это лучший для нее способ отражения действительности. Говорят, что сны – отражение яви. Откуда тогда у этой женщины такие сны: золотистые марины в стиле Клода Лоренна. Гранитные, темно-кровяного камня лестницы, нисходящие к морю; террасы, колонны, статуи… Дворец с фасадом, слегка наклоненным, как у древнеегипетских построек, скупо украшенный, с высокими узкими окнами и плоской крышей… Анфилады прекрасных комнат и зал… Двенадцативесельная барка под парчовым балдахином… красивые, нарядные люди ее приветствующие… Если это проявление мечты, то почему часто ей рисуется и такое: огромный зал, словно Мариинского театра в Петербурге; разбитый вдребезги свет люстр, публика, репортеры с самопишущими перьями, стенографистки… И все такое прочее – партер, галерка… А вот и она – в образе Марии-Антуанетты… Присяжные и заседатели (все почему-то напоминающие собой музыкантов в оркестровой яме). Обвинительная речь прокурора… нескольких прокуроров – по одному, наконец, от каждой отдельно взятой страны. Тем же дефилирующим образом – защитники… Громогласные, обаятельные, молодые и не очень… С бородками, и то же по фасону – русские, эспаньолки, а ля Ришелье… Завитые и лысеющие, во фраках и пиджачных парах. Цветы. (?) «Но почему цветы?!» – и женщина одергивает себя, понимая, что это не опера, а она не примадонна, и не дай Бог, если видение это исполнится. Аплодисменты в зале, конечно, будут, и «почетный» эскорт, но другого рода. И она еще глубже уходит в себя.
Когда же она хандрит, то подолгу остается в постели. Отсылает прочь прислугу. Курит, стряхивая пепел прямо на ковер, длинные русские папиросы. От них сволочеет душа, горьким степным мороком тлеет рассвет, застит рассудок. Или же часами вышагивает все в одной и той же комнате-кабинете, бросая странные взгляды на прибор, похожий на телетайп, под стеклянным колпаком, на этажерке. Маячит от окна к окну, подходит к столу, на котором раскатаны апельсины, грецкие орехи в серебряной фольге, лежат книги, чертежные принадлежности, флаконы, амулеты, пилки для ногтей, крошки бисквита, стоят чашки с недопитым кофе. (В иные минуты видеть ей людей из прислуги невыносимо). Находившись так, она вздыхает, и через французское окно до пола спускается по ступенькам в глухой, закрытый сад. Там – цветы, относительный простор, и по всему взору крыши и гряды гор.
Швейцарская обитель. Убежище эмигрантки, – ни откуда, – бегущей из страны в страну. Во взмахе неба, что дозволено ей видеть в простенке домов, похожем на секиру, одна розовеющая капелька прибывающего заката.
Таковой стала ее судьба.
Но хуже всего, когда накатывает память. Сегодня – не по прочитанному перечитывала «Окаянные дни» Бунина. Металась горячей степью под Новочеркасском. Рассылала пули-убийцы. Была ранена. Выжила. Всех и все победила. Блистала. Но с этим связана последовательность лет и дней, в конце которых – провал. Это не по памяти, но как раз то, что надо забыть. Воспоминание в односложном – на итальянском, французском: «Не помню. Я ничего не помню». И вдруг, как припадок, как вызов, или ее «русская рулетка» – Лиссабон; мадам Ламоль. – «Сеньора хочет сказать, что она португалка?» – «Помню только отплытие судна. Ни года, ни месяца. Возможно, частная марокканская яхта. Круиз».
Это прошло росчерком, официальной скорописью, как если бы таможенный досмотр проходил негр в одной набедренной повязке. Далее – Панама, Эквадор – все транзитом. Наконец – Перу. Страна фантастических развалин древнейших дворцов и храмов; «золота инков», так и канувшего в Лету. Для нее же – лечебница Рубена Аскуэ, вблизи Лимы. Покой. Тишина. Отделение неврологического диспансера. Препараты алоэ, настой листьев кока, камфара.
Освидетельствование – узнаванием: памятью о лицах. Но однажды: «К вам друг, сеньора». (Белая фигура в халате. Бледное, вымученное лицо, все белое… один, оттененный углем, бесконечно-упорный взгляд. «Все хорошо. Верь. Амнезия памяти – лучшее, что у тебя есть; твои паспортные данные. Держись этого. Об остальном позабочусь я. Ничего, кроха, хуже бывало. Лучше побыть не в «своем рассудке», чем – ну да ты и сама понимаешь»).
Она и понимала. Но лишь теперь осознала, что, назвавшись тогда «мадам Ламоль», желала только спросить небо: с ней ли оно? Все сошло – ни волоска не упало с ее головы (где уж там быть обезглавленной по французским законам). Пришло сухое подтверждение на официальном бланке о регистрации в таможне города Лиссабона некоей «госпожи Ламоль из Неаполя». (Любезная предосторожность Роллинга, собственника во всем). С этим она начала жить. Все еще Перу, Лима. Сизая поволока над городом во весь год, каждодневно, к вечеру, окончательно мрачнеющая и начинающая сыпать невидимой глазу водяной пылью. Но вот, кажется, дорога в Аргентину не воспрещена. Буэнос-Айрес: здесь только и можно было затеряться песчинкой, задыхаясь в душной пелене пассатов, теряя легкие, цвет лица. Смешиваться с темным, вороватым, ленивым и болтливым народом. Экономили на всем. Зарабатывал он – скромным служащим патентного бюро. Каламбурил: «Что, дорогуша, снова этими-то жемчужными зубками нитки перекусываешь, когда бесценные свои чулочки штопаешь». Тогда она сатанела; грозилась, что пойдет на панель или отравится. Спрашивала, с издевкой, «в какой ломбард он заложил свою невостребованную голову», где остатки его «дутого величия», и укоряла непрактичностью. Тогда он хмурился. Надолго исчезал, рискующий десятикратно против нее. Однажды, после особенно долгого отсутствия, объявился, сияющий. Она даже не поняла сразу, где он пропадал. Но – Европа! Швейцария! Выяснилось, что ее «девичьи сбережения» (на черный день), переведенные своевременно в один из швейцарских банков – не арестованы и даже не взяты под сомнение. («Хорошая традиция. Достойная преумножения», – шутил он). И совсем уже ошеломляющее подтверждение и детали ранее известных слухов: Золотой остров лопнул пузырем раскаленной магмы, со всем на нем – дворцом, золотодобывающей шахтой, башней главного гиперболоида. Сама же их личная история возвышения и падения перешла в разряд легенд. «Представляешь, лапушка, – говорил он, – была Елена Прекрасная, бойня афинян с этими… парфянами, разрушение Трои и все такое с ними, и было правление Божественной Зои, гибель американской эскадры (особо – в скрижалях истории), начало нового «золотого века», гражданская война в Соединенных Штатах и гибель самого острова, подобно Атлантиде». Мир забыл их. В политике – экономика. В моде – аргентинское танго, кабаре… наиболее известные имена – некоего физика Эйнштейна и кинематографического клоуна Чарли Чаплина. «Мы – в мифическом небытие, а не просто сгинувшие, – констатировал он. – Можешь спать теперь спокойно и завести какую-нибудь подслеповатую и не очень болтливую горничную». Она возражала: «Это плохо, друг мой. Легенды укореняются, и люди вдвойне не прощают тем, кто эти легенды развенчивает. И совсем уже скверно – жить и жаться, отирая позолоту собственного памятника». Тогда он надолго и угрюмо замолкал…
Женщина вздрогнула: послышалось ли ей! Сейчас слишком еще день, чтобы предаваться воспоминаниям. А вечер и ночь, – что принесут они? Усмехнувшись, она выбрала круг-минутку по движению секундной стрелки на дамских часиках на столе. Задумала, как гадают русские девушки на «любит, не любит», отрывая лепестки у ромашки: отрешенно стала перебирать камни на худых пальцах, сверяясь с секундной стрелкой. Время исполнилось. Выпал опал: камень надежды. Значит тот, кого она так ждет, будет. Кроме того, возможно, сегодня она «заговорит». Ведь опал усиливает магнетические силы души. И вновь – посторонний звук. Слишком, слишком близко и долго работает автомобильный мотор. Женщина встает. Идет этой комнатой-кабинетом. Утром, на почтамте, открыв свой абонентский ящик, она задышала часто, часто под вуалькой, для чего-то оглянулась. В односложной корреспонденции одной ей понятным текстом сообщалось: «Жди. Буду. Четверг. 28». В этот день совпадало все. Разлука на месяцы, с перенесением даты, на этот раз исключалась. (Но было и такое). Вот – опять звук. Теперь уж точно – из внутреннего дворика. «Мадам, к вам…»
Порывом руки – все в ней сдвинулось, оторвалось – отослала служанку. Найдет ли она еще время, чтобы хоть кем-то стать? Обретет ли себя?
*** 27 ***
В комнату стремительно вошел Гирш. В дорожном костюме, альпийских тяжелых ботинках. С порога на софу полетел плоский чемоданчик, кепи.
– Зоя! – произнес он по-русски.
Женщина отпрянула. (Взгляд – за спину ему). Руки стиснуты у груди. («Никогда. Никогда. Забудь».)
– Mon ami, je ne croistu… («Мой друг, я не понимаю»)
– К черту, Зоя, – повторил он тише, по слогам, вскидывая голову. – Изумительный результат. Целую…
Гирш быстро подошел к ней, полуобнял, притянул к себе за талию. Головы их, руки встретились. («Значит, еще не конец», – каждый из них подумал). В его лице – пасхальные свечечки, под взгляд Антихриста.
– Так что у тебя? – через минуту спросила женщина, вздохнув, отойдя к окну и оправляя платье. После этого «Зоя», произнесенного почти в вальяжной манере, она уже не знала, как и вести себя. Но ведь должно быть у него оправдание этому.
– Фантастический результат. Гм. В перспективе – не уступит нашей золотодобывающей шахте. Краеугольный эксперимент… – уверяя в чем-то ее, Гирш прошел к буфету, налил рюмку мадеры, выпил. Прищелкнул пальцами. Под скачок упругой крови – заложил крутой вираж по комнате.
– Можешь отослать прислугу. Позаботимся о себе сами. Нам не впервой с тобой… Сегодня наш вечер. Есть и некоторый разговор.
Чуть призадумавшись, женщина спустилась вниз. Отдала распоряжения. О самом ужине она позаботилась еще с утра.
Когда она вернулась в комнату, Гирш уже растянулся на софе, – под головой один из ее лебяжьих пуховичков с кисточками, ноги (хорошими манерами он никогда-то не отличался) закинуты на подлокотник кресла. Она уже подумывала, – запустить ли в него чем-нибудь, или выкурить длинную папиросу. Остановилась на последнем. Кося глазами на мужчину, странно тайно улыбаясь, подняла вровень с лицом белую стиснутую руку, крутанула опаловое кольцо. Взяла мундштук. Закурила.
Португальская мадера и четверть часа отдыха освежила Гирша. Рывком он поставил себя на ноги. Методично зашагал по комнате. Вскидывал голову, останавливаясь. Жмурился на яркий свет люстры – отвыкший. Складывал руки за спиной и вновь прятал их в карманы брюк. Она одна, наблюдавшая за ним с тихой улыбкой, знала, что он такой – на полном серьезе. Угадывала за каждым жестом – всю преступившую, неизбывную волю его. Он себя уже «доказал», пусть и в какой-то страшной теореме «от противного». Нельзя вычесть минус, если за этим рушится само здание математического анализа.
– Еще три, четыре месяца… пусть полгода, и снимем апартаменты хоть в Зимнем дворце, – Гирш засмеялся каким-то злым смехом пересмешника. – Они будут у меня вот где… (ребром ладони по ладони).
Спине женщины стало зябко. Она накинула на плечи черную вязанную шнурком испанскую шаль. Произнесла тихо, почти нежно:
– Разве дело только за этим. С этим ли все переменится?..
– Знаю. Но исполнится все. Верь. Все эти четыре года дьявольской работы я был на верном пути… Да, я ведь только что из Берна. И представляешь, – он хмыкнул, полузакрыв глаза, – ты теперь по-настоящему вхожа в историю, с самого парадного входа. Вскоре, на аукционе «Кристи», будут предложены для торгов твои личные вещи: дневники, орден Божественной Зои, что-то там еще… кажется бальные туфли и подвязки. А что?
С минуту – сама непосредственность – женщина смотрит как с фотографии ослепленная магниевой вспышкой кинодива.
– Гари… ты с ума сошел! – так же, по сумасшедшему захохотала. Смеясь, вплотную подошла к этому невозможному человеку. Приложила палец к его губам. Повторила чуть слышно: – Гарин, ты сумасброд. Я давно это подозревала.
– Это еще что, – невольно подтвердил тот. – Знаешь ли ты, кто будет экспертом по этим вещам? Ну, догадываешься?..
(Зрачки женщины останавливаются, как у мертвой, леденеют. «Это невозможно!»).
– Ну да – Роллинг. Он самый, – старый дружище, – ухмыльнулся Гарин.
Зоя высвободилась из-под его рук. Прошла на другую половину комнаты. Смотрела оттуда – не видящая.
– Ты действительно ненормальный, Гарин! Ты что задумал? – через секунду, нахмурившись, хрустнув пальцами (камни впились). – Это опасная игра. В нем только потому и теплится еще жизнь, что мы не мертвы. Наши гарантии… их не существует.
– Мне странно это слышать. Ты опять… – недовольно произнес Гарин. – С чего ты взяла?
– Убеждена. Он знает, или сильно подозревает… В могилу он потащится только с нами.
Гарин легкомысленно отмахнулся.
– Тем лучше, в конце концов. Будет сговорчивее. Старичку не хватает лишь кондрашки – ко всему прочему, чем он владел в своей жизни. Ему будет, что вспомнить для этого. Чем не тема – договор от 23, шестого месяца, 26 года, Фонтенбло. А пока пусть утешится, почитает дневники «ранней» Зои.
Опять женщина не знает, что ей и думать. Лучше вчувствоваться в это – (что-то льстит ее артистическому вкусу); тем более, что эти, с позволения сказать «дневники», она сфабриковала сама, по заданию Гарина, делая записи на бумаге отличного довоенного образца. «С хорошей порцией хлорки и ультрафиолета, – глумился он, – эти чернила состарят тебя лет на двадцать». Сочиняла она, путаясь в настроениях и годах, выказывая порой мысли, и знание людей совсем не по возрасту своих «тех лет». А сейчас – с каким-то странным тщеславием автора – будто опасалась на предмет своей репутации. («Чуден человек», – сама же констатировала Зоя).
– Ты хочешь сказать, – в замешательстве спросила она, – что Роллингу ничего не останется – в твоем понимании, – как платить по долгам?
Гарин медлил, пребывая точно в прострации, и что можно было сравнить разве что с душевным состоянием Наполеона, в момент объявления его «вне закона» французским парламентом (так подчас переживал он свои слабости). И все же, этим поступком он загнал себя и Зою в комбинационную сеть. Если Роллинг найдет какой-то тихий, неучтенный им ход, то положение Зои в качестве «разменной королевы» станет угрожающим. Тем временем, не дождавшись от него ответа, она продолжила:
– Между прочим, хочу высказать тебе свои претензии. Ты – мот, Гарри, ты растратил все, что у меня было! Каким активом ты хочешь обеспечить мое будущее? Гарин, твое предприятие ничего не приносит, как мне кажется, ты стал слишком академичен.
Гарин с хрипотцой рассмеялся. Потянулся. Быстро подошел к женщине, и, как ни держалась она своей прически, платья, поцеловал ее в запрокинутое лицо.
– Все у нас сладится. Вот такой – ты мне нужна. Такой – люблю. Будь иронична, зла… везде; ты меня понимаешь? (Зоя опустила ресницы – еще бы). Если вот этой рукой ты не посылала бы людям смерть – режущим лучом, если бы этими пальцами не перебирала в сумочке последние жалкие песо, перед тем соря золотом, кем бы ты была? Вот только такой тебя и принимаю. Будь.
– Буду, – скромно пообещала Зоя.
– И о делах пока все. Сейчас ванну, и затем, надеюсь, ужин. Со вчерашнего дня, по-настоящему, кроме дырки от торроидального бублика – во рту, ничего.
Зоя хотела переспросить, но передумала: к любым странностям рано или поздно привыкаешь.
Через сорок минут Гарин стоял у зеркала, маскируя плеши, причесываясь Зоиным же малахитовым гребнем, и все не решивший, на какой манер приладить ему прядь со лба. Взял на хохолок. Накинул домашний пиджак. Фатово сколол атласный, шейный платок жемчужной булавкой. Прищурился, подмигнул себе в зеркале. («О, Кей, Гарри, будем демократичны»).
Вдвоем, под руку, они спустились в столовую.
*** 28 ***
Здесь было много больше радужного, и как-то легкомысленного света. Четыре окна – витражом, являли собой сцены охотничьей и пастушьей жизни. На середину столовой был вынесен трапезный стол, дубовые стулья с высокими, прямыми спинками; с искусной резьбой по дереву: человеческие сердца, рожицы троллей, плоды и листья. В глубине помещения журчал фонтан, сложенный из цельных, округлых камней, а все кругом по доброй швейцарской традиции – цветник. Надоевшие альпийские розы, флоксы, настурции. В ящиках, в больших фаянсовых «супницах», в глиняных горшочках, и совсем уже – плошках, в которых, верно, тысячелетия назад плавал в сале коптящий язычок пламени. Ведь и тогда любили и умели ждать.
Они были вдвоем. Одинокие – подняли тост, ставший их девизом со времен Золотого острова: «За чудо, за гений, за дерзость».
Ел, пил один Гарин. Зоя подливала ему густого темного вина, поднимала свой бокал, когда, меж блюд, он пытался уловить неровный отсвет ее глаз, то близких ему, то разошедшихся, казалось, с самой жизнью. Губы ее выговаривали самой себе: «Гарин, Гарин, вот ты здесь; опять мы вместе. Говоришь: будь. Да. Пока – еще молода. Завтра, послезавтра ты умчишься… (он кивнул, оставляя спаржу и накидываясь на тушеного кролика с картофелем и бобами, макая хлеб в острый соус и прикладываясь к своему фужеру, – серебро, с чернью). Слишком, слишком единственный, чтобы еще кем-то быть», – Зоя вздохнула, чокнулась сама с собой, изрядно осушила бокал. Продолжила: «И суша тебе не суша, и вода не вода. (Опять он кивнул, накидываясь на дрожащую ледяную рыбу). Дай тебе – кто? Бог, сатана – удачи. Какая разница: была бы только она», – с Евиной мудростью и цинизмом рассудила Зоя. (Гарин одобрительно пробормотал, памятуя какую-то теорию относительности). Зоя высказалась более конкретно, адресуя ему:
– Я не знаю, что из этого всего выйдет. Я – женщина.
– Но какая! – открыл, наконец, рот Гарин.
– Я не могу проникнуть в твои замыслы. Ты всегда на краю… на обрыве… чтобы желать тебе какого-то еще продолжения. Понимаешь ли ты это сам… (все глуше и все отрывистее говорила она.) Ты ни добр, ни зол – умствующая стихия; ты называешь это безграничной властью, но это только крайнее твое усилие оставаться еще человеком. Однажды все тебе было дано по полной мере, но и это все был ты… Не возносись. В тебе – я люблю себя.
– За тебя, Зоя, – Гарин поднял свой бокал. – Будь всегда. Я часто говорил и повторяю: без тебя мое дело мертвое. Вот ведь… – лицо его как-то «осиротело», губы (наивно) прыгнули. – Нашим невзгодам конец. Все это лихолетье мы были на верном пути. За финансовую сторону не беспокойся. Есть у меня должник, ты знаешь, и расписку соответствующую давал… Верно, я говорю? Время пришло, – строго на этот раз, взглянув на женщину, как на сообщницу, сказал Гарин.
– Что же, – горько проронила Зоя, – снова воевать на его денежки. История дважды не повторяется, Гарин.
– Знаю. На этот раз обойдемся формальной стороной дела. Потом же – все имеет свой резон. Старичку – покой. Нам – причитающиеся дивиденды. Жить с видом на позднюю осень, и в ожидании электрического стула – не лучшая старость. Облегчим участь Роллинга. – Он подмигнул Зое.
– И что потом? Только одни денежки? Скучно, пошло. Однажды я этим уже набила оскомину. Миллионерша. Фу. Да и какой прок от этого, если все одно – золотой футляр. Я так больше не могу, Гарин.
Зоя глядела перед собой темнеющим взором; лучше так – видеть далекую, пусть слабую, но свою звездочку, нежели безграничные, и чужие горизонты.
У Гарина упала прядь на лоб. С минуту он смотрел на женщину, осмысливая ее слова. Затем пробормотал:
– Нет, для сегодняшнего вечера это было бы слишком сложно. (Громче). Потом – будет почище прежнего, Зоя. Будет мой аппарат, перед которым гиперболоид покажется чахлым вздором. Потом…
– Будет террор, почище 93 года, – мрачно продолжила за него Зоя, памятуя известные события Великой французской буржуазной революции. – Я требую сто тысяч голов. Я этого хочу.
– Будь, по-твоему, кроха, – благодушно произнес Гарин, откидываясь на высокую спинку стула и с любопытством поглядывая на женщину. Затем, потянувшись, извлек из кармана пиджака обмусоленную сигару, со вкусом закурил, подвел глаза к потолку. – Но где ты сыщешь в Европе столько аристократов. А? – произнес он, с кривой усмешкой, на сторону.
– Я предъявлю Европе счет.
– Вот это ты хорошо придумала, лапушка, – оживился Гарин, влезая на своего любимого конька. – Ах, Зоя, друг мой, ты одна знаешь, какого я свалял дурака, когда разворошил эту жирную навозную кучу – Соединенные Штаты. Что можно было доказать этим людям, на что их подвигнуть, если они уже получили свое… неизбывно заветное – золото, океан золота… жучки-долгоносики, – анализировал Гарин просчеты своей «компании» года 192… – Да и сам я был хорош. Главный буржуин! Хе, хе. (Он залился дребезжащим смешком, наподобие того, какой примечался у Льва Троцкого). Завладев половиной мирового запаса, я стал одним из них, и самым жирным золотым жуком. (Ха, ха, ха). Ни какая Европа не приняла бы меня такого… Континентальные страны – Франция, Германия… весь Норд – не приняли бы этой тотальной американизации. Была бы война, пострашнее 14 года, я бы одержал победу, но это стала бы пиррова победа… Европа, воспользовавшись своим геополитическим положением, колонизацией стран Африки, полным бесконтрольным влиянием на Ближнем Востоке, культурой своей и наукой…
Журчал фонтан. Радужный свет витражей померк, но ярко светила зажженная люстра в богатом стеклярусе и позолоте. Свет падал на каменный, мозаичный пол, на всю обстановку здесь – достаточно скромную, на двух этих странных людей. Со стороны, правда, можно было подумать, что в этот тихий летний вечер, в одной из благополучнейших стран мира, в уединенном палаццо, за столом сошлись политолог-аналитик Новейшей истории, изощряющийся в остроумии и дерзостях, и великосветская дама, с прической времен отравительницы Екатерины Медичи, которая, и сама, будучи не лыком шита, ввертывала замечания касательно, этикета и привычек (по большей части интимных и дурных) некоторых королевских домов Европы. Или же (можно было подумать) разыгрывается некий политический театра абсурда. Но лица их – этих людей – вспыхивали как-то особенно живо; в словах не было актерской аффектации или сухого педантизма историка, увлечение беседой казалось неподдельным. (Игра на публику исключалась категорически, под страхом смертной казни). Мужчина, не высидев на своем стуле, соскочил и, расхаживая, стал развивать умопомрачительные планы. Слушавшая его со всей серьезностью женщина, закинув за голову красивые руки, чуть покачивалась на стуле, в такт чересчур обнаженной для такого политизированного вечера ноги, ни схожего, ни с какими дипломатическими раутами. И все же – во мнении постороннего – это выглядело бы крайне подозрительно, не знай он, что этот бледный, подвижный, странно гипертрофированного ума человек, с оттененным взором, некогда пробил глубочайшую на земле шахту и черпал оттуда золото, будто жидкую глину, в неограниченном количестве; а до того, изрядно поднаторевший в злодеяниях, успел прослыть «врагом рода человеческого». Слушавшая же его дама – красавица-бесовка – в свое время пиратствовала, поджигала корабли, обкладывала данью приморские города, и многие из заслуженных людей (не исключая папу римского) счастливо остались при своей «шкуре», что она изъявляла желание драть живьем.
Так они сидели-похаживали, болтали – одинокие, как всегда; отпускали друг другу комплименты, длинно улыбались, коротко вздыхали. Много курили и метили окурками в кофейные чашки и мельхиоровые кубки. Но ничего не вспоминали. Прошлого не было. Перспектива – неясна. Только завтра открывалась для них некая дверь… Вот только знать бы, что из всего этого выйдет?
Гарин выжидающе отдыхал, предоставив право следующего хода своему противнику.
Зоя ничего не делала, ничего не думала. Ее время еще не пришло.
На город ложилась ночь. Развертывалась плотская, поистертая жизнь нуворишей всякого рода, праздных денди, «звезд» – в казино, ресторанах, на танцевальных верандах. Над большим озером спускался туман. Здесь же, – на минуту что-то сошлось, как концы с концами, из того, что подразумевается «под ролью личности в истории», и разошлось до Второго пришествия.








