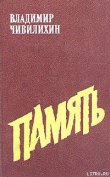Текст книги "Память (Книга первая)"
Автор книги: Владимир Чивилихин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
В этом письме Пушкин допустил, кажется, единственную свою историческую ошибку – малороссийский гетман Петр Дорошенко, упокоившийся в Яропольце в 1698 году и названный в «Полтаве» «старым», приходился Наталье Николаевне прапрапрадедом. Кстати, и надпись на каменном надгробии Дорошенко тоже содержит историческую неточность. Сейчас, правда, не разобрать ни одного слова – известняк плохо выдерживает морозы, солнце, дожди, снега и ветры, но в 1903 году здесь побывал Владимир Гиляровский, и воспроизвел еще различимые тогда строки: «Лета 7206 ноября в 9 день преставился раб Божий гетман Войска Запорожского Петр Дорофеевич Дорошенко, а поживе от рождества своего 71 год положен бысть на сем месте». У запорожских казаков никогда не было гетмана, только выборные кошевые, войсковые судьи да писаря…
Не знаю, какой вид во времена Пушкина имел «полуразрушенный» дворец Загряжских-Гончаровых, названный Гиляровским «дивным», но я его застал почти полностью разрушенным фашистами, которые в комнате, где останавливался поэт, содержали лошадей. И оккупанты, наверное, не знали, кто был захоронен по соседству, неподалеку от Дорошенко, иначе бы непременно взорвали его склеп. Дело в том, что рядом, в четырехстах метрах от стен гончаровского дворца, располагался еще один великолепный дворец – Чернышевых.
Долго я бродил по заглохшему парку в пойме Ламы – секретов его устройства, систем каналов и прудов до сегодня не могут разгадать ландшафтные архитекторы. На одной из террас – диво дивное русского паркостроительства. Стоит обелиск в честь посещения этого имения Екатериной II, а вокруг удивительная карликовая липовая роща, коей нет аналогов в мире. Правда, карликовой липы как ботанического вида не существует в природе, но безвестный гениальный паркостроитель создал на террасе такую почву и так ее дренировал, что липы выросли метра на четыре в высоту, сомкнули кроны и замерли…
Огромный – четыреста двадцать метров по фасаду – дворец Чернышевых тоже лежал в руинах, а напротив стояла уцелевшая церковь, где в родовом склепе покоился прах Захара Григорьевича Чернышева, военного и государственного деятеля России, чье имя когда-то прочно вошло в историю и долго держалось в народной памяти.
Фашистские оккупанты, конечно, разнесли бы взрывчаткой по ветру прах графа Захара Григорьевича Чернышева, если б знали нашу и свою историю. И совсем не потому, что этот человек будто бы дерзил когда-то прусскому королю и стал героем народного русского эпоса. Через два года после освобождения из немецкого плена генерал Чернышев во главе своего корпуса с бою взял Берлин и доставил символические ключи от этого города в Петербург… Берлин был повергнут впервые в истории, и на это событие откликнулась еще одна солдатская песня XVIII века:
Ой да как и стужится,
Стужится да сплачется
Вот бы сам прусский король:
– Ой да не жалко-то мне,
Не. жалко мне Берлин-города,
Жалко мне мою армию.
С моими-то было
Вот и с генералами, —
Лежит вся побитая!
До чего ж хороша, исторична эта песня!
Парки и сады для меня были интересны сами по себе, они завлекали своим разнообразием и количеством – помню, как я поразился, узнав однажды, что в средней полосе России числилось когда-то три с половиной тысячи парков! Лучшие творения садово-паркового искусства своеобразно представляли тогдашние идеалы красоты, и в островках природы, организованной человеческими трудами и талантами, мне виделись прообразы земных ландшафтов далекого будущего. Мне нравилось узнавать самые мелкие подробности устроения этих оазисов, имена авторов растительных шедевров, истории, связанные с их владельцами. Все это незаметно погружало в прошлое, расширяя круг интересов. В дворцах и окружавших парках некогда зарождалась и зацветала русская культура, отражаясь в литературе, архитектуре, живописи, Ваянии, музыке, театральном и прикладном искусстве, в них находила отзвуки политическая, социальная и военная история России.
После окончания университета меня взяли в столичную газету и поселили в Вешняках. Комсомольское наше общежитие стояло на самом краю Кусковского парка. Это удивительное создание рук человеческих четыре года тихо соседствовало рядом, и постепенно я привязался к нему чувством почтительной благодарности. Сюда было хорошо прийти после ночного дежурства, забыть лихорадочную беготню по этажам, конфликты с метранпажем и корректорами, отдышаться от наркотических запахов табачища и кофе, от ядовитых испарений свинцово-цинково-сурьмяного типографского расплава, отдохнуть от стрекота линотипов и рева печатной машины.
Выходишь, бывало, поутру из cвoero желтого, казарменного типа здания, медленно, не сразу входя в новый день, бредешь вдоль скучной тополиной аллеи к железным воротам и через сотню метров за ними поднимаешься на земляную плотину. Взгляду открывается пруд, но это простое слово как-то не подходит к тому, что ты видишь. Прямоугольное водяное зеркало с чистыми низкими берегами служит именно зеркалом великолепного дворца, который весь, с мельчайшими подробностями, отражается в нем вместе с изящной церковкой, отдельно стоящей колоколенкой и верхней кромкой сада.
Зеркало это не простое, волшебное: только с виду прямоугольное, а на самом деле его очертания напоминают трапецию, хотя этого совершенно не замечаешь. Зеркало завораживает глаз удлинением перспективы, сочетанием серебряной плоскости с окружающим пространством парка, и этот свободный зеленый простор тоже таит в себе какие-то секреты, сразу не поддающиеся пониманию. Почему в нем утопает взгляд, отчего здесь хочется бывать и быть? В плане парк асимметричен, но в натуре этого тоже не увидеть, потому что паркостроители во главе с крепостным Алексеем Мироновым, учтя особенности зрительного восприятия, создали лишь иллюзию строгой симметричности, а также искусственно углубили пространство с помощью диагональных аллей, посадок, распланированных под определенными углами, и других «секретов». Кусковский парк принципиально отличается от геометрически прямоугольного, стандартно-симметричного Версаля, который я увидел спустя много лет, является единственным на всю нашу страну произведением ландшафтной архитектуры, сохранившим основные черты своего облика с XVIII века.
Представляю, как двести лет назад пришли на совершенно плоскую равнину без единой речушки либо холмика талантливые крепостные паркостроители, архитекторы, садовники, скульпторы и, тонко чувствуя особенности этого довольно ординарного уголка русской природы, сумели создать редчайший по цельности замысла, сочетанию пропорций, органически слитный с окрестностями дворцово-парковый ансамбль. В каком бы месте этого ансамбля ты ни оказался, всюду над тобой широко распахнутое небо, а вокруг тебя и самой дальней дали – рукотворная красота. Как могли несвободные люди создать такое ощущение свободы? И не стремление ли к ней выразили они своим непревзойденным художественным творением?
Большой пруд когда-то представлял собою довольно сложное устройство для увеселений. На острове было отсыпано четыре симметрично расположенных мыса, и пушки с них бухали ровно в полдень, к его пристани причаливал большой парусный корабль, а на лодках можно было плыть в глубь парка по длинному каналу, в начале которого до сего дня стоят высокие каменные колонны с чашами, где во время ночных празднеств жгли когда-то горючие жидкости. Канал этот идет точно по оси дворца, в конце его располагался круглый «ковш» со своим необыкновенным секретом – по местности, повторяю, не протекало никаких речек, но создатели парка нашли ключ. Он в три струи бил из подпорной стенки, питая канал и пруд. Центральная струя совпадала с осью канала и серединой далекого дворца…
А однажды поздней осенью, когда в парке уже облетел лист, а канал и большой пруд затянуло тонким льдом, я обратил внимание, что в маленьком пруду близ Голландского домика почему-то стоит светлая вода, обрамленная необыкновенной, словно бы полированной рамкой – прозрачными ледяными забережками. Отчего этот пруд не застывает так долго? Оказалось, что создатели парка, подбирая ключи к здешней природе, нашли все местные родники и замечательно их использовали. Прудик у Голландского домика доныне питается невидимыми подземными струями и зазимками долго не замерзает в закаменевших от стужи берегах. И еще один секрет есть у у этого заливчика – он только кажется прямоугольным; человеческий глаз так воспринимает его трапециевидную форму… Голландский домик до сего дня привлекает своей непривычной для русского глаза строгой и компактной архитектурой, ярко-красными кирпичами плотнейшей кладки, ни один из которых за двести лет не дал ни малейшей трещинки. По другую сторону парадного паркового партера стоит не менее привлекательное сооружение под куполом, контрастируя с Голландским домиком внешними формами и нигде больше в нашей стране не встречающейся внутренней отделкой, – стены Грота покрыты оригинальным орнаментом из туфа и разноцветных перламутровых раковин, привезенных с далеких южных морей. Проектировал Грот талантливейший крепостной архитектор Федор Аргунов.
Неподалеку от Грота – Итальянский домик с его странными барельефами, изображающими в профиль нарочито вульгарные лица древнеримских патрициев, а также Зеленый театр – единственное в Москве и Подмосковье сооружение такого рода, еще сохраняющее некоторые прежние контуры. Зеленый театр при его кажущейся простоте имел в плане сложнейшую конфигурацию, а в устройстве – множество своеобразных и неповторимых деталей. Роль занавеса выполнял раздвижной щит, на котором была изображена уходящая вдаль березовая аллея, как бы продолжающая естественную, парковую. Перед спектаклем щит раздвигался, что создавало иллюзию мгновенного исчезновения большого участка парка, и перед зрителем открывалась большая сцена с подвижными кулисами. Невидимый оркестр играл как бы из-под земли – перед сценой была выкопана щель шириной в две сажени и длиной в пять. Артистические комнаты находились в стриженой зелени по бокам сцены, насыпной амфитеатр с дерновыми скамьями был выполнен в форме плавного полуэллипса, и на него бросала в полдень свои трепетные тени березовая роща.
Со своим секретом был и Эрмитаж – двухэтажное каменное строение вычурной архитектуры, стоящее в центре скрещения восьми аллей. Эрмитаж в Ленинграде– это известнейшая и ценнейшая коллекция произведений изобразительного искусства, в Москве есть сад «Эрмитаж», но что такое эрмитаж в начальном своем значении? Помнится, заглянул я в словарь французского, оставшийся у меня со студенческих лет, и выяснил, что слово это означает келью, обиталище отшельника, место уединения. В Эрмитаже Кусковского парка можно было в старые времена принять гостей без свидетелей. Во втором этаже его находился стол на двенадцать персон, который обслуживался из подвальной части, – механические устройства подымали блюда наверх, и слуги ничего не видели и не слышали.
В самом дворце, в основе его строительства, была заложена какая-то редкая находка, иначе он не простоял бы в таком виде двести лет – ведь все это величественное и стройное здание, так похожее на мраморное, было сооружено из обыкновенного дерева, материала, дающего со временем осадку, сгнивающего от влаги. Наш тайгинский домишко, срубленный, согласно старому документу, в 1904 году, к последней войне подгнил понизу, весь покосился, и я помню, как заделывал его расширяющиеся пазы мхом и замазывал глиной. И ведь он стоял на горе, вдали от воды. А к этому дому-дворцу почти вплотную подступал большой пруд и пруд маленький, у Голландского домика шлюзы держали в нем уровень почти у поверхности земли, так что грунтовые воды увлажняли прилегающую часть парка, незримо подтекали под фундамент дворца. Почему же они за двести-то лет не сгноили сваи, нижние венцы, не перекосили окна, крышу, не похилили колонны? С восхищением я узнал про два особых секрета, которые заложил неизвестный архитектор в свой первоначальный проект, а крепостной Алексей Миронов перестроил по этому проекту весь, как ныне говорится, объект.
Первый секрет – дубовые, глубоко забитые сваи, которые не гниют в воде, а только крепчают. Недавно болгары раскопали на берегу Дуная прочные дубовые сваи моста, построенного еще римским императором Траяном! Я чуть было не написал «прочные, как железо», но вспомнил, что железо-то за полтора тысячелетия было бы бесследно съедено ржавью. Морёный дуб также не пища для жучков-древоточцев, грибков, всяческой плесени, и выходит, что сваям Кусковского дворца в ближайшую тысячу лет ничего не грозит, если только ненароком, по незнанию или какой-нибудь разновидности злого умысла, не вмешаются в их верную подземную службу люди.
Не менее интересным был секрет второй, гарантирующий многовековую стройность здания. Оказывается, оно не срублено и не сложено из бревен, а составлено. Бревна в горизонтальном положении влегают в пазы, старея, рыхлеют неприметно, так что венцы даже из самого прочного дерева дают со временем осадку. А вертикальная жесткость бревна необычайна и не уступит иному современному строительному материалу. Оказывается, не только мы, обнаружившие вдруг потребность в новой науке – бионике, стремимся узнать, понять и выгоднейшим образом использовать свойства живой природы; это делали наши предки задолго до нас, исходя из своих знаний и потребностей.
Не перестает удивлять и восхищать это простое и великое инженерное открытие строителей Кусковского дворца. Бревна в его стенах стоят так, как они жили, – вертикально и комлем вниз. Ни малейшей осадки не дали они, но это не единственное их достоинство. Стоящее дерево и сохнет и вбирает влагу по-особому – недаром погибшая лесина не падает еще много лет. Комель имеет более плотную тяжелую древесину, насквозь пропитан смолой, приближает к земле центр тяжести дерева и, выдержав при жизни огромные и длительные нагрузки на слом и сжатие, сформировал себя в виде прочнейшей, утолщающейся книзу колонны. Колонна здания – думалось попутно мне – это, в сущности, ствол дерева, шпиль – вершина его…
Природа и «вторая природа» связаны между собой теснее и сложнее, чем кажется нам с первого взгляда, и в этих связях есть тончайшие оттенки, вызывающие у людей труднообъяснимые чувства. В том, что строители Кусковского дворца так своеобразно использовали свойства дерева, было что-то необыкновенно притягательное – шло это от того, что родился и вырос я среди деревьев, и степной или горный житель мог остаться совершенно равнодушным к тому, что так привлекало меня. Дворец, наполненный произведениями крепостных мастеров кисти, резца и ремесел, в котором даже полы, набранные из множества фигурных древесных кусочков, есть шедевр старинного прикладного искусства, почему-то виделся мне прежде всего своей основой – вечными дубовыми сваями и стенами «в стойку». Нет ли в Москве еще какого-нибудь приметного дома, составленного из бревен? Неужто этот исключительный опыт пропал втуне и ни один из русских архитекторов или строителей не взял его позже в свой арсенал? И я очень обрадовался, найдя в столице еще один такой дом на улице Казакова, в котором ныне размещен НИИ физической культуры. Обрадовался вдвойне, потому что дом этот проектировал и строил сам Матвей Казаков.
Парк вокруг Кусковского дворца я видел в разные времена года, изучил в нем каждый уголок, издали узнавал любимые деревья, аллеи, беседки, но всякий раз непременно взглядывал на парадный его партер. Он тянется к красивой двухэтажной оранжерее и обрамлен рядами старых лип, сформировавших плотные шаровидные кроны. Газоны и цветники разграничиваются песчаными дорожками и мраморными античными скульптурами. В центре партера стоит белый пирамидальный обелиск, напоминающий о посещении усадьбы Екатериной II, а за ним высятся две огромные сибирские лиственницы. За двести лет одна из них вытянулась, как-то вся подобралась, другая пошла вширь, и нижнее саблевидное ответвление так велико, что добрый десяток фотографирующихся экскурсантов садятся рядком на его пологом изгибе. В стародавние времена вокруг лиственниц плелись сложные орнаменты из дернины и цветов, выращивались совершенно забытые в практике современного парководства так называемые «живые ковры» – мелкие цветы подбирались таким образом, чтобы после их стрижки получались красочные узоры с неповторимой гаммой, какую нельзя создать ни кистью художника, ни подбором разноцветных камней, раковин, тканей либо стекол. И все это виделось когда-то из дворца как на ладони.
До наших дней таится в партере Кускова одно совершенно исключительное качество, особый секрет талантливого паркостроителя. Весь этот участок регулярного сада воспринимается как абсолютно ровная плоскость, но однажды ранней весной я заметил, что от оранжереи к дворцу живо бегут ручьи, подбавляя, должно быть, влаги его дубовым устоям. От дворца же просторный этот партер смотрится будто нотный лист на пюпитре. Дело в том, что творец парка дал небольшой уклон всей плоскости партера, искусно замаскировав свой секрет окружающими посадками. Особенно хорош партер в солнечный день, когда он расстилается перед тобой разноцветным радостным видением…
5
Все в Кускове, а также в Останкине, Астафьеве и некоторых других усадьбах принадлежало когда-то роду Шереметевых по его графской линии. Часто посещая дворец и парк, снова и снова восхищаясь ими, я не ощущал никакого почтения, к этому роду, ублажавшему, себя изысканной роскошью за счет несчастий наших пращуров, но в душе был доволен таким стечением давних обстоятельств, которое позволило Шереметевым не промотать свои богатства в Парижах, а выявить с их помощью талант русского человека, сконцентрировать его в архитектурном, изобразительном, садово-парковом искусстве и сохранить для потомков. Живо представлял себе, как крепостной Алексей Миронов приезжает сюда, в кусковские просторы, вышагивает версты по сырому мелколесью и кочкарнику, мучительно размышляя, каким манером отойти на этой скучной равнине от модной французской планировки, сочетать свое, неповторимое с русскою натурой, чтоб все тут беззвучно заговорило.
Вот крепостной Федор Аргунов, построив петербургский дом Шереметева на Фонтанке и разбив возле него тесные садовые павильоны, садится в Кускове за чертежи Оранжереи, «зверинца», Голландского домика… А вот сын его, крепостной Иван Аргунов, пишет маслом портреты Шереметевых, Голицыных, самой Екатерины II, с такой виртуозной тщательностью прорабатывая тончайшей колонковой кистью кружева и складки платья, что они становятся демонстрацией изысканного артистизма художника, и много позже, будучи уже седым, по-прежнему несвободным, простыми живописными средствами создает «Девушку в кокошнике», пробуждая интерес к человеку, а не к его убору. Вот сын Ивана, крепостной Павел Аргунов, ставит для своего господина в Останкине – и тоже на дубовых сваях – изящный деревянный дворец-театр и оранжерею в саду. И только брат Павла живописец-классицист Николай Аргунов стал свободным, потому что крепостного нельзя было избрать в Академию художеств… Виделось, как месяцами ползают по полу в войлочных наколенниках безымянные рабы-мастера с миниатюрными фуганками и мелкозернистыми брусочками в руках, набирая по аргуновским чертежам сложнейшие узоры и меряя плашки дорогого черного дерева дробненькими линиями, коих содержалось десять в русском дюйме, и едва видными точками, коих было десять в линии…
Ну а Шереметевы-то, кто они такие? В старой России, среди самых богатых родов выделялись три семейства, обладавшие неисчислимыми сокровищами, – Шереметевы, Строгановы и Демидовы. Об истинных размерах этих богатств можно, не боясь преувеличений, строить самые смелые предположения – достаточно сказать, что Прокофий Демидов, например, во время первой турецкой войны ссудил правительству круглым счетом четыре миллиона рублей!
Заводчики Демидовы повелись от тульских кузнецов, «именитые люди» Строгановы – от солеваров и купцов, а Шереметевы после Рюриковичей считались чуть ли не самыми родовитыми в России: у них с царской династией Романовых со времен Дмитрия Донского значились общие предки – московские бояре Андрей Кобыла и сын его Федор Кошка. К этому старинному роду принадлежал выдающийся русский полководец и дипломат генерал-фельдмаршал Борис Петрович Шереметев. Он участвовал в Азовском походе 1695 года, в Нарвском сражении 1700 года, командовал русскими войсками и победил у Эрестфера в 1701 и Гумельсгофа в 1702 году, позже брал Нотенбург и Дерпт, стоял против Карла XII иод Полтавой, вел русские армии в Прутский поход 1711 года, командовал корпусом в Померании и Мекленбурге в 1717 году. За немалые заслуги перед отечеством Петр I пожаловал ему первый в России графский титул.
А что же представляли собою как личности те Шереметевы, при которых создавались Кусково и Останкино? Лучше всего, пожалуй, об этом скажет их современник. В студенческие годы прочитал я двухтомный труд с «ятями» и «ерами» – дневники одного одаренного молодого человека, крепостного Шереметевых, который неуемной страстью к чтению и ранним развитием обратил на себя внимание петербургских покровителей.
Вспоминая прошлое, автор пишет: «Тогдашний граф Шереметев, Николай Петрович, жил блистательно и пышно, как истый вельможа века Екатерины II. Он к этому только и был способен… Между своими многочисленными вассалами он слыл за избалованного и своенравного деспота, не злого от природы, но глубоко испорченного счастьем. Утопая в роскоши, он не знал другого закона, кроме прихоти. Пресыщение, наконец, довело его до того, что он опротивел самому себе и сделался таким же бременем для себя, каким был для других. В его громадных богатствах не было предмета, который доставлял бы ему удовольствие. Все возбуждало в нем одно отвращение: драгоценные яства, напитки, произведения искусств, угодливость бесчисленных.холопов, спешивших предупреждать его желания – если таковые у него еще появлялись. В заключение природа отказала ему в последнем благе, за которое он, как сам говорил, не пожалел бы миллионов, ни даже половины всего своего состояния: она лишила его сна».
В последнем слове этой цитаты – опечатка, корректорская «глазная» ошибка издания 1905 года. Следует читать: «она лишила его сына». Это было необходимо отметить, потому что о сыне Шереметева нам придется вспомнить, а также коснуться попутно еще одной ошибки мемуариста, которую я обнаружил недавно и считаю своим долгом восстановить истину, касающуюся довольно заметной личности в истории отечественной культуры.
Отец автора вышеприведенных строк подростком пел в капелле Останкинского дворца-театра, был известен, самому графу, ему оказывал свое внимание «знаменитый и несчастный» Дегтяревский, «угасший среди глубоких, никем не понятых и никем не разделенных страданий. Это была одна из жертв того ужасного положения вещей на земле, когда высокие дары и преимущества духа выпадают на долю человека только как бы в посмеяние и на позор ему. Дегтяревского погубили талант и рабство». Необыкновенно талантливый музыкант, композитор, как говорится, волей божьей, он учился в Италии, где его музыка заслужила «…почетную известность. Но, возвратясь в отечество, он нашел сурового деспота, который, по ревизскому праву на душу гениального человека, захотел присвоить себе безусловно и вдохновения ея: он наложил на него железную руку». Композитор «жаждал, просил только свободы, но, не получая ее, стал в вине искать забвения страданий», он «подвергался унизительным наказаниям, снова пил и, наконец, умер, сочиняя трогательные молитвы для хора»…
Какие все же страшные времена довелось пережить русскому народу! «Людей можно было продавать и покупать оптом и в раздробицу, семьями и поодиночке, как быков и баранов, – пишет автор. – Не только дворяне торговали людьми, но и мещане, и зажиточные мужики, записывая крепостных на имя какого-нибудь чиновника или барина, своего патрона».
Но кто такой Дегтяревский, чья трагическая судьба тоненькой паутинкой вдруг вплелась в мое повествование? Если он был действительно гениальным композитором, то какой вклад сделал в отечественный багаж? Когда на прогулке по Кускову я сказал о Дегтяревском московскому ландшафтному архитектору Михаилу Петровичу Коржеву, то он, человек очень эрудированный и памятливый, признался:
– Нет, не помню! А я с юности, знаете, увлекаюсь старой русской музыкой. Мой отец – землеустроитель, работавший в свое время на изысканиях Московской окружной и многих южных железных дорог, даже в консерваторию меня пытался определить… Постойте, а не путает ли наш мемуарист? Однажды меня приглашали в Останкинский музей, где в прежней обстановке для особых знатоков и ценителей исполнялся бесподобный «Орфей» русского композитора восемнадцатого века Фомина. Эта вещь полна трагических страстей, музыканты извлекали из старинных инструментов такое!.. А хор, хор! Тенора!
Истинному любителю, Коржеву не хватало слов для выражения своих впечатлений:
– Нет, это, знаете, надо слышать!.. Так вот, не Фомина ли имеет в виду ваш мемуарист? Фомин был солдатским сыном, учился в Италии…
Нет, как я выяснил, не Фомин. Автор «Орфея» Евстигней Фомин родился и работал в Петербурге, никакого отношения к театрам Шереметевых не имел. Действительная ошибка мемуариста заключалась в том, что фамилия крепостного композитора Шереметевых была не Дегтяревский, а Дегтярев, вернее – по старинному написанию – Дехтерев. Он был певцом и «учителем концертов» у Шереметевых, выступал в Зеленом театре Кускова и на сцене Останкинского театра, писал духовные музыкальные сочинения, но главная его заслуга перед отечественной культурой состоит в другом – Степан Дехтерев стал основоположником русской оратории и первым нашим композитором, создавшим фундаментальные и яркие патриотические произведения. Его торжественную ораторию «Минин и Пожарский, или Освобождение Москвы» исполняли симфонический и духовой оркестры, солисты и три хора! Ноты ораторий – «Бегство Наполеона», «Торжество России и истребление врагов ее» и других до сего дня не найдены. И судьба Дехтерева не была столь трагической, как у мифического Дегтяревского. После смерти старого графа Степан Дехтерев получил свободу, жил и сочинял в Москве, а позже – в имении одного курского помещика, где и умер в 1813 году. А мемуарист, очевидно, просто наслышался от своего отца легенд о нравах и быте Шереметьевских театров и написал, как слышал…
Ошибаясь в частностях, но скрупулезно точный во всем, чему позже сам был свидетелем, воспоминатель этот в символической фигуре Дегтяревского выразил общую правду, как выражают ее адские муки фоминского Орфея, трагические судьбы героев герценовской «Сороки-воровки» и лесковского «Тупейного художника». За всем этим стояла непридуманная реальность, что была подчас трагичнее любой легенды. Русское театральное искусство, глубоко человечное и душевное, зарождалось в жутких, бесчеловечных условиях. Актеры спивались, погибали под кнутами на конюшне и в солдатчине. В то время, которое мы вспомнили сейчас, многие помещичьи театры представляли собою не что иное, как гаремы не только для хозяина, но и для его гостей. Факты далекого прошлого протокольно свидетельствуют, как владелец театра, присутствовавший на репетиции, выскакивал на сцену и за малейшую оплошность зверски избивал царя Эдипа, укреплял на шее Гамлета железную рогатку, посылал менять скотине подстилку в коровник Офелию, гордо отказавшуюся стать подстилкой для скота в человеческом образе. Крепостных актеров меняли на породистых собак, проигрывали в карты, продавали «оптом и в раздробицу». Этим гнусным делом занималось даже государство. Для первого петербургского казенного театра у кого-то из Столыпиных была закуплена вся театральная труппа и два десятка музыкантов. У князя Демидова в Богородском уезде казна приобрела актера Степана Мочалова, отца будущего знаменитого трагика, генерал Загряжский из Тамбовской губернии продал театру танцоров Петра Велоусова и Марка Баркова, а также дочь его «дансерку» Аграфену. Некоторые душевладельцы «благородно» дарили артистов. Графиня Головкина, скажем, подарила трех балерин – Степаниду Устинову и двух Варвар, Колпакову и Герасимову, с пометкой в документе: «все три девки». Только вспомнить, что и сам великий Щепкин был крепостным, что знаменитый трагик Каратыгин был посажен в крепость за то лишь, что не заметил проходившего мимо директора театра и не встал для приветствия; только подумать, что все это, в сущности, было сравнительно недавно!
И совершенно необыкновенная судьба одной крепостной актрисы Шереметевых предстала передо мной в Кускове. Об этой судьбе непременно напоминают сейчас каждому посетителю Кусковского или Останкинского музеев, будут рассказывать нашим детям и внукам, и мне хотелось бы здесь уточнить из ее скорбной и романтической истории некоторые подробности, что затушевываются со временем, невольно искажаются, как искажались они еще сто лет назад и даже при жизни легендарной актрисы.
Мемуарист, как вы помните, сообщает, что природа лишила графа Шереметева наследника. И далее: «За пять или за шесть лет до смерти он пристрастился к одной девушке, актрисе собственного домашнего театра, которая, хотя и не отличалась особенною красотою, однако была так умна, что успела заставить его на себе жениться. Говорят, что она была также очень добра и одна могла успокаивать и укрощать жалкого безумца, который считался властелином многих тысяч душ, но не умел справляться с самим собой. По смерти жены он, кажется, окончательно помешался, никуда больше не выезжал и не видался ни с кем из знакомых. После него остался один малолетний сын, граф Дмитрий».
Еще одну ошибку обнаружил я тут у автора, и о ней не стоило бы говорить, если б она не заставила меня заинтересоваться личностью актрисы, заполняющей одну из первых страничек в истории нашего театрального искусства. Как я выяснил, Николай Шереметев «пристрастился» к своей крепостной актрисе не за «пять или шесть лет до смерти», а за двадцать лет до женитьбы. И в молодости, и в зрелых годах внук знаменитого петровского фельдмаршала считался первым женихом России, Екатерина II возжелала даже выдать за него свою внучку Александру, когда у той расстроился брак с королем Швеции. Однако спесивые родители отвергли предложение императрицы, а сам жених еще много лет не хотел и слышать ни о каких родовитых и богатых невестах – одно существо на свете интересовало его и влекло к себе.
В детстве Параска была обыкновенной босоногой девчонкой и, должно быть, на всю жизнь запомнила окружавшую ее грязь, невежество, черную отцовскую кузню и запах жженых лошадиных копыт – Иван Горбунов, или Ковалев, был крепостным кузнецом Шереметевых, жил вначале во Владимирской губернии, потом вблизи Кускова, свою фамилию получил, наверное, по профессии, и, когда в 1758 году родилась у него дочь, он, конечно, не думал не гадал, что ждет ее особая судьба: она еще четырежды сменит свою «родовую» фамилию, станет первой знаменитой артисткой России, а умрет графиней…