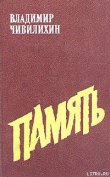Текст книги "Память (Книга первая)"
Автор книги: Владимир Чивилихин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
12
В детстве я слышал мудрую народную пословицу: «Далеко сосна стоит, а свому бору шумит»… Родные места привязывают нас к себе памятью о близких, друзьях и подругах, хотя бы мы их давно потеряли, о первых радостях и печалях – пусть они и не кончались счастьем несказанным или горем неизбывным; родина дорога нaм всеми детскими и юношескими воспоминаниями, если даже ты не можешь их назвать сладкими грезами. А с годами приходят знания о твоих родных краях, об их прошлом, в котором каждое доброе слово или благое деяние со временем возрастает в цене, и о настоящем – ступеньке к будущему.
Декабрист Александр Бестужев пророчески писал: «Сама природа указала Сибири средства существования и ключи промышленности. Схороня в ее горах множество металлов и ценных камней, дав ей обилие вод и лесов, она явно дает знать, что Сибирь должна быть страной фабрик и заводов». Стали явью эти слова; новая жизнь пришла в Сибирь, но чтоб она пришла, сколько сгинуло здесь светлых умов, сколько пламенных душ погасло! Были и декабристы – сто двадцать один мученик, и память о каждом из них дорога для потомков, которые сегодня к обобщенным хрестоматийным фактам декабристской эпохи добавляют новые и новые крупицы знаний.
Как сложилась сибирская жизнь первых «славян», основателей этого необыкновенного общества? Поляк Юлиан Люблинский, осужденный по шестому разряду – пятилетняя каторга и последующее поселение, – после Нерчинских рудников был отправлен в село Тунка. Когда я занимался Байкалом, то побывал в этом селе – вдоль Тункинского тракта могла пройти трасса для коллектора сливных вод целлюлозного комбината, которые хорошо было бы направлять н перебалтывать в Иркуте. Тогда я еще не знал, что там целых пятнадцать лет прожил один из авторов «Правил» Славянского союза, переложенных им на французский и польский языки. В Тунке Люблинский женился на простой казачке Агафье Тюменевой, – от которой у него было шестеро детей. После амнистии 1856 года декабрист-«славянин» жил в Петербурге, где и умер в 1873 году, достигнув почти восьмидесятилетнего возраста. Два сына его учились в кадетском корпусе, а вдова с дочерьми очень бедствовала, занимаясь поденной работой. Потом она вернулась в Сибирь. Старые иркутяне еще помнят могильную плиту на Иерусалимском кладбище с надписью: «Жена декабриста Агафья Дмитриевна Люблинская, казачка с. Тунки, умерла в 1907 г.».
Холостыми и бездетными прожили свой сибирский срок братья Борисовы. Они были осуждены по первому разряду – на вечную каторгу, но через тринадцать лет им было разрешено выйти на поселение. Младший брат Петр, смело и самостоятельно мыслящий руководитель Славянского союза, обладал огромной силой воли и страстной жаждой жизни. Напомню, что, еще будучи юнкером, он основал революционную организацию на Украине – общество Друзей природы. Подлинным другом природы он стал в Сибири, затеяв методическое и глубокое изучение окружающего каторгу растительного и животного мира. Богатые, переменчивые и пестрые краски Петр переносил на свои акварели, собирал вместе с братом и описывал травы, коллекционировал насекомых, наблюдал жизнь и повадки местных птиц. И это не было работой для себя, способом уйти от монотонности и тягот каторжных буден. Петербургский ботанический сад и Московское общество испытателей природы получили немало ценных ботанических гербариев и энтомологических коллекций, собранных братьями-каторжанами.
Петр часами просиживал у муравьиных куч, рассматривал насекомых в линзу, ползал вдоль их дорожек, наблюдая поведение насекомых в ненастье и вёдро, на рассвете и ввечеру, что тоже не было пустяшным времяпровождением – декабрист-натуралист создал большой научный труд «О муравьях». Он автор нескольких других естественнонаучных работ, но, пожалуй, самое удивительное подвижение предпринял Петр Борисов в области метеорологии. Разработав свою методику, он непрерывно в течение двенадцати лет трижды в сутки.вел метеорологические наблюдения и записи.
Петр Борисов был нравственной опорой и опекуном Андрея, страдавшего со времен каземата расстройством психики. Петр скоропостижно, быть может от инфаркта или инсульта, умер в селе Разводном под Иркутском осенью 1854 года, два года не дожив до амнистии. Андрей, который, по словам Ивана Горбачевского, «был везде вместе с братом»… «в отчаянии хотел зарезать себя бритвою, потом зажечь дом, но этого не мог и тотчас же повесился». Похоронены были братья-«славяне» в одной могиле на кладбище села Разводного.
А Иван Горбачевский, осужденный по первому приговору к отсечению головы, был помещен вместе со «славянином» Михаилом Спиридовым и «южанином» Андреем Барятинским в так называемую Пугачевскую башню Кексгольмской крепости, что сопряжено с одним редчайшим обстоятельством. В эту башню, оказывается, была заключена семья казненного Емельяна Пугачева, и спустя пятьдесят лет Горбачевский с товарищами еще застал в ней живыми двух узниц – дочерей вождя крестьянской войны. Чтоб освободить место для декабристов, старушек выпустили под надзор полиции…
Потом были Шлиссельбург, Чита, Петровский завод. Долгие годы Иван Горбачевский поддерживал переписку с Иваном Пущиным, Дмитрием Завалишиным, Михаилом Бестужевым, Евгением Оболенским, скрепляя этими посланиями старый союз, а после амнистии избрал себе особую жизненную стезю. В архивах московского Исторического музея хранится до сих пор полностью не опубликованное его письмо Ивану Пущину с Петровского завода. Вот строчки из него: «Ты спрашиваешь, что я делаю и что намерен делать? Живу по-прежнему в заводе. Строения те же, люди те же, которых ты знал, лампада горит по-прежнему. Теперь я скажу, что я намерен делать с собою: ничего и оставаться навсегда в заводе – вот ответ»…
О какой лампаде пишет Иван Горбачевский? Эта лампада горела на могиле Александры Муравьевой, которая привезла в Сибирь два послания Пушкина, – декабристы долгие годы не давали ей погаснуть, а когда все уехали, этот святой огонек остался блюсти «славянин» Иван Горбачевский…
Иван Горбачевский так и прожил до своей смерти в Петровском заводе. Пытался заниматься извозом и торговлей, но неизменно прогорал, помогал всем, кто бы к нему ни обратился, не требуя мзды или возвращения долгов. Позже народоволец Прыжов писал, что, приготовившись к смерти, декабрист-«славянин» закупил чистое белье и продуктов для поминок. Он умер за три года до кончины первого декабриста Владимира Раевского, и их последнее пожелание было одинаковым. «Просил положить его не на кладбище, а по соседству, в поле, на вершине холма, чтоб он мог смотреть на улицу, где как бы он ни жил, но жил… Так и сделали».
А «рядового» декабриста-«славянина» Николая Мозгалевского мы оставили на полпути в Сибирь. За Омском потянулись однообразные, ровные, как стол, Барабинские степи с блюдечками озер в березовых ожерельях. Березняки уже начали желтеть, и мелкие круглые листочки задувало порывистым ветром в кибитку… За Колыванью и переправой через широкую холодную Обь Сибирский тракт взял на северо-восток. Все чаще стали попадаться большие села с крепкими домами и сердобольным народом. Кибитка останавливалась у колодцев, и пока лошади пили, женщины успевали принести теплые ковриги хлеба. Жандармы не препятствовали, только на расспросы парней о том, кого опять везут, приказывали народу отойти, и однажды Николай Мозгалевский впервые услышал из толпы слово, которое сопровождало его потом всю сибирскую жизнь, – «несчастный»…
И вот на крутом берегу реки показался город – одноэтажный, деревянный, колоколенки только были каменными. Резные ворота, собачий брех за ними, непролазная грязь до самого губернского присутствия.
При жандармском офицере губернатор взломал сургучную печать и вскрыл сопроводительный пакет: «Государственный преступник… в Нарым… Навечно…»
– Велено без промедленья, – сказал жандарм.
– Никак, однако, невозможно, – возразил губернатор. – Дороги туда нет по хлябям, только рекой, а купцы, отваливают с товарами через неделю, не ранее.
– Сдаю его вашему превосходительству под роспись.
– Желаю благополучия в обратном пути… Распорядитесь привесть его ко мне.
– Он в таком виде…
– Это не его вина, и мне их вид знаком.
Губернатор не обратил, казалось, никакого внимания на помятую робу и грязные башмаки декабриста, пожал ему руку, усадил в кресло.
– Меня именуют Игнатием Ивановичем. Знаете, что такое Нарым?
– Нет.
– Место гиблое… Но и там, однако, люди живут. На родных рассчитываете?
– Они ничего не имеют.
– Чем намерены жить?
– Не знаю совершенно.
В кабинет без стука вошел молодой человек, поклонился декабристу. За стеклами пенсне блестели живые доброжелательные глаза.
– Приголубь нового сибиряка, – обратился к нему губернатор. – Мы не скоро дождемся следующих – дороги пали, велено до зимы распустить лошадей по всему тракту.
– А я ведь, как вошел, вас узнал сразу, – сказал декабристу юноша.
– Что такое, сын мой? – насторожился губернатор.
– Ведь Николай Осипович – воспитанник нашего корпуса! Вышел на службу за пять лет до меня. Старшие-то нас, мелюзгу, замечали, когда надо было отпустить кадетёнку затрещину, а я не раз видел его в библиотеке и на плацу. Это вам, Николай Осипович, однажды руку поранили при фехтовании?
– Случилось, – декабрист обрадовался тому, что встретил в такой далекой дали совоспитанника.
– Славное ваше заведенье когда-то было, – задумчиво проговорил губернатор. – Дало России Прозоровского, Румянцева-Задунайского, Мелиссино, Голенищева-Кутузова, Кульнева, Коновницына, Милорадовича.
– А еще больше, однако, таких, как наш гость, – засмеялся сын.
– Однако мы заболтались, – нахмурился отец и поднялся. – В баню! Кормить! Белья и одежонки собрать!
Следующие десять дней Николай Мозгалевский прожил как во сне. Его приютил приятель Владимира Соколовского, губернский чиновник Иван Осташев, который сделал все, чтобы декабрист оценил сибирское гостеприимство. На обеды с разносолами непременно приходил Соколовский, и совоспитанники подолгу, вспоминали Петербург, Кадетский корпус, отделенных унтер-офицеров, ротных командиров, преподавателей и чаще других словесника Белышева, который артистично читал Пушкина, Княжнина и Рылеева… Одно не понравилось в Соколовском-он много пил.за столом и, захмелев, начинал читать свои длинные путаные стихи, петь опасные песни, и его можно было остановить только новыми воспоминаниями о корпусе, о барабанных побудках, строевой муштре, о «жедепоме», так почему-то кадеты называли карцер – от французского jeu de paume (<игра в мяч»), где Соколовский сиживал не раз на хлебе и воде. Декабрист все эти дни чувствовал себя почти свободным, только к каждому обеду являлся справляться о нем дюжий полицейский, которому Соколовский выносил в прихожую большую чарку водки и груздь на вилке. Настал день, когда этот же стражник, опрокинув чарку, виновато сказал:
– Благодарствую, господа, однако нам пора. Оказия…
Местный купец с приказчиком и работником сплавляли в Нарым три тяжелые развальные лодки с солью, сушеным хмелем, свинцом и порохом, чтобы развезти этот ходовой товар по остяцким становищам под зим-ние меха. К пристани Владимир Соколовский привез в пролетке сак с провизией, большой мягкий тюк и сунул в карман декабристу сто рублей ассигнациями, сказав, что благодарить надо не его, а сердобольных горожан этого скучного поселения.
Николай Мозгалевский поплыл вниз по Томи и Оби, навстречу холодным дождям и туманам, которые вскоре сменились прозрачной ясностью чужих небес, и сиверко донес до Нарыма ледяное дыхание океана, вой буранов и чуткую тишь морозных ночей. Только с началом зимы Николай Мозгалевский оценил подарки– добротный полушубок, поношенный купеческий камзол, почти новые белые катанки, меховую душегрейку, заячью шапку с длинными ушами, теплое белье и лоскутное одеяло.
«Бог создал рай, а черт – Нарымский край», – говаривали в наших местах. По-хантыйски «нарым» значит «болото», и заштатный этот российский городишко взаправду утопал в болотистых берегах Нарымки и обской пойме. Затопляло каждую весну, гноило нижние венцы избенок, плодило тучи комарья и гнуса…
Основан был Нарым как острог при последнем царе-рюриковиче, еще до Бориса Годунова, а спустя триста лет после своего основания вошел в историю России как главное место ссылки большевиков, став своего рода центром формирования и организации кадров Коммунистической партии. Биографии В. В. Куйбышева, Я. М. Свердлова, И. В. Сталина широко известны, и поэтому я назову имена некоторых других нарымских ссыльных, вошедших впоследствии в историю нашей революции и государства. Ф. И. Голощёкин, избранный на Пражской конференции в состав ЦК РСДРП; секретарь Московского комитета РСДРП А. В. Шишков; член ЦК ВКП(б), делегат многих партийных съездов В. М. Косарев; делегат II съезда РСДРП А. В. Шотман, переправивший в июле 1917 г. в Финляндию В. И. Ленина; секретарь ЦК КП Грузни Г. Ф. Стуруа; известный ученый-астроном П. К. Штернберг; комиссар знаменитой Таманской дивизии Л. В. Ивницкий; секретарь ЦК КП(б) Украины И. Е. Клименко; один из основателей Компартии Германия Франц Меринг; слушатель ленинской партийной школы в Лонжюмо И. Д. Чугурин; член ЦК КП Эстонии, участник всех конгрессов Коминтерна X. Г. Пегельман; организатор Красной гвардии в Москве Я. Я. Пече; секретарь ЦК КП Белоруссии А. Н. Асаткин-Владимирский; нарком земледелия А. П. Смирнов; ответственный работник ЦК ВКП(б) и дипломат К. К. Саулит; первый председатель Томского Совета рабочих и крестьянских депутатов Н. Н. Яковлев…
На 1910 год в Нарымском крае числилось 3066 политических! Большевики сообща боролись с тяготами ссылки. Создали кооператив с кассой взаимопомощи, мясной и потребительской лавками, пекарней и столовой. Организовали общественные библиотеки-читальни, общеобразовательные школы, марксистские лекционно-дискуссионные кружки, поставили на сцене самодеятельного платного театра более двадцати спектаклей, в том числе «Ревизора», «Бориса Годунова», «Лес», «На дне», «Власть тьмы», Явь Нарымского края в период завершающего этапа русской революции была совсем иной, чем в те времена, когда прибыл в Нарым «под неослабный надзор градской полиции» первый здешний политический ссыльный Николай Осипович Мозгалевский.
Мое полусиротское детство и юность прошли неподалеку от тех мест, где отбывал ссылку декабрист, с потомками которого я породнился. Знаю я эти сырые и холодные места. Чтобы просуществовать долгую, снежную и морозную зиму, надо все короткое и, как правило, дождливое лето работать от зари до зари, прихватывая сумерки. Ковырять отвоеванную у леса бедную землю, косить траву, сушить и копнить сено, пилить дрова, а в войну их приходилось возить на себе через три крутые горы…
Не знаю, чем жил политический ссыльный в Нарыме полтора века назад, не понимаю, как он выжил. Деньги, собранные томичами, вскоре кончились, а помощи ждать было неоткуда. Осенью 1826 года, когда деньги еще были, он писал матери в Нежин. Эти письма не сохранились, но в архиве Октябрьской революции я нашел ответы на них. В далекую и страшную Сибирь пишет своему горемычному сыну бывшая французская дворянка Виктория-Елена-Мария де Розет, совершенно обрусевшая за сорок лет жизни в России, вырастившая здесь семерых детей и ставшая под старость лет беспоместной полунищей вдовой. Почерк старческий, крупный, старомодный – в нем видится рукописная витиеватость XVIII века. Понятные во все века, сбивчиво выраженные чувства, святые материнские слезы сквозь обыкновенные слова: «Милой и любезной сын Николаша. Я тебе советовала не так часто писать в рассуждении, что может тебе дорого станет, но премного беспокоилась твоему молчанию, пиши, милой, когда можешь, я тебе потому не так скоро отвечала, что везде искала занять денег для тебя, нигде достать невозможно». Скромные строки эти публикуются впервые, они вроде бы не представляют собой исторической ценности, но истинно человеческий документ всегда несет в себе эту нетленную ценность, не говоря уже о том, что нам с годами все более интересным становится любое свидетельство жизни каждого и з декабристов, потому что они были первыми.
Вот строчки из другого письма: «Надумала я еще к тебе писать, а ожидала ответ от тебя… ты знаешь, милой мой друг, мой достаток, а почта не так-то дешева… а прочие тебе все кланяютца, а я, мой милок и любезной сын Николаша, не могу описать мои чувства и любовь к тебе, целую тебя, благословляю и остаюсь тебя нежно любящая мать Виктория Мозгалевская».
Среди зимы, санным путем, пришла в Нарымскую градскую полицию петербургская казенная бумага о том, что государственному преступнику Николаю Мозгалевскому вечная ссылка милостиво заменена двадцатилетней, но и этот срок казался молодому человеку вечностью. Старший брат Алексей его подло предал – на запрос Следственной комиссии о «домашних обстоятельствах» Николая Мозгалевского он трусливо отписал, что «среди возмутителей и заговорщиков родственников не имеет» и Николай Мозгалевский не является его братом. Вскоре он, будучи тоже офицером, перевелся в Польшу и, видоизменив свою фамилию, стал числиться Модзалевским…
Хотя бы коротко надо сказать о существенной разнице между декабристской каторгой и ссылкой.
Как это ни покажется странным, но самое суровое наказание – каторжные работы на руднике – обернулось нежданной светлой стороной. Декабристы на каторге образовали крепкое и устойчивое товарищество, которое завязалось еще по дороге в Сибирь. Историки, читавшие донесения Жандармов, фельдъегерей и надзирателей, бесчисленные свидетельства и воспоминания, отмечали, что осужденные не попрекали друг друга за какие-либо прежние ошибки или поведение на следствии, по-братски заботились о слабых и больных, поддерживали в них волю к жизни; это был новый подвиг чести первых русских революционеров. Физические и нравственные тяготы переносятся легче, когда рядом единомышленники, друзья, чуткие товарищи по судьбе, а декабристы-каторжане сумели еще сверх того наладить материальную взаимопомощь, обмен знаниями и опытом, организовали совместную подписку на русскую и европейскую периодику, используя для связей с внешним миром даже китайскую почту – через Кяхту, Маймачен и Тяньцзинь. Когда же к некоторым из них приехали жены, это стало огромной моральной поддержкой для всех каторжан и ссыльных, живущих по сибирским городам и селам небольшими колониями. Вместе им легче было сохранять свое человеческое достоинство, отстаивать права, среди них всегда жила политическая мысль, побуждая к политической деятельности. Хорошо подытожил преимущества декабристского коллективизма Михаил Бестужев: «Каземат нас соединил вместе, дал нам опору друг в друге… дал нам материальные средства к существованию и доставил моральную пищу для духовной нашей жизни. Каземат дал нам политическое существование за пределами политической смерти».
В совершенно ином положении оказывался ссыльный-одиночка. Места для большинства из них назначались самые глухие и отдаленные – Вилюйск, Верхоянск, Березов, Сургут, Пелым, Якутск, Туруханск, Нарым. Оторванные от мира и друзей, обремененные крайней нуждой и болезнями, не все они выдерживали долго – умирали совсем молодыми, сходили с ума, накладывали на себя руки.
В двадцатые годы прошлого века Нарым уже числился городом, но, по сути, это было приречное таёжное село, в котором насчитывалось не более пятисот дворов. Оторванный от хлебородных мест и Сибирского тракта, Нарым жил трудно и скучно. Хлеб, чай, сахар и овощи были очень дороги. Александра Ентальцева, проплывшая по Оби, писала: «Самые необходимые припасы… хлеб, картофель, капуста и проч. привозятся сюда за 1000 верст и далее; суди о цене; сверх того, если не запасешься вовремя всем нужным, то нередко, когда нет привоза, здесь ничего получить нельзя, кроме сушеной рыбы. Не знаю, что будет с нами далее, но теперь жизнь – истинная мука».
На зиму нарымчане солили рыбу, косили обскую пойму для своих коровёнок, рубили многосаженные поленницы дров. Избы ставились на сваях, потому что городишко вечно подтопляло разливами, и он год от года пятился все дальше от реки. Комариные болота подступали к улицам, вымачивали жалкие огородишки, а у крылечек хозяев стояли деревянные ходули, чтоб можно было пройти к соседу высокой водой или по жидкой, никогда не высыхающей грязище.
Очевидно, спасло декабриста то, что он подселился к другому несчастному, которого по чьему-то навету сослал сюда сибирский «царь» – генерал-губернатор. Фамилия ссыльного была Иванов. Они устроили общую кассу и стол. Мозгалевский внес свои деньги, а Иванов начал приспосабливать товарища к ведению нехитрого холостяцкого хозяйства и жалким местным заработкам. Ссыльные купили снасти, и подледные ловы стали давать главное – жирную обскую рыбу, на хлеб же оказалось возможным иногда зарабатывать топором и лопатой. Хлеб, однако, тут был дорогой, привозной, и его не на каждый день и перепадало…