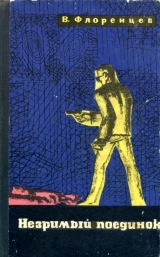
Текст книги "Незримый поединок"
Автор книги: Владимир Флоренцев
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц)
Совсем стемнело. Гром укатывал на юг. И словно прохудился в небе какой-то мешок – на ровную поверхность пруда посыпались звезды.
– Красота-то какая! – Шибаев с наслаждением втягивал влажный воздух.
– Дорога прямо за прудом, и дача рядом, – откликнулся Старычев.
Шибаев прислушался – издали нарастал все усиливающийся гул. Машина. Они заспешили. Ого! Ну и дачу отгрохал Русишвили. Дворец пионеров бы здесь разместился.
Из-за поворота появилась машина и, поблескивая фарами, запыхтела на подъеме.
Старычев схватил Шибаева за рукав, метнулся в кусты. Машина, недовольно проурчав мимо, засигналила у ворот. Но из дома никто не выходил. Видимо, дача пустовала.
Шофер вышел из кабины и распахнул ворота настежь. Он въехал во двор и, оглянувшись по сторонам, стал складывать шифер на землю. Старычев тихо подошел сзади.
– Помочь?
Шофер приподнялся:
– Товарищ начальник? Какими судьбами?
Старычев нахмурился:
– А… Это ты, Долгов? Давно освободился? Тебе же за баранкой запрещено работать…
Старычев был спокоен, хотя встреча с бывшим преступником, видимо, была неожиданностью. Оба молчали. Это молчание становилось угрожающим.
Шибаев ничего сообразить не успел. Шофер резко откинул руку назад, и удар страшной силы обрушился в… пустоту. Не удержав равновесия, шофер полетел на землю. В руках у него блеснул нож. Старычев не успел прижаться к дереву, как шофер вскочил на ноги. Нож вспыхнул в слабом свете луны. Все это произошло В какие-то секунды. Шибаев рванулся вперед. Он видел, как из-за дерева бежали еще двое. «Наши, – мелькнула мысль. – Я их видел в отделе». А Старычев падал. Его худое тело скользнуло по мокрому от дождя дереву на холодную землю. На мокрую траву.
Падал Старычев. Он был летчиком-истребителем. Три года партизанил. Знал столько мудрых афоризмов. В милиции он был самый лучший работник. Он был…
– Сергей Петрович!
Крика не получилось. Гриша захлебнулся.
А шофер метнулся в темноту. Он заметался в чаще.
Гриша подбежал к Старычеву.
– Плечо… – слабо вздохнул Сергей Петрович и закрыл глаза.
Гриша разорвал на нем рубаху. Слезы душили его. Подоспели оперативники. Один взялся перевязывать.
Гриша приподнялся. Где шофер? Он может убежать. Сволочь.
Шибаев привык гонять баскет. Он входил в состав сборной института. У него второй разряд на 400 метров. Он вмиг догонит этого ублюдка.
Гриша побежал. Пот застилал глаза. Дышалось трудно, как рыбе, выброшенной на берег. Над обрывом он остановился. Метров пять высоты. Далеко внизу шофер отвязывал лодку. Уйдет! Мысли взлетали и падали, как чайки над пенной волной. «Не успею! Уйдет! А там у мокрого карагача Старычев…»
…Гриша прыгнул. Упал рядом с шофером. Боли он сразу не почувствовал. Совсем рядом увидел чужое лицо. И глаза, холодные, как лед, – дотронешься – руки отморозишь. Гриша сжался, словно пружина, и даже не почувствовал, как ударил. Только слышал, как плюхнулось тело в воду. А потом все завертелось – и песок, и роща, и небо. Как на центрифуге. Словно тебя испытывают. Для полетов в космос!
Их кровати стояли напротив. В одной палате. Старычев, с перевязанным плечом, мог ходить, хотя ему не разрешали. Шибаев ходить не мог. Ноги у него были в гипсе. Намертво. Треснули кости от прыжка с большой высоты.
Шофера задержали. Он сидит в КПЗ. А Русишвили опять вышел сухим из воды. Он – непойманный. Он купил шифер. Понимаете? Купил. За сбои денежки.
Документы? Пожалуйста. Вот вам квитанция, вот накладная. А шофера Русишвили не знает. Если у шофера со Старычевым старые счеты – при чем тут он, Русишвили? Да, при чем, товарищ следователь? Шофера Русишвили первый раз в глаза видит. Нанял перевезти шифер. Вот так, товарищ следователь.
Гриша Шибаев не может смотреть в окно. Оно сзади.
«Ну, вот, прощайте, милые кеды. Прощай, баскет», – грустит Гриша. Взгляд его уперся в желтые обои. Глаза унылые, как после проигрыша решающего матча.
Старычев притворяется спящим. Гриша знает об этом.
– Сергей Петрович, вы же не спите. Я вот о чем. Помните, как мы не спали по ночам? Сколько сил положили. В глазах рябит. И все же мы не взяли Русишвили. Он – непойманный. Так что же – он, значит, сильнее?
Старычев молчал.
– Сергей Петрович! – вскричал Гриша. – Я спрашиваю: Русишвили сильнее нас или нет? Он ездит на «волге», он отдыхает на даче, а мы…
Старычев шевельнулся. Словно кто-то дотронулся до больного плеча. Он приподнялся на здоровой руке, и лицо его исказилось от боли.
– Слушай, Шибаев, – прохрипел он. – Помнишь чеховского Ионыча? Так. А ты знаешь, откуда Ионычи берутся? Это люди, которым не хватило заряда на задуманное. Они задохнулись на середине дороги… Мы возьмем его! Слышишь? Возьмем! Но для этого нужны твердые доказательства. И ты не все еще знаешь. Сейф у меня не напрасно стоит. В нем кое-что есть.
Сергей Петрович откинулся на подушку. Гриша разволновался, ему захотелось искупить свою вину перед Старычевым.
– Сергей Петрович, – начал он, – у меня к вам просьба. Я хочу, когда встану, ну, когда заживет нога, поработать до конца с вами. Пока не возьмем этого… Я вас очень прошу…
Старычев вздохнул. От практиканта из ОУРа он знал: Шибаев три года мечтал поехать на Иссык-Куль. Накопил денег. После практики хотел поехать. И вот вместо отпуска…
Спасибо, Шибаев! Но тебе надо отдыхать. Ты поедешь на высокогорное озеро. Я сам справлюсь. Мне не привыкать.
– Сергей Петрович! – снова позвал Гриша.
Старычев закрыл глаза. Он улыбался.
«Молодчина, – подумал Старычев. – А нога заживет. Обязательно. И ты будешь играть еще в сборной института. Железно будешь играть, Гриша Шибаев».
ЛИДКА
Дом был старый, построенный неизвестно в какие времена. Он стоял на окраине Заркента и так же, как другие дома этого квартала, ожидал своего бульдозера.
В доме два этажа. Верхний жильцы именовали «пенсионеркой» – из восьми квартир, расположенных там, семь занимали пенсионеры.
Жизнь в старом доме текла размеренно-однообразно, соседи рассуждали о том, что недавно сказал У Тан и как это повлияло на международную обстановку, а потом вдруг начинали ругаться из-за того, что чей-то мальчишка, бросая камень в кошку, попал в окно.
Иногда разгорались дебаты. Люди собирались в кружок, дискутировали о том, помогает ли иглоукалывание, и что это за штука вообще, и есть ли прок от утренней гимнастики. Потом кружок распадался – кто-то сообщал, что в «центре» есть кукурузное масло, а оно помогает от гипертонии. А еще пенсионеры ездили на охоту и на рыбалку, ворчали на «москвича» старой марки, который постоянно надо ремонтировать. И еще три раза в день они разжигали и тушили примусы и, конечно, беспрестанно говорили о пище, а в оставшееся время с таким увлечением рассказывали друг другу о своих болезнях, что можно было подумать: без этих болезней жизнь их была бы неполной.
Лидка жила в восьмой, угловой квартире. Она была высокая, худая, белесая. Ей надо бы перекрасить волосы – они были цвета пересохшей соломы и еще больше портили ее некрасивое лицо. Но Лидка мало следила за своей внешностью.
Их двое во дворе, незамужних. Она и Галка Резникова. Галке тоже за тридцать. Она в вагоне-ресторане работает…
Галка жила во дворе богаче всех – комнаты сверкали полированной мебелью, а платья она меняла на день по два раза. Мужчин Галка тоже меняла часто. Она считала, что во дворе жить никто не умеет, кроме нее.
Если Лидка или кто-нибудь другой проходил по двору, никто на это внимания не обращал, но когда по узенькой кирпичной тропинке тонко цокали Галкины каблучки, начинали хлопать двери. А те, кто не выходил на балкон, прилипали к окнам, как мухи к липучке, и пялили на нее глаза. И Лидка тоже глядела из окна. А Галка, лакированная с ног до головы, катилась и блестела, как кристалл.
Мнения о Галке были самые различные, но каждый держал их при себе, и только один старик Петрович говорил вслух, что думал.
Петрович был совсем худой. Худее Лидки. Лицо у него обветренное и такое же потрескавшееся, как пальцы на руках. Двадцать пять лет провел он за баранкой, почти все машины водил – от «эмки» до МАЗа. По израненным фронтовым дорогам, по блестящему городскому асфальту, по пескам и бездорожью. Водил в жару. В дождь. В метель. И он привык говорить то, что думает. Это вошло в привычку.
– Ей, думаете, нужна красота? – вопрошал он. – Да на кой леший нужна была бы ей красота, если б не давала выгоду? Ну, правильно я говорю, чего молчите? – обращался он к собравшимся вокруг него.
Обычно его никто не поддерживал.
Лидка, когда видела лакированную Галку, чувствовала, что сердце стучит, как дятел, выдалбливая в груди невидимое дупло. Никогда не видела она такого внимания к себе, даже когда была совсем молоденькой. После детдома Лидка воспитывалась у чужих людей. Правда, тогда все было совсем иначе – небо казалось голубее, земля теплее и богаче, деревья красивей и таинственней, и каждый день душу переполняла радость новизны. В ней жило смутное ожидание счастья. Потом была война и трудные послевоенные годы. Лидка работала кондуктором, каменщицей, проводником на железной дороге.
А сейчас она – маляр. На работу ездит совсем в другую сторону Заркента, тоже на окраину. На трамвае, а потом двумя автобусами. На окраине возводится новый жилой массив, заркентские «Черемушки». Черемушки начинаются сразу же, как только трамвайная линия вычерчивает восьмерку. Совсем рядом с этой восьмеркой – гигантский башенный кран. Он стоит, тяжелый и серьезный, вытянув над незаконченным домом жирафью шею, словно придирчиво оглядывая свои владения. Скоро конец стройке, осталось возвести несколько зданий, и тогда шагать крану на другой жилой массив.
Утром над Хактепа – так называется новый район – не висит дымка, но часам к десяти потухшие вулканы стройплощадок оживают. Даже по запаху определить можно, что работа в полном разгаре. Хотя, чем вообще пахнет стройка? Да ничем, скажет посторонний. А для Лидки стройка – родная стихия. Как сизые волны расшумевшегося моря для моряка, как неизмеримая голубень неба для астронавта, как золотые колосья пшеницы для хлебороба…
Лидка берет трафарет, проводит по нему кистью. И происходит маленькое чудо – стена была белая, а сейчас уже цветом походит на луговую траву. На траву, омытую косым весенним дождем. Смотришь на стену, и улыбка невольно появляется на губах.
Зеленая стена пахнет не травой, краской. Но для Лидки это родной, волнующий запах. И все на стройке источает свой особый аромат. Олифой пахнет и известкой. Отсыревшими за ночь досками. Жженым кирпичом. Остывающим асфальтом у подъезда.
Лидка на третьем этаже работает. Сегодня их бригада кончает с домом. Один этаж остался – четвертый. А выше четвертого на массиве домов не строят. По сейсмическим соображениям. Выше четвертого этажа начинается небо.
Лидка прощается с небом и вздыхает. Сейчас домой надо ехать. А дома… Дома ее ожидают книги. Дома она мечтает и чего-то ждет. Ожидание счастья – это тоже, наверное, счастье. Но Лидка слишком долго ожидает его. Жизненная тропинка, по которой она шла, была светлой, но мертвой, словно блеск луны. На тропинке никто не появился. Она никого не встретила и никто не встретился ей.
Дворовые мальчишки любили Лидку и каждый раз, когда она возвращалась с работы, голоса их звенели, как горсть рассыпавшихся монет. Она приносила им раскрашенные книжки, переводные картинки, а малышам «сладких петушков», которых покупала у торговки на «зеленом» базаре. Она собиралась с ребятами вечером на скамейке у колодца и рассказывала им разные истории. Рассказывала с чувством, но иногда почему-то не хватало слов, и тогда она разбавляла их мимикой. Мальчишки хохотали, радовались, сердились вместе с ней.
Мальчишки! Нетерпеливые, как солнечные зайчики, они становились серьезными и задумчивыми, когда она хмурилась, и взволнованно замирали, приколотые к месту ожиданием интересной развязки.
Особенно привязалась она к соседскому Ваське, и он хозяйничал в ее комнате, как в своей. Васька жил без родителей, у тетки. Мать и отец его погибли в ленинградскую блокаду. Лидка знала, что Ваську подобрали солдаты. В широких, испуганных глазах мальчишки, казалось, застыла снежная тишина ленинградских улиц. Васька изголодался по ласке, как Лидка по любви, и когда она ласково погладила его по белесой головке и вздохнула о чем-то своем, Васька вдруг взглянул на нее, как ей показалось, странно, не по-детски задумчиво и серьезно.
Но то были мальчишки, а взрослые… Лидка слышала, как у нее за спиной шушукались соседи, ожидая, когда же она выйдет, наконец, замуж: «Пора – двадцать шестой пошел, через год-два – старая дева». Но так они говорили и через два года, и через три, и через пять. Вначале это раздражало ее, а потом она с этими разговорами свыклась, и пришло время, когда они прекратились вовсе.
Поэтому, когда однажды вечером соседи увидели, как из ее комнаты выходил широкоплечий мужчина, дом был так поражен, что даже не обратил внимания на дефилировавшую Галку. Мужчина был в синей рубашке, в серых парусиновых брюках, лицо у него темное, загорелое, как хлебная корка. Он был без одной руки. Новость, словно цепная реакция, облетела двор, но Лидку никто спросить не решался. Правда, разговоры пошли:
– Может, замуж выскочит…
– Да где уж ей!
– А чем черт не шутит!
– Поживем – увидим…
– Он хоть без руки, а здоров.
Поздно вечером, когда люди рассосались по квартирам, Лидка вытащила стул на балкон, включила лампочку и, облокотившись о перила, зашелестела книгой. Ее во дворе книжницей звали. С легкой Галкиной руки.
Книги, после мальчишек, были второй любовью Лидки. Лидка читала запоем, все, что попадалось, а больше всего, о море. Там всегда было то, о чем она мечтала. Море стояло перед глазами. Море шуршало прибрежной галькой. Мокрый песок блестел, как рыбья чешуя. Было так волнующе-легко на душе, что хотелось плакать.
Лидка взглянула в небо – сквозь клочки разорванных облаков подмигивали редкие звезды. Облака двигались. Они были похожи на паруса. Паруса плывут в неизвестность.
Кто-то заскрипел ступеньками, вспугнув Лидкины мысли.
Лидка безучастно посмотрела на опустевший двор.
Это старик Петрович поднимался по упругой лестнице. Он произнес негромко:
– Ты на них, Лидуха, внимания не обращай…
Он очертил рукой большой круг над головой, давая тем самым понять, кого подразумевает под словом «них»,и добавил:
– Это же не грех – погулять.
Лидка посветлела, как будто на лицо ей упал свет луны.
– Ребенка бы мне… – глубоко вздохнула она.
Слабый румянец осветил ее худенькое некрасивое лицо, и в нем отразилось нечто невыразимо грустное.
– А ребеночка – тем более не грех, – ласково проговорил Петрович.
Лидка захлопнула книгу и вернулась в комнату. Щелкнула выключателем – вспыхнул свет. Спущенная штора слабо колыхалась на сквозняке, все предметы в Лидкиной комнате, казалось, неслышно шуршали и двигались.
Лидка придвинулась ближе к зеркалу, разглядывая свое лицо. Губы отчего-то посинели. Это Лидку испугало. Особенно, когда она прочитала заметку в журнале. Как это там написано: «Нередко губы отражают состояние организма человека: яркие свидетельствуют о здоровье, бледные – о малокровии, синеватый оттенок губ – признак кислородного голодания». У нее как раз синеватый оттенок. Шутка ли – кислородное голодание! У Галки совсем другие губы – цвета раздавленной вишни… И лицо у Галки – так и просится на обложку иллюстрированного журнала.
Лидка любила иллюстрированные журналы. С их страниц часто смотрели на тебя красивые женщины. Как Галка. Лидка подолгу рассматривала цветные портреты, а потом садилась к зеркалу и рассматривала себя.
Две нижних полки на этажерке Лидка специально отвела для таких журналов. Там у нее хранились и портреты артисток. Почти всех. От Орловой до Симоны Синьоре. И у всех такие ослепительные улыбки!
Но косметику Лидка не любила. Ни губную помаду. Ни басму. Ни лондатон. И туалетный столик ее пустовал. Только сиротливый флакон одеколона любовался своим отражением в зеркале. У Галки столик, конечно, весь заставлен. От него пахнет, как от цветочной клумбы. Вообще, Галке все идет, все ей к лицу. И все на ней сверкает. Жакет без застежки. Кофточка вязаная. Юбка шестиклинка. Спортивный джемпер. Панбархат. Есть у Галки одно платье. Лиловое. Вышла она в нем однажды во двор. Стоит у кладовки на тонких иглах-каблучках, покачивается. Словно фиалка на ветру.
И нет длинного ряда кладовок, нет старого дома, Покривившегося палисадника Петровича. Нет ничего этого. А есть песня. Казалось, знакомый мотив разлился в воздухе:
Купите фиалки, вот фиалки лесные,
Скромны и неярки, они словно живые.
Галка уходила, хлопнув дверью, и мотив угасал. Вот она какая. Как песня.
Те мужчины, что приходят к Галке, не взглянут на Лидку. Даже если она наденет бархатное платье с глубоким декольте. Лидка надевала его несколько раз, когда приходил Степан. Дома надевала. На улицу она в нем никогда не выходила, боялась соседских языков. А сейчас это платье снова висит в шкафу.
Лидка пристально глядела в зеркало, словно допрашивала его. «Вот тебе скоро сорок, и совсем ты одинока… А что ты сделала за свою жизнь? Для чего ты жила? Кто это сказал, что человек должен за свою жизнь посадить дерево или вырастить сына? Дерево она посадила и не одно, когда работала каменщицей в пустыне, они там весь городок озеленили. А вот сына… Такого, как Васька, белесого… Родного сына…»
Однорукого мужчину видели у Лидки еще несколько раз, а потом он совсем исчез, и по двору поползли слухи.
– Вернется он.
– Ищи ветра в поле…
– Хорошо, хоть один нашелся.
– Докрутилась!
– А я вам говорю, вернется.
К осени у Лидки родился ребенок. Вышла из больницы она сильно похудевшая, и, когда поднималась по лестнице, пацаны шугали в ее честь голубей, разноцветных, как почтовые марки.
Лидка долго плакала. От радости. Теперь, когда она выходила гулять с ребенком, видела: на нее глазели из окон, как из бойниц, словно брали на прицел.
Лидка знала – Степан не вернется. Ну, конечно. Он поехал в Абакан на заработки. Он так и сказал – на заработки. А такой не вернется.
Приходил Васька. Он подозрительно глядел на ребенка и трогал его пальцем, словно желая удостовериться, живой ли он. Васька задавал разные каверзные вопросы. Теперь тетя Лида все реже появлялась среди мальчишек, а сегодня не вышла совсем. Когда тетя Лида выходила гулять с малышом, пацаны бросали играть в пятнашки и глядели на малыша. Они ревновали. Еще бы! Такой маленький, а вот отбил у них тетю Лиду.
Малыша Лидке не с кем было оставить, а надо выходить на работу. Старик Петрович пробовал ходатайствовать насчет яслей в райисполкоме, а когда это не помогло, туда неожиданно пришел весь двор. Лидка сияла – это произвело впечатление. Она вышла на работу.
Через месяц она купила большую белоснежную коляску с козырьком от солнца и дождя, малышу было тепло и уютно в ней, как в гнезде. В желтой шапочке малыш поворачивал лицо вслед уходящему солнцу. Он был похож на цветущий подсолнух.
Мать катила коляску и улыбалась, а ее некрасивое лицо становилось пунцовым. Хлопали двери – двор провожал их на прогулку.
Лидка шла, остывающее солнце тускло било ей в глаза, и она прикрывала их ладонью. Потом, не отпуская коляску, она наклонилась, чтобы поправить туфель, и мельком скользнула взглядом по соседскому окну. За зеленой полутьмой стекла напряженно блестели глаза Галки. Секунду женщины смотрели друг на друга. Но только секунду. И сразу же тяжелая бархатная занавеска шевельнулась, скрыв за собой Галку.
Лидка никогда не была в тех комнатах, но из разговоров соседей знала, что за черной занавесью – гарнитур последнего выпуска, два больших бухарских ковра и еще неизвестно что.
Лидка не помнила, чтобы Галка когда-нибудь интересовалась ею или хотя бы посмотрела в ее сторону. А сейчас она украдкой выглядывает из-за занавески, и у нее такое жалкое лицо…
ВСТРЕЧА
Поезда уходят, а человек остается. Сколько раз сходил Николай Павлович Резванов на полустанках, на каких-то крохотных перронах, где его никто никогда не встречал. Служба в МВД бросала Резванова от Закавказья до Магадана. Но здесь, в пустыне, он еще не бывал.
На новое место Николай Павлович всегда прибывал один. С жильем обычно было туговато. Вначале Николай Павлович жил по-холостяцки, и только потом, много времени спустя, перевозил семью. Раньше жена проявляла недовольство, но наконец смирилась с переездами как с неизбежностью.
Новизна всегда пленяет – ждут тебя новые места, новые планы, друзья, но всякий раз, ступая с чемоданом в руках на незнакомый перрон, Резванов вдруг ощущал какое-то неодолимое чувство грусти, тоски и еще чего-то, что не выразишь никакими словами. Вот и сейчас это чувство нахлынуло, едва только последний вагон растаял в угрюмой вечерней полумгле.
На станции было безлюдно. Телеграмму Николай Павлович дать не успел, и никто из сотрудников колонии не пришел к поезду.
«Черт знает, где эта колония? Наверное, далеко», – решил он, пытаясь разглядеть что-либо в сгущающихся сумерках.
Песок был назойлив, как комары, – он скрипел на зубах, попадал в глаза, глухо шуршал по перрону. Прикрываясь рукой от ветра, Резванов выбрался на дорогу. Сквозь сизую песочную завесу пробивалось расплывчатое пятно света. Машина! Резванов снял с головы фуражку и принялся размахивать ею над головой. Кружок света приблизился и замер.
– До колонии не подвезешь?
– Залезай, – донеслось откуда-то сверху. – По пути…
Приподняв чемодан, Резванов взобрался на подножку МАЗа, залез в кабину. Машина медленно тронулась.
– Далеко? – спросил Резванов.
– В первый раз? – шофер повернулся вполоборота и встретился взглядом с пассажиром. Глаза у обоих вспыхнули. Руль резко крутнулся влево, и машина чуть не задела приземистое станционное строение. Скрипнули тормоза.
– Гражданин… товарищ начальник… – прошептал шофер. – Какими судьбами?.. Вы меня помните?
– Помню ли? Аверин Алексей Петрович…
Они обнялись, как старые друзья.
– Давно освободился? – спросил Резванов.
– Через полгода как вы уехали.
– Значит, семь лет прошло… Что ж забрался в такую даль?
Шофер помрачнел:
– Жена у меня здесь нефтяником. Да и сам я не люблю город…
– Жена – та самая женщина, что писала в колонию?
– Та самая…
– А почему это ты невзлюбил город?
– Дружки одолевали. Не хочу снова на кривую дорогу.
– Дорога зависит от человека.
– Вот и шоферю здесь, – улыбнулся в ответ Аверин.
Машина снова тронулась.
Резванов искоса разглядывал Аверина. Внешне он вроде бы совсем не изменился с тех пор, как они расстались. Не погас живой огонек в светло-синих глазах, аскетическая складка по-прежнему застыла в уголках губ. Только вот волосы Аверин зачесывает на пробор – этого Резванов не знал. В то отдаленное время Алексей Аверин всегда был стрижен наголо. Да и фамилию свою он вряд ли тогда помнил. А был он просто Лешка Тайга.
Начальника оперчасти Кошелева приступ скрутил внезапно. Он обессиленно лежал на кровати, прогибая жесткую сетку. Прибежал фельдшер, пощупал пульс, живот и покачал головой:
– Аппендицит. Острый… Оперировать немедленно. Не то перитонит, считай – крышка…
«Легко сказать оперировать, – подумал начальник подразделения Резванов. – Врач в больнице, до сангородка километров сорок. Правда, есть другая дорога, короче впятеро. Но кто возьмется провести по ней машину над обрывами да по таежной глухомани?»
Резванов взглянул в окно. Прямо перед зоной была большая расчищенная площадка. Дальше – болотистая местность. А еще дальше глухо и таинственно шумела верхушками темных елей вековая тайга. Ох, тайга, тайга, если бы умела ты рассказывать… О скольких историях поведала б ты людям. Общение с внешним миром начиналось только летом, когда тусклое солнце упрямо лезло вверх над тайгой и растапливало лед на реке. Тогда начинался лесосплав, а снизу приходили тяжелые длинные баржи, груженные сушеным картофелем и мороженой рыбой.
Резванов глядел сквозь запотевшее окно. Оранжевое солнце плавало в морозной дымке. В этом неярком свете мокрые от дождя ели сверкали, будто покрытые светлячками.
«Что же делать? – мучительно думал Резванов. – Что делать? Санитарная машина вернется из ремонтной мастерской только к утру. Но ждать до утра нельзя, не дотянет до утра Кошелев. А ведь сегодня воскресенье – все вольнонаемные шоферы поразъехались».
За окном легла серая длинная тень. Потом появился человек. Он тяжело ступал по мокрой земле. Шел уверенно и твердо, с таким видом, словно все вокруг – и тайга, и вся зона – принадлежали ему лично.
Это Аверин. Или Лешка Тайга, как его называли в колонии. «Неисправимый», – махнули рукой на него воспитатели. Да и в самом деле – сколько нервов попортил он им. Побег за ним числился. Много суток провел он в бараке усиленного режима. Одним словом, «пахан». Только держался он сейчас от всех в сторонке, воровского куска не брал. А недавно начал работать. Как стало известно, причиной тому было письмо, полученное недавно Авериным. Писала женщина – откуда-то из Средней Азии. Но кто она такая и почему задумался Лешка, получив ее письмо, было неизвестно.
Много раз и раньше пытался Резванов найти «ключ» к его душе. Но ничего не получалось. На вопросы Тайга отвечал односложно:
– Ваше дело мораль читать, мое – сидеть. Я не кролик, экспериментов не люблю. Работай не работай – срок не скинут.
А когда Резванов завел разговор о смысле и цели жизни, Лешка вдруг сказал:
– Счастье, гражданин начальник, – это быстроногий олень. А мы хромые охотники…
Эта фраза была поводом для того, чтобы начать убеждать Лешку, что счастье свое он растоптал сам, счастье – это не быстроногий олень, а борьба. Резванов уже обдумывал, как он скажет сейчас об этом Лешке. Но, взглянув ему в глаза, внезапно понял, что эффекта никакого не будет. Лешка привык к «морали» и принимает наставления, как горькую пилюлю. Он ожидал эту пилюлю сейчас. А Резванов ничего не сказал. И это поразило Аверина больше всего.
А однажды… ГАЗ-51 вышел из строя. На нем возили хлеб и продукты. Запас хлеба вышел. Если фургон не пойдет, останутся сегодня ребята без хлеба. А они лес валили, мозолили руки.
Двое механиков – вольнонаемные – копались в моторе. Перепачканные, они ругались на чем свет стоит.
– Может, кто поможет из заключенных? – спросил Резванов, наблюдавший за их работой.
– Чего? – выпучил глаза механик. – Эти, что ли? – Коротким взглядом он окинул зону. – Да они только по карманам лазить мастаки…
Механик не договорил. Откуда-то появился Лешка. Лицо у него сумрачное, губы поджаты.
– А ну-ка повтори… – Лешка говорил тихо, не вынимая рук из карманов.
– Да я так… – засуетился механик под пристальным Лешкиным взглядом.
– Отваливай! – Лешка положил руку на крыло. – Слышь?
Резванов меж тем стоял недвижимо. В строгих его глазах, в самых уголках, горели искорки любопытства.
Лешка скинул телогрейку и, выхватив у оторопевшего механика разводной ключ, полез под капот. Колдовал он там с полчаса, пока не собралась толпа.
Мотор завелся. Лешка вылез. Перекинул телогрейку через плечо и пошел к бараку. Ни разу не оглянулся.
Резванов встретил его через день. Лешка сидел на скамейке и курил. Гитарист бренчал на гитаре, Лешка пел:
Есть по Чуйскому тракту дорога,
Много ездит по ней шоферов
И один был отчаянный шофер,
Звали Костя его Снегирев.
Песня была знакома Резванову. Как и многое из того, что поют эти люди, она была унылой и грустной.
– Вот ведь, сколько поешь, а все за душу берет. Так ведь, гражданин начальник? – прервал песню Лешка.
– Ты что, шофером работал? – спросил Резванов.
Тайга нахмурился:
– Было дело… А вы думали, я только песню о Чуйском тракте знаю?
– Какой класс?
– Чего?
– Шофер какого класса?
– Первый, – вздохнул Тайга. – «Скорую» водил когда-то…
Лешка закусил губу. Потом мигнул гитаристу. Тот дернул струны, и снова разлилось над зоной: «Он машину любимую АМО…»
Резванов поинтересовался, что за женщина написала Лешке письмо. Но тот отвечал, как всегда, односложно…
– Подельница моя. Освободилась. По одной статье проходили…
Замолчал. Потом, вздохнув, добавил:
– Эх, не понять вам души нашей. Разве поймет горе тот, кто не пережил его сам.
И хотя Резванов хлебнул на своем веку немало – голодные, засушливые годы, две войны, три ранения, гибель дочери под бомбежкой, но ничего не сказал. То ли потому, что не читал Резванов морали, а может, по какой другой причине, но на следующий вечер Лешка пришел к нему в кабинет и начал рассказывать свою жизнь от корки до корки. И рассказал о женщине, приславшей ему письмо, и о том, как он ее любит…
Резванов поднялся.
– Слушай, – проговорил он. – Хочешь вернуться за баранку?
Аверин не ответил, но Резванову показалось, будто вспомнилось Аверину что-то далекое, уже забытое.
Лешка попятился к двери, выскочил из комнаты и быстро направился к бараку.
Недоверие между Резвановым и Лешкой стало исчезать.
Заметил Резванов – Аверин украдкой наблюдает, как уезжает из зоны «санитарка», как уезжают лесовозы, и Тайга часто подсаживается к вольнонаемным шоферам, о чем-то толкует с ними. «Тоскует Леха по баранке», – говорили водители Резванову. Только не нравилось уркаганам, что «пахан» к воспитателю пошел. «Закон» предал. Ну, а за это… Правда, боятся они «пахана». Пуще зимней тайги боятся. Смотрят косо. А он идет сумрачный, задумался о чем-то своем. Вот прошел окно.
– Аверин! – донеслось вдруг из окна. – Алексей!
Он жил в мире кличек. Зверь, Колыма, Тайга – это все он. И вдруг – Алексей.
Он остановился. Скрипнула дверь, на пороге показался Резванов.
– Алексей, просьба к тебе есть. С Кошелевым приступ. Отвезти надо до сангородка.
– Кошелев – опер?
– Да, начальник оперчасти…
Глаза Аверина сверкнули.
«О чем он думает?» – размышлял Резванов.
– А при чем тут я? – спросил Аверин.
И Резванов заметил, как тот слегка побледнел.
– Ты же шоферил когда-то на воле…
Тайга молчал, вычерчивая ботинком на земле замысловатую фигуру.
– Шоферил… – выдохнул он.
– Так просьба к тебе. До сангородка…
Аверин вдруг хлопнул себя по бедрам и расхохотался:
– Да что вы, гражданин начальник! За мной же побег числится. А сейчас время как раз нашенское. Зек – он лето любит. Не боитесь – сбегу?
– Человек погибает, – очень тихо сказал, Резванов. – Надо трогаться, Алексей. Худо Кошелеву.
– Мне ехать? – задержав дыхание, спросил Аверин.
– Тебе. Только учти – дорога трудная. Солдат покажет дорогу. Справишься?
Больше Аверин вопросов не задавал. Вобрал голову в тяжелые плечи. Вся его большая фигура сжалась, словно попал он под холодный дождь.
– Где самосвал? – тихо спросил он.
…В конторе у Резванова произошел крупный разговор с начальником охраны.
– На голову свою отпускаете, – говорил тот. – Таких, как Тайга, только могила исправит.




