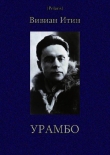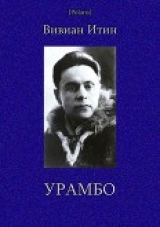
Текст книги "Урамбо
(Избранные произведения. Том II)"
Автор книги: Вивиан Итин
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 7 страниц)
Вивиан Итин
УРАМБО
Избранные произведения
Том II



УРАМБО
1. Пулеметы
Мистер Грэди давно вышел из того возраста, когда путешествия кажутся романтическими. Напротив, поддавшись некоторой меланхолии, он думал, что приходится все чаще разъезжать по разным неблагоустроенным странам. Счастье же: семья, два бэби, иногда молоденькая Бетси, морские купанья, собственный авто, хорошее пищеварение. А здесь? Только на пароходе могут кормить свининой под экватором… И еще этот лопоухий дьявол-дьявол, – вот опять бесится.
– Бой!
Под черный форштевень, звонко шипя, подлетает синь. В бездонном струящемся стекле влаги вдруг мелькнет пузырек медузы, выпрыгнет дельфин. Кровь, как океан внизу, шумно кипит. Солнце.
Негр прислушался, сплюнул табачную жвачку, скатился вниз.
М-р Грэди – его хозяин, англичанин из Ливерпуля. М-р Грэди был озабочен. Новые поиски марганца на юге – ошибка. Германская компания «Людвиг Кра и Шульце» захватила огромные кавказские залежи. Самые удивительные дураки, конечно, русские.
Приходилось не пренебрегать мелочами. Правда, это была дружеская услуга; но, все-таки, передвижной зверинец Исаака Кини – солидное предприятие. М-р Грэди встал с шезлонга и, слегка рисуясь перед воображаемой Бетси своими неисчислимыми заботами, направился к лестнице.
М-р Грэди погрузил слона в Лоанде. Это был очень редкий экземпляр, по его словам. Слона м-р Грэди назвал Урамбо. Так, в высочайших градусах Фаренгейта, в голубом дыме кэпстена мелькнуло название неведомого местечка экваториальной Африки. Урамбо был огромен и дик. Черный проводник попросил прибавки, – даже виски не помогало, – за водворение его в трюм.
Пряный запах колониальной снеди странно возбуждал. Среди огромных мягких тюков прохладнее, но душно. В конце – деревянная перекрещенная решетка. Слон сжал хоботом один из столбов, стараясь притянуть его к своим бивням. Задняя нога зверя прикована якорной цепью. Желтовато-белым клыкам не достать. Эластичный хобот был бессилен. Негр ударил по нему палкой. Урамбо отступил вглубь, гневно затрубил, поднял голову.
– Когда-нибудь он в самом деле разнесет клетку, eh?
Рядом стоял м-р Грэди. М-р Грэди курил кэпстен.
– Давай ему меньше есть, бой. Из него слишком прет. Совсем не давай есть.
Сказав это, м-р Грэди спокойно пошел наверх.
Океан, как стекло. Колокол позвал ужинать. М-р Грэди размок, остался на палубе, тянул через соломинку ледяную смесь. Солнце по самому большому кругу неба бухнулось за горизонт. Агент знаменитой германской фирмы невольно снова удивился необычайной скорости бесшумного шествия тропической ночи. Он узнал, что м-р Грэди направляется в Петербург по марганцевым делам и, взглянув на стремительное солнце, за бутылкой сода-виски, вполне конфиденциально, предложил ему устроить в России партию бракованных пулеметов.
– Превосходные пулеметы! – уверял агент. – Брак совершенно неразличим и относится лишь к самому качеству материала. Вам, как представителю незаинтересованной державы, будет очень удобно… тем более…
Агент наклоняется к уху м-ра Грэди.
М-р Грэди официально миролюбив. Он тянет недоверчиво:
– Оу!
– Есть признаки, есть признаки…
– А не придется ли и нам ввязаться в дела на континенте?
Немец закурил крепчайшую черную сигару, проглотил густой комок дыма. Небрежно уставился на свой лакированный ботинок.
– Вы осторожный и практический народ. Вы поймете, что мы, совершенно беспристрастно, – непобедимы. У нас Кант, у нас…
– Ну, что касается имен…
– Впрочем, – быстро повернулся агент, – я надеюсь, вы человек деловой. В ваших правилах использовать случай?
М-р Грэди, внезапно, также холоден и внимателен.
– Да, это к делу, разумеется, не относится… Итак, каким образом вы предлагаете реализовать ваши машины?
В зените сиял Сириус. Небо на горизонте походило на светящийся экран титанической лаборатории. Гигантский палец зодиакального света оставил на нем тающий след. И волшебной фосфорической лентой горел океан, вспененный винтами парохода.
– Человек, коктэйль!
– All-right.
– А кто эта… мисс, – eh?
Тогда, вместо черных экваториальных ночей, подавляюще внезапных, на шестидесятой параллели совсем исчезла ночь. Над Петербургом трепетали светлые бирюзовые газы. Беспощадный город, тупой, тяжелый и гениальный, вдруг превратился в легчайшую феерию Значит, можно мечтать о несбыточном.
В бессолнечном свете, против призрачных масс крепости и дворца, первокурсник Шеломин нанял у сонного чухонца быстрый ялик. Медленно колебались и падали воды Невы. Посредине реки Шеломин бросил весла. Была полночь. Было светло.
В этот день Шеломин сдал свой последний экзамен. В его сознании светились фиолетовые пучки круксовых трубок, мчались непредставимые электроны, вспыхивал сернистый цинк. Он мечтал о славных открытиях, которые он сделает. Тогда мир становился неожиданно другим, легким и счастливым. И в этот мир, конечно, входила Надя Никольская. Шеломину было 19 лет.
Улицы изнывали людьми. На обратном пути за ним долго шла женщина и, казалось, какой-то настойчивой страстью звучали ее заученные формулы…
«Хорошенький, пойдем со мной!
Мужчина, пойдем спать».
Дома его ждал Петя Правдин, только что кончивший гимназист, сиявший улыбками и новеньким студенческим мундиром. Правдин объявил, что завтра будет пикник на Канонерском острове. Сборный пункт – у курсисточек Оли-Тони. Придет Надя.
Правдин остался ночевать. Шеломин кипятил чай над керосиновой лампой. Ламповое стекло походило на трубку Крукса, а желтый огонь на волосы Нади, освещенные солнцем. Он видел городской сад, каток, лодку ночью на быстрой реке, всю их длинную любовь, их обещания и грезы. Как освободить энергию электронов? Чтобы завоевать, надо работать. Он положил палец в щель приоткрытого ящика стола и задвинул ящик.
Палец болел, распух; но Шеломин не мог заниматься. Его глаза были серы и упорны, а губы изогнуты, как обыкновенный, знаменитый, лук амура. Ему хотелось победы сейчас, немедленно! Сейчас, немедленно хотелось совсем других стен, чем у его каморки с деревянной кроватью и одним столом.
И так же мучаясь, странно входя в его маленькую судьбу, безумея от ночного сияния Финского залива, плыл Урамбо.
Земля, рождающая жизнь, отогревала свой северный бок. Слоновьи стада вытаптывали тропические поляны. В новой клетке Урамбо, на русском пароходе, сумерки белых ночей. Темная безвыходная страсть скапливалась, жгла титаническое тело, как отрава, брошенная бешеной собаке; но гипноз однообразия, кто-то беспощадный и хитрый, давил, сковывал сердце, заставлял каждый мускул двигаться медленно, послушно.
Властелин сидел за письменным столом в пижаме, в огромных очках с круглой черепаховой оправой. В эту последнюю ночь пути на море он вновь просматривал свои бумаги, отщелкивая фунты и шиллинги на маленьких счетах из слоновой кости. Лицо его, обыкновенно добродушное, круглое, вызывавшее улыбку, теперь было серьезно и вдохновенно. Теперь он был частью силы, правящей миром. Теперь он мог вызвать уважение, преданность или ненависть.
Около трех утра м-р Грэди сказал: «All right» и захлопнул записную книжку. Он с удовольствием зевнул и пошел спать, прополоскав рот и горло патентованной жидкостью, уничтожающей дурной запах во рту.
2. Коперник
Шарманщик крутил в колодце проходного двора свой несложный громкий репертуар. Шеломин, назначенный кассиром, дал ему целый полтинник и студенты, построившись, двинулись с маршем «Тоска по родине» впереди.
Бывший классный наставник Пети Правдина в ужасе соскочил с тротуара. Петя Правдин трепетал. Это была революция. Верх у шарманки ситцевый, красный.
Вдруг марш взвизгнул, оборвался, квадратный кумач помчался назад, в панике разбивая ряды. С фронта величественно подходил фараон. Революция кончилась. Этика Пети Правдина, лишенная классного наставника, получила более солидную поддержку.
Впрочем, фараон был занят и, зажав рубль, великодушно разрешил шарманщику удирать. Посредине улицы стоял катафалк, окруженный толпой. Черный рабочий кричал белому факельщику:
– Сукин сын, раз сказано бастовать, какое право имеешь работать!
Дамы в трауре взвизгивали в ответ бабью брань.
Гигантские трубы, как недокуренные папироски в пепельнице северного неба, выбрасывали последний дымок. На петербургском горизонте застыла виселица подъемного крана. Близорукий и тонкий, в черной куртке и черной косоворотке, политехник Рубанов, обвел рукой видимый сектор, весь огромный мир и проговорил, волнуясь:
– Das Kapital…
Розовый беловолосый Петя Правдин не понял и, взглянув на фабричные строения, подтвердил:
– Да-с, капитал!
Финский залив – море не море. Ультрамарина в нем нет. Озеро стальное, стальными струйками бьется в угловатые камни берега. Но для курсисточек с Бестужевских, медицинских, зубоврачебных, первый год из проклятых своих городишек, это: «Какой простор!»
Пикник происходил по установленному ритуалу: чай с домашними произведениями Оли-Тони, пиво, кое для кого водка и студенческие песни.
К берегу причалил восьмивесельный щегольской ялик с французскими моряками, русскими женщинами и одним в штатском, с большой лохматой седеющей головой, который потом называл себя журналистом, поэтом и писателем. Его настоящая фамилия была Рабинович; но, подписываясь, он перевертывал ее: «Чивони Бар», – это звучало по-итальянски. Французы вытащили стол, складные стулья. На стол – белую скатерть, вина, печенье, банки.
Водка действовала быстрее французских вин и аперитивов, через полчаса студенты воодушевленно орали:
«Коперник целый век трудился.
Чтоб доказать земли вращенье, —
Дурак! Зачем он не напился,
Тогда бы не было сомненья…»
Писатель подошел и приветствовал от имени союзников «надежду России, учащуюся молодежь»…
Через минуту Петя Правдин, пьяный и счастливый своей независимостью от классного наставника, объяснял французу:
– Коперник, vous comprenez? Дурак!
Офицер беспомощно оглядывался и повторял:
– Почему вы не привели своих дам?
– Дурак! – стукнул себя по лбу Правдин. – Voila, ром буль-буль-буль и лемонд, отур, никаких сомнений…
Вдруг он поперхнулся.
– Шутки в сторону, я напился до чертиков. Раньше не верил, я вот напился…
Правдин заморгал, протер глаза. Нет! – опять: прямо на него мчалась фантастическая огромная глыба, черная, чугунная живая буря! Визжали женщины, бежали, задирая юбки в воду, черпая туфельками ил; лопотали французы. Писатель растерянно вынул записную книжку… Ррр-ах! Французский буфет перевернулся, зазвенел, чудовище исчезло, а дальше, чудилось, неистово скакал негр, размахивая руками, потом – с десяток свистящих фараонов и долговязый человек в белых брюках, крахмальном воротничке, круглых очках и без пиджака.
Петя Правдин подполз к берегу, мочил голову и бормотал, стуча зубами:
– Вот напились до чертиков, вот напились…
Шеломин не пил. Надя, как нарочно, все время болтала с этим пустышкой, Александровым. Шеломин не думал, что везде в мире – в джунглях, трущобах и дворцах, каждая самка дразнит своего самца. Он стоял на крайнем плоском камне у воды и смотрел, не видя, на сплюснутый оранжевый диск. Ему хотелось сильнее, сильнее, до крайнего предела расширять грудь, сжать рукой сердце, поднять высоко, чтобы всюду разбрызгалась его сладкая боль. Надо было действия, безумия, борьбы – сейчас, немедленно!..
Урамбо был беспокойно неподвижен. Когда горизонт залива закрыл солнце, вокруг затолпились, закричали люди. Прыгали по крыше его клетки. И, вдруг, расступились, – страшная сила рванула и понесла его, раскачивая, вверх, на сумеречный свет. Урамбо стоял неподвижно. Только его маленькие глаза краснели и внимательно вглядывались за решетку. До сих пор там, за ее железными крестами, были одни и те же мертвые груды грузов, змеиные клубки канатов и тьма. И, внезапно, мелькнула зеленая земля, – сияющая лента воды, голубое небо. Урамбо вспомнил. Его великая мука, застывшая, как вал, на мертвой точке, вдруг сдвинулась, стала горячей, тяжелое тело легким. Урамбо шагнул вперед, цепь натянулась… так один раз он запнулся за цепкую лиану в дебрях. Ременный обруч заскрипел и оборвался. Слон поднялся, положил гигантские передние ступни на решетку и, уже совсем радостно, в захлестнувшем порыве, бросился вперед. Клетка разлетелась без боли. Урамбо осторожно отбросил подвернувшегося грузчика с бочонком сельдей и, подняв хобот, помчался навстречу влажному ветру…
Шеломину, как Урамбо, хотелось бега, задыхания, освобождения. Он любил охоту, любил часами бежать за слабеющим лосем, любил шум бешеной крови, возбуждение, делающее неутомимым тело. Поэтому, не подумав ни секунды, он первый бросился за Урамбо по огромным следам.
3. Круглый глаз
В рабочих районах были крупные демонстрации. Улицы чернели толпами. Их лозунги были скромны; но на перекрестках бледные люди с большими подозрительными бородами в своих несложных речах говорили сразу и о заработке и о Николашке, Распутине, жуликах-министрах. Все это, конечно, было давно всем известно. Об этом народ пел в песнях. Но теперь праздная толпа, вдруг освобожденная от будничной каторги, ясно и резко, не выговаривая слов, думала каким-то общим, большим мозгом: как же могут они, такие сильные, и бесчисленные, терпеть, гибнуть, – из-за кого?
Полиция была вооружена винтовками.
Околоточный Петухин, преследовавший со своим отрядом Урамбо, бывший кадровый офицер, любил воображать себя героем. Он размечтался о будущем своем рапорте, где дипломатично, но ясно, будет отмечено его исключительное влияние на благоприятный исход бунта. Ведь если бы слон перебрался через узкие каналы, какой бы эта был превосходный повод для сборищ!
М-р Грэди метался в толпе и взывал.
– Есть здесь кто-нибудь, кто говорит по-английски?!
Надя, весь год учившая First Book, нерешительно подошла к нему.
– Скажите им, – закричал англичанин, – чтобы они не стреляли! Скажите, что он стоит две тысячи, три тысячи! Скажите, что я послал уже за веревкой.
Урамбо вошел в воду, остановился, обливаясь из хобота.
Надя перевела, что м-р Грэди послал за веревкой.
Петухин едва взглянул на нее, – все казались ему забастовщиками, – и выстрелил.
Слон повернулся, странно закричал, кинулся вперед. Фараоны, не целясь, стреляли в гигантское туловище.
Урамбо осел на задние ноги, поднял голову, озаренную темным нимбом громадных ушей, запрокинул, как призывную трубу, хобот. Его глаза отразили нечеловеческую тоску. Маленький кровавый рот вдруг стал жалобным, детским. Жизнь, выходившая вместе с кровью, излучала, погибая, потоками впитываясь в грязь, страшное горе. Шеломин почувствовал влагу на своих глазах. Он выхватил у растерявшегося солдата винтовку, подождал секунду, когда слон качнул голову, и выстрелил между глаз…
Шеломин подошел к трупу. Иногда бывает безразлично, кто убит. Смерть. Круглый глаз был раскрыт. Сначала, когда длилась агония, он отражал боль, гнев и смертельное горе; потом застыл, стал неподвижным и мудрым. Шеломину хотелось войти в этот беспредельно спокойный печальный взор, пропасть в нем, исчезнуть…
Кто-то дернул его за руку. Перед ним стоял Рабинович. Его волосы походили на уши Урамбо, глаза сверкали.
– Как ваше имя? – гневно закричал он, касаясь карандашом своей записной книжки.
– Анатолий Шеломин…
Ответил машинально. Круглый глаз плыл по грязному черному сюртуку, окруженный желтыми фосфенами.
– Какого факультета?
– Физико-математического… но…
– Вы мне ответите за это убийство, пигмей! – забрызгался писатель и побежал прочь.
– Зачем ты стрелял? Разве ты полицейский? – подскочила Надя.
Шеломин вдруг побледнел. Давно, в детстве, он застрелил Надину кошку и мучился, как преступник. Теперь, внезапно, появилось совершенно то же переживание.
– Но ведь они не умели стрелять! – попробовал он защищаться.
– Разве ты полицейский?
…М-р Грэди направился к своей неожиданной переводчице. Это была красивая девушка – заметил он – высокая, с белокурыми косами, положенными коронкой, яркими губами.
Англичанин извинился за свой костюм. Негр принес ему пиджак и шляпу.
– Я много слышал о русских женщинах, – сказал м-р Грэди.
Надя готова была расплакаться.
– Что мы скажем теперь иностранцу?!
– Скажи, что мне очень, очень жаль слона! – воскликнул Шеломин.
– Пустяки, – сказал м-р Грэди.
Его точный мозг мгновенно отметил, что, согласно пункта четвертого заключенного с передвижным зверинцем условия, он был обязан доставить слона в Петербург, т. е. в гавань. Остальное его не касается. Поэтому зверинец должен заплатить ему. В сущности, это даже к лучшему: меньше хлопот. Что же касается Кини, то он, конечно, сумеет устроиться с полицией…
Подошел катер. На набережной м-р Грэди взял автомобиль.
– Я буду очень признателен, если вы будете моим переводчиком на этот вечер.
– О, я знаю только несколько слов, – ответила Надя, наполняясь гордостью.
Она первый раз в жизни могла поехать в автомобиле. Отказаться было невозможно.
– Толичка, купите мне билет на поезд, – сказала она. – Мы ведь вместе едем?
Шеломин расцвел.
«Ах, глаза – синие, ясные, радость, что бы ни случилось, они с ним!»
– До завтра! – крикнул он вслед.
Надя превосходно отвечала на вопросы: «который час» и «какая улица», улыбалась, подставляя лицо мягкому ветру и, наконец, даже попыталась завязать разговор.
– Почему слон убежал?
М-р Грэди нахмурился.
«Черт!» – подумал он: «Надо было послушаться гнусавого американца, достать слону самку».
Вслух ответил уклончиво:
– Не знаю. Со всеми так бывает…
– Да… да… У нас была лошадь, Воронко. Старая и смирная, как башкирин… Но стоило выехать на ней в степь, она несла и бесилась, как дикий трехлеток.
– Yes, yes, – закивал м-р Грэди.
М-р Грэди узнал, что Надя на лето уезжает. Прощаясь, он вежливо предложил учить ее английскому языку, если она захочет увидеть его, когда вернется в Петербург…
Перед глазами Шеломина, в ореоле желтых фосфенов, плыл круглый глаз. Вдруг из дверей пивнушки выскочил Рубанов, схватил за руку.
– Э, тезка, задумался? Пойдем пить, забудешь свою Наденьку.
В кармане у Рубанова бутылка водки, – с пикника.
Шеломину странно, что вот, человек пьян и все кажется, будто он никак не может понять чего-то. Самого важного для него и очень простого.
– Ты только не болтай, – шепчет Рубанов. – Может быть, меня ищут шпики. Пей!
Шеломин выпил: может быть, вспомнит, поймет.
– Опять задумался… На-ди-нька…
Нет, не вспомнить. И не забыть Нади. Разве можно забыть такую девушку? Сколько ни пей.
Вечером, перед тем как лечь спать, м-р Грэди записал в своей особой записной книжке, где ничего не было касающегося пулеметов и марганца:
«Русские женщины имеют самые прекрасные фигуры в свете».
4. Титан и пигмей
У Рабиновича не хватило гривенника на трамвай. Пьяный и злой, он шел в свою комнату на Старо-Невском проспекте. И жизнь в эту ночь показалась ему особенно гнусной, когда он, по привычке, взял перо.
Под столом звякнули пивные бутылки. В углу валялось грязное белье. Прачка забыла взять. В ручном зеркале, в черных волосах, седые нити.
Рабинович не поспел в лодку. Он слышал выстрелы, ускорил шаги, запыхался. На фоне стального зеркала залива стоял темный гигант. Карлик прицелился. Рабинович кричал: «Не смей!» Нервно щелкали винтовки… Тогда у него появилась эта смутная мысль.
От запоздавших пассажиров и матросов он узнавал подробности истории Урамбо. Профессиональный навык побуждал его использовать всякое потрясение.
В ручном зеркале, в черных волосах, серые нити. И на старых щеках колючая щетина.
«Вот прожить так жизнь, поставлять редакциям материал для рынка, сочинять повести и стихи – грамотные и надоевшие… А что лучше?»
Вдруг, в ручном зеркале, неподвижные глаза ожили. Рабинович вспомнил свою мысль. Он написал заголовок:
Титан и пигмей.
Высоко, в неясных сферах пьяной мысли мелькали какие-то едкие образы.
«Если он не нужен, никому и ни для чего, значит не нужен, никчемен в мире человек».
Человек – прилежный студентик – зубрит ложную науку, чтобы, в свою очередь, мучить потом маленьких детей… В девственных дебрях бродит грозный дикарский бог. Леса трепещут перед ним. Стихии веселят его. Мир подчиняется ему… Но человек, белое обезьянье племя, открыл огонь и порох, гром и молнию, подчинил чудо. Огнем и громом он завлек титана в загородку из высоких толстых столбов и держал его там, пока его душа не помутнела… И когда он проснулся, преодолел волшебство, снова стал богом, – человек, трусливый пигмей, убил его из вонючей трубки, за тысячу шагов…
Неожиданно Рабинович увлекся работой. Давно он не писал так легко.
Шеломин лежал в кровати, в комнате была белая ночь. После усталости, вина, бесчисленных видений, его тело расплывалось в какой-то неподвижной эйфории. В глазах расходились радужные круги, желтые и голубые фосфены, сливались в сияющее море, на берегу Урамбо трубил в рог хобота, Надя, купаясь, выходила на пляж, лодка качалась. Выше и выше…
Утром, после бессонной ночи, он встал: дежурить за железнодорожными билетами.
Утром Рабинович был у редактора вечерней газеты. Редактор уныло потянулся к рукописи.
– Ну, что у вас там?…
Дела были плохи. О забастовках и Распутине нельзя писать. Никакой войны. Чем жить?
Редактор лениво развернул рукопись. Вдруг он задергался, оживился. Сразу, безошибочным чутьем, он угадал, что наконец, – наконец…
«Вот единственный расстрел, о котором можно писать сколько угодно! Сенсация!»
– Вам аванс?
Рабинович вышел на улицу, подпрыгивая от предвкушения многих, вновь доступных, приятных гадостей.
Он обедал в знаменитом литературном кафе. На его столике, к общему изумлению, появилась бутылка хорошего вина. Его окружили. Рабинович угощал, читал свою статью. Литературные дамы предложили поехать на Канонерский. Рабинович взобрался на холмик, на том месте, где Петухин распорядился зарыть Урамбо, и вдохновенно декламировал:
– Я видел, я видел его! Нет, это вовсе не было то, что вы называете «слон», – смирное ленивое животное, жующее булки в зоологическом саду. Из него, как от солнца, излучалась сила. Те неизвестные жизненные лучи, которые присущи всем нам, но только невероятно напряженные. В нем был бунт. Стихийное, дионисовское начало. То, чего нам больше всего не хватает. То, что мы должны разбудить в себе! Подумайте, почему он так бешено стремился к свободе? Почему так страшно ненавидел свое стойло? Он сломал его, как должна сломаться наша гнилая цивилизация, он вырвался через все преграды вперед, во что бы то ни стало, на волю!.. Вот, что я увидел, вот, что должно вдохновлять нас, вести на путь борьбы, во что бы то ни стало, вперед…
Рабинович говорил долго, глядя поверх голов, вывертывая длинные руки с перекрещенными пальцами, но все слушали и разошлись по домам, полные самых горячих побуждений.
Женщины украсили могилу Урамбо цветами. Обсуждали проект памятника. Урамбо должен был олицетворяться человекоподобной, титанической фигурой во фригийском колпаке свободы…
Вечером, когда м-р Грэди изобретал комбинации с немецкими пулеметами, а Шеломин, в сладчайшей своей эйфории, стоял в очереди у восточной кассы, Рабинович допивал аванс в развеселом кабаре.
В зал городской железнодорожной станции вбежал мальчишка газетчик.
– Вичерние Биржевые! Убийство Урямбо! Вичерние Биржевые! Убийство Урямбо!