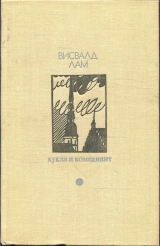
Текст книги "Кукла и комедиант"
Автор книги: Висвалд Лам
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)
8
Самый красивый, возвышенный, единственный роман в жизни Яниса Смилтниека в то лето, осень и зиму. У Карклиней они бывали втроем, так уж повелось. Улдис время от времени откалывал всякие штуки, Придис был самый тихий из них. По-прежнему появлялись и другие парни, но теплой, интимной дружбы с Лаймдотой медленно и незаметно добился один Янис.
Боковое течение взбудораженной, взбаламученной жизни, казалось, занесло этот дом, мастерскую, квартиру в тихую заводь. И Янис порой позволял себе думать, что так все и останется. Практический, холодный ум обольщался розовыми надеждами. Лаймдота, Лаймдота! Он как будто отгородился железными воротами от житейского зла, разумеется, только воображаемыми. А по сути дела, всех их оберегала жалкая изгородь из лучинок, которую мог сломать любой шуцман. Да и в воображаемые железные ворота порою стучала тяжелая рука Каменного Гостя: «Отопри! Я явился к концу пиршества!» Янис испытывал страх, стены милой, надежной квартиры кренились, вновь открывалось опасное неведомое. Там был Улдис.
А много ли наблюдал в то время Янис за Улдисом? На работе Улдис часто кашлял, даже в школе, прижав ко рту чисто выстиранный платок, приглушенно откашливался. И вообще стал более нервным, желчным, перемогался, что Янис глубокомысленно объяснял недостатком витаминов. Хлеба и мяса им теперь хватало. И все же Улдис слабел, под глазами у него виднелись темные круги, а в глазах часто вспыхивал нездоровый блеск. Улдис, да, Улдис, но ведь на свете есть Лаймдота! Она обращала на себя все заботы, все душевное внимание, все мысли Яниса. Хотя и моложе Яниса на год, в гимназии Лаймдота шла классом старше, потому что раньше начала учиться, стало быть, раньше и закончит – весной 1944 года. Учиться дальше она не думала, хватит, пожила за счет родителей, пора и самой зарабатывать. Янис кое-что узнал о сестре Лаймдоты Смуйдре – мадам Берман. Мать любила обеих дочерей, любила и это звание «мадам», даже сама себя охотно величала «мадам Карклинь». (А как чудесно это звучит – мадам Смилтниек!) У Смуйдры был этот господин Берман, был маленький сын, «бедный маленький клопик», как обычно вздыхала мадам Карклинь. Сам Артур Берман, насколько Янису доводилось видеть, обычно пребывал в мутном тумане, образованном винным угаром, и хамством в смеси с сентиментальными пьяными слюнями. От него несло самохвальством, сигарами, острым рвотным запахом. Таким он являлся из своих неведомых скитаний, принося грязь, похмелье, немного денег и заискивание перед женой. Сам пекарь Карклинь на незадавшуюся семейную жизнь старшей дочери взирал ясными глазами. Бывало, что он весьма цинично говаривал: «Смуйдра начисто заморочена этим своим битюгом. Три ночи за месяц он дома проводит. Вот и показывает себя в постели, если только жена пускает такого в постель».
Мадам Карклинь зажимала мужу рот: «Как тебе, отец, перед девочкой не стыдно!»
А девочка, то есть Лаймдота, покраснев, убегала в другую комнату. Она была воспитана в надлежащем духе. Карклинь только в сильном гневе позволял себе нечто подобное. В военных условиях нелегко было прокормить столько ртов, поэтому работала и мадам Карклинь, так что Лаймдоте не приходилось думать о дальнейшем учении.
Каменный Гость грохнул тяжелым кулаком в кованые железные ворота, преграждающие вход в сознание Яниса Смилтниека. А этот ставший таким наивным мечтателем практик строил планы на будущее, такие розовые, такие робкие. Он возьмет еще одного работника, расширится, заработает, женится. Счастливец, счастливец… Зима была мягкая, приятная, чудесная, белая, чистая, нежная…
9
Весной Придиса угораздило загнать железную занозу в большой палец правой руки. Такая ерунда, что он даже не заметил, а потом не хотел обращать внимания на пронзительную боль, которая схватывала, когда он случайно задевал чем-нибудь этот палец. Бедняге вообще не везло. У него было худо с зимней одежкой. Янис отдал кое-что из своего гардероба, да и Улдис старался помочь, хотя сам был не бог весть какой богач. Потом накрылось жилье. Селился он у дальних родичей, которые терпели этого «лесовика» только потому, что надеялись на то, что его отец как-нибудь привезет козлиную ляжку или бочонок масла. Но Придисов отец не являлся и сыном не интересовался. Родичи не скрывали своей злости и разочарования, они стали требовать, чтобы Придис или обеспечил их дровами для кухни, или убирался. Но парень действительно не мог приволочь сухую сосну из родных лесов, находящихся больше чем за сто километров. Какой-нибудь угол он бы подыскал, но это значило бы, что спать придется на голом полу в нетопленом помещении. На горести свои Придис не жаловался, но, когда он захотел остаться ночевать в мастерской, Улдис расспросил обо всем и отвел его к себе. Сразу же после этого свалилось несчастье с пальцем. Первую ночь Придис еще кое-как перетерпел, устроился на кухне и читал захватывающую книжку про призраков и вампиров. Книжка была такая сильная, что порой от нее мурашки бегали и боль пропадала. Но на другой день Придис на работе был словно «мешком хлопнутый». Янис заметил это и погнал парня к врачу. Врач оказался подстриженной под мужчину женщиной. Робко потрогав злополучный палец, она велела сестре смазать его черной, резко пахнущей мазью. Придису дали больничный лист. Диагноз – панариций. Гм, Янис читал, что панариций вроде бы лечат широким рассечением тканей. «Тю, дурень! – испугался Придис. – Палец и без того эвон как болит, а тут еще резать! Мазь что надо, вытянет всю гниль, докторша вроде баба с умом!..»
Через несколько дней у Придиса начался жар, его отправили в больницу. Тамошние медики нехорошими словами отозвались о своем коллеге из больничной кассы, положили парня на стол и вылущили весь сустав большого пальца. Невыносимая боль стихла, гноение продолжалось, пока наконец не выпала, словно крысами обглоданная, косточка. Придис стал полуинвалидом.
Как он исходил злостью, бедняга! «Врачиха, специалист, тоже мне хирург! Калечить специалист, вот она кто! Баб скоблить, наверное, мастерица!» Ха-ха! Янис не хотел смеяться над бедой Придиса, палец парня ужасно донимал, но, когда тот ругался, поневоле засмеешься – деревня деревня и есть, даже похабщина его напоминала хорошую навозную толоку, когда от запаха коровника ни у кого не перехватывает горло. У прежних помощников, таких же молодых парней, у тех безо всяких усилий извергались сплошные помои. Улдис с видом прозорливца произнес: «Ах, милый друг, не грусти, не грусти, не печалься. Утратив полпальца, ты обретешь большой жизненный опыт. Кое-кто потеряет полголовы, а то и всю голову. Ты и не предвидишь всего блага, которое явится от этой потери».
Ирония судьбы, Улдис не заглядывал так далеко и глубоко, но спустя несколько месяцев Придис прекратил свои поношения и наконец стал чуть ли не возносить неумелую врачиху. Перемены убеждений, воззрений и веры всегда злили Яниса Смилтниека. «Сволочи, – чертыхался он в таких случаях, – что они делали, говорили, писали вчера и позавчера? Как людям не стыдно своего прошлого?!»
Улдис с напускным цинизмом произносил: «Для холопа прошлое – мертвый господин, а настоящее – господин живой. Пока существует власть господина, хорошо оплачивается и холопство».
Когда на работе бывали свободные часы, они проводили их в спорах, читали «Отчизну» и «Эпоху», рассказывали последние анекдоты, что кому удалось услышать. Улдис всегда знал стишки, высмеивающие рейхскомиссара и комиссаров, которые бродили по бывшей школе имени Райниса, нынешней 10-й гимназии. Янис посмеивался над ними, но тут же забывал, анекдоты крепче держались у него в памяти. Газетам, официальной информации он вообще не верил, но был готов поверить, если известия устраивали его. Что ж, каждая мелочь хочет взять что-то от благ большого мира. Улдис больше издевался, как будто просто стремился к смеху ради самого смеха. Придис слушал и молчал – его лесные концерты здесь были не нужны. Так, он и словом не обмолвился, когда «Отчизна» преподнесла «радостную» весть о создании латышского легиона СС. У Яниса было такое чувство, что кулак судьбы брякнул его по затылку. Да и Улдис в первую минуту задумался.
Янис воскликнул:
– Где они возьмут добровольцев?
– Ушел же добровольно Эдгар. Разве он не стоит целого отряда героев?
Стиснув губы, с серым худым лицом, с глубокой морщиной между бровями, Улдис гнул свою жесть. В уголке рта знакомая усмешка, делавшая его не то злобным, не то старым. Похоже, что он начал стареть еще до того, как стал юным. А не была ли ухмылка Улдиса, в конце концов, только мелкой черточкой в кощунственной гримасе эпохи? Добровольные, безвольные, слабовольные, слабоумные, скудоумные… За какую свободу они будут бороться? Батальон прошагал по Гитлерштрассе, бывшей улице Свободы, прогромыхал по шведской брусчатке, сотрясая воздух песней «Он геройски пал на поле брани, в жертву родине себя принес». «Эпоха» пестрела фотографиями – боевые эпизоды, взрывы снарядов, оружие, люди в мундирах, суровые люди. «Отчизна» печатала мужественные стихи, очерки, фронтовые известия и объявления о геройской гибели. Официальная формула: черный железный крест с изображением ордена Лачплесиса слева от железного креста. Довольно неожиданным казалось единение Лачплесиса с Черным Рыцарем. Или, погрузившись в пучину Даугавы, они заменили смертельное объятие братским содружеством? Улдис заметил, что медвежьи уши были отрублены еще на обрыве над Даугавой[5]5
Герой латышскою эпоса Лачплесис был рожден от медведя; исполинская сила его заключалась в медвежьих ушах. Лишившись их, Лачплесис гибнет в пучине, увлекая за собой воплощение немецкого гнета – Черного Рыцаря.
[Закрыть].
– А не были ли у рыцаря нашей Лаймдоты, скорее, ослиные уши? – заключил Улдис, имея в виду студента. – Когда Латвии будет отведено обещанное место в гитлеровской Европе, мы все это обстоятельно проверим.
Янису Смилтниеку и сегодня нравится все обстоятельно проверять. Хорошо, если бы человек всегда знал, как в каждый момент поступать. Но, стало быть, есть же причины, которые одного заставляют действовать так, а другого совсем наоборот. Так, он вспомнил день, когда по чистой случайности был в Старой Риге, проходил по Ткацкой улице мимо бывшего армейского экономического магазина. Янис знал, что вход в магазин разрешен только немцам. Ничего особенного, такие оскорбительные объявления украшали каждое приличное место, и если он все же остановился и с любопытством уставился, то не на эту, запертую для него дверь, а на латышского офицера, который стоял поблизости и разговаривал с двумя инструкторами. Снова нечто характерное для этого времени, когда всякие вопиющие противоречия не просто вопили, а орали друг на друга: в тени бывшего магазина бывшей армии человек в форме бывшей армии со всеми нашивками, при сабле, в парадной фуражке, на околыше которой сверкает латвийский государственный герб. До этого Янис видал только солдат из добровольческого батальона, с ободранными петлицами даже у офицеров. А этот просто из прошлого явился. Дверь «только для немцев» распахнулась, оттуда вышли какие-то офицеры вермахта, один из них приостановился и, натягивая кожаную перчатку, окинул латвийского капитана любопытным, слегка насмешливым взглядом. Вот ведь, и кого только у нас не насобирали! То ли немца восхитила, то ли насмешила сабля, которую сами они не носили, – оружие, выглядевшее устаревшим даже как атрибут милитаризма, – то ли заинтересовала незнакомая форма, броская, но без особых украшений, то ли фигура в этой форме, гордая, самоуверенная. Янис Смилтниек быстро прошел, но его так и не оставили воспоминания о гордой выправке одного офицера и усмешке другого. А опасный соперник самого Яниса, Эдгар, который выбрал форму простого солдата, да еще с оборванными петлицами!.. Почему один, почему другой, почему третий? Должно же быть какое-то объяснение.
Латышский капитан, наверное, учился в военной школе, так же, как Янис Смилтниек у мастера в механической мастерской; у каждого свое ремесло, каждый хочет заниматься своим, потому что не умеет делать ничего другого. Попытка покорить Россию пока что принесла неудачу и тяжелые потери. Гордые немцы уже не брезгуют ни одним союзником, вернули капитану его форму, старомодную саблю, честь и офицерское жалованье. Почему же ему не чувствовать себя довольным и не выпячивать грудь? Работа чистая, хлеб мягкий… Может быть, до появления Яниса Смилтниека он вышел из той двери, открывать которую разрешено только немцам. Еще одна привилегия. А может быть, он дошел только до двери и был отогнан, как не немец? Кто скажет это Янису?
Ладно, у офицера мышление профессионального военного. А Эдгар? Янис тогда радовался, когда тот пошел добровольцем, и не подумал поинтересоваться его мотивами. Он не верил в то, что сам Эдгар сказал, эти глупости можно ежедневно прочитать в «Отчизне», ни один нормальный человек не мог принять их всерьез. Так почему же? И Эдгар был не единственный, сотни составили этот батальон, который послали в огонь, на смерть. Что они все, без царя в голове?
За каким чертом надо идти воевать за немцев? По глубочайшему убеждению Яниса Смилтниека – это убеждение он, возможно, не смог бы выразить словами, но оно сидело у него в мозгу, – каждый действует, руководствуясь чисто деловыми соображениями, тем, что он может выиграть или потерять. Янису Смилтниеку и в голову не приходило отказаться от Лаймдоты, от мастерской, лишиться образования и видов на будущее, и все это ради ежедневного смертельного риска и сомнительной чести воина-добровольца. Янис решительно не понимал, почему и другим надо это делать, но все же полагал, что Улдисовы насмешки неуместны.
В конце концов, кто таков сам Улдис?
Янис Смилтниек взглянул на долговязого ехидника сегодняшними глазами, ухитряясь при этом находиться во вчерашнем сумрачном подвале у своих тисков. Он даже оторвался от дела, что с ним бывало довольно редко, опустил руку с поднятым, только что разогретым паяльником и внимательно уставился в серое, изрезанное ехидной усмешкой лицо Улдиса. Несозревший парнишка, легкомысленно отказавшийся от больших материальных благ, от наследства, не сознавая всей его ценности. Но работает хорошо, не жалуясь ни на холод, ни на голод, ни на нужду, никогда не оплакивая утраченного. Напоминает бесшабашного зубоскала, который всю жизнь считает увеселительным автоматом, куда бросают сантимы, чтобы получить шоколадку; он бросил все движимое и недвижимое, чтобы получить взамен право издеваться и сыпать остротами. Это верно, он всегда готов прийти на помощь, не корыстолюбив, никому не завидует, не норовит подставить ножку, жалит только языком, но ведь есть же поговорка: «Языком заработал, спиной расплатись». «Молодой, легкомысленный, воздухом подбит, – вывел заключение Янис и для оправдания добавил: – Станет старше, будет как все». Вообще с Улдисом можно ужиться, но только вот над Эдгаром не надо бы так издеваться.
Думал ли Янис Смилтниек так и сейчас? А как с Придисом?
У Придиса болел палец, он надеялся на врача. Придис потерял сустав пальца – маленькую изглоданную косточку – и за это честил врачиху. Пусть они там создают свои легионы, он в них ни ногой. Но что же делать генералу Бангерскому, если вместо запланированных дивизий будет лишь несколько изреженных пулями батальонов? Между прочим, немцы потом передумали и командиром дивизии назначили немецкого графа, дав латышскому генералу-мужлану должность генерал-инспектора. А что ему было инспектировать? Повестки, которыми молодых парней вызывали в мобилизационные пункты? Так тогда ему надо было дать чин генерал-писаря, потому что тем, кто являлся на комиссию – а являлось большинство вызванных, куда денешься! – давали уже приготовленный бланк.
«Вам предлагается вступить в латышский легион СС! Извольте подписаться!»
К сожалению, господам из комиссии приходилось и морщиться – слишком многие не хотели подписываться. Но еще такой специалист по военным вопросам, как Наполеон, говаривал, что господь бог всегда на стороне сильного. Подписался ты, не подписался, сказал «да» или промолчал, в легион зачисляли всех, кроме тех, что ростом не вышли, этих совали во вспомогательные службы вермахта. Янису повезло, трудовое управление направило его в железнодорожные мастерские и там выдало карточку НЗ – незаменимый. А молодые легионеры в серо-зеленой форме СС маршировали по рижским улицам, повсюду слышались звон бутылок и на скорую руку сочиненная песенка: «Будь здорова, крошка, и привет!»

Придиса признали негодным из-за злополучного пальца, и он со всем сердечным пылом благодарил дуру врачиху, желая ей долгих лет и доброго здоровья. Улдиса как будто ничто не могло спасти, но вышние силы пеклись и о нем – медицинская комиссия обнаружила в его левом легком туберкулезные очаги. Вот, оказывается, где была причина его усталости, худобы и бледности. Бациллы лучше всего чувствуют себя в сыром подвале и холодной квартире. Краем уха Улдис подслушал, что врач шепнул одетому в форму латвийской армии офицеру: «Этот мешок с бациллами не стоит брать, еще других перезаразит». И ему вежливо велели одеться.
Мастерская доживала последние дни. Янис ее еще держал: пусть оба работают, никто к ним не привяжется. И ребята ходили туда, как повелось, но настоящего хозяина уже не было. Ошивались там, чтобы только зашибить несколько марок на продуктовые карточки. Янис основательно запрягся в работу в железнодорожных мастерских, а все остальное время поглощала Лаймдота. Улдис начал серьезно недомогать, похоже было, что скоро придется слечь и ждать последнего часа. Все чаще он по-стариковски кашлял и плевал кровью. Лето было в самом разгаре, а он выглядел бледным ростком проросшей весной картошки. Придису осточертел пыльный и душный город, но он не покидал вечно квелого чахоточника, наверное потому, что не хотел бросать друга в беде. Он старался вытаскивать Улдиса в окрестные леса и на озера, как это делали прошлым летом, но Улдис стал какой-то странный, похоже, чересчур ослабел, какой-то стал капризный и предпочитал торчать дома с книжками. Прихоть смертника.
За месяц с лишним Янис совсем потерял связь с обоими парнями, даже не знал, что там, в мастерской, творится. Как-то, когда время уже стремительно мчало к осени, мать Лаймдоты передала ему ключ от мастерской. Придис вручил его и велел сказать, что они с Улдисом сматываются из Риги. Куда? Зачем? Но этот мордан только усмехается. Пошел по свету рыскать и того бедолагу потащил с собой. Уж дал бы по-хорошему помереть в родном городе, все равно до будущей зимы не доживет, это каждому видно.
Придис, надо быть, запропал в своих лесах. Так ведь и Янис из тех мест. Как-нибудь поедет и разузнает. Улдис? А может, надо было побольше позаботиться о больном парне? А что может один человек против смерти, да и все мы, что?..
10
Улдис:
– Рядовой, ты знаешь, что такое порядок? Это роковая власть, которая ставит тебя на левый фланг, велит равняться направо и наконец дает команду: «Вперед, шагом марш!» Куда? Рядовой, прикуси язык, тебя не спрашивают, ты должен исполнять приказ. Carpe diem (пользуйся днем)! Следя за тем, как хорохорятся и разгуливают гоголи при нашивках и петлицах, я чувствую зависть – так калеки завидуют цветущей, гогочущей здоровой плоти. Но в подсознании эти пьяницы наверняка трепещут перед лотереей, которая им неизбежно предстоит и где много выигрышей в виде березового креста. Не знаю, уместна ли тут моя зависть, но я завидую, часто кашляю, слышу проклятый скрип в своих легких, а порой и соленый вкус во рту.
Дом, где я обитаю, находится на когда-то оживленном, а теперь заглохшем перекрестке. Из всех видов городского транспорта работает только трамвай, а военный транспорт течет по Гитлерштрассе. Здесь находится конечный пункт четвертого трамвая. Время от времени подползает вагончик, минуту подождет, заберет пассажиров, звякнет и катит. Снова тишина, редкие прохожие (вечером хоть наплыв в кино «Свет»), редкие покупатели в пустых магазинах, совсем пустой заснеженный Зиедоня-парк. Проживающие в доме, явившись в свои квартиры, стараются не беспокоить друг друга, не бродят по двору и по лестницам и, даже торопясь, закрывают парадную дверь бережно, без шума. Все совсем как в церкви перед заутреней. И вот так уже два года – притихло, но не застыло. И, кажется, сохранилось еще какое-то брожение, а отсюда накапливается давление, которое надо как-то разрядить. Квартира за квартирой выбивают затычку и выплескивают необычную пьянку, которая состоит из разных шумов, бурной жажды жизни и безудержного разгула. Долго постящееся ханжество хочет оседлать самый гребень волны. Далеко за полночь тишину терзают патефонные вопли, и они перекликаются через стены, из квартиры в квартиру. Порой слышен звон бутылок, иногда даже пальба из револьверов, с револьверным звуком начинает хлопать и парадная дверь. Если сначала была одна-другая дама, которую навещали немецкие солдаты (фу, какая!), и делалось это тихо, конфузливо, обычно под покровом темноты, то теперь мундиры объявлялись с песнями, громким говором, просто с ревом, и дамы ответствовали им громким смехом и весельем, словно бросая вызов всем добродетелям и всем святошам. Моей ближайшей соседкой была полная дамочка, швейка, которая умела вышивать белые рунические знаки СС на черных петлицах. У нее была своя машинка, но не хватало черного сукна. Извольте, молодые легионеры, приносите хоть вырезки из отцовских штанов и быстро и дешево получите себе нашивки. Дамочка нашла хороший источник дохода, она думала только о шитье, но нашлись и желающие. Дамочка долго не ломалась – не стоит строить из себя святую, лучше скопить воспоминаний на старость. Не из этических, а из чисто эстетических соображений я злился на ее клиентов, которые оставляли грязные следы на площадке. Этажом ниже жили две молодые девицы – блондинка и брюнетка; к ним ходили чины СД, ночью пели о трех увядших розах, о том, что еще не все потеряно, вели себя довольно шумно, но в потолок не стреляли, а мне, право, не хотелось угодить под шальную пулю. Для единственной в нашем квартале женщины, жившей этим ремеслом, настали тяжелые дни: приходилось поломать голову, как заработать на кусок хлеба, если столько молодых красоток даром или почти даром приносят себя на алтарь любви. В смятении металась она со своим предложением по темнеющей улице: «Мальчики, перед фронтом любви не хотите? Курс – пятьдесят марок». Но улица высокомерно отказывалась: «Катись к бесу, старая подстилка, много чести будет, если эсэсовец с тобой и даром переспит!» Но немецкий устав не давал этим хвастунам права ни на ношение рун СС, ни на звание эсэсмана, они были всего лишь легионеры при СС, так как сам легион был лишь в рамках СС. Но сейчас все выглядело так, точно весь мир был выломан из рам и косяков, и если наша нещадно разбиваемая парадная дверь еще держалась, то это было одно из тех чудес, которые так просто не истолковать.
Разгульная жизнь меня никогда особенно не влекла, но наблюдаемый вокруг смертельный фарс с ядовитой беспощадностью напоминал, что аз есмь только без пяти минут покойник.
Так прошли жаркие майские, июньские, июльские дни. Гогочущее разгульное веселье угнетало меня все больше, болезнь тоже. Зачем я живу, как смею осквернять своим дыханием смертника и бациллами этот пустившийся во все тяжкие дом, ведь я должен уже быть покойником! Придис старался убедить меня, что я слишком мрачно смотрю на состояние своего здоровья. «Не будь мобилизации, ты бы и не думал о здоровье, эти врачи тебя с ног свалили», – пытался он убедить меня, присовокупляя весьма поносные слова насчет врачебной премудрости. Какая-то правда в этом была, потому что до врачебной комиссии я, в общем-то, весьма безмятежно разгуливал по свету. Но все же резоны Придиса оставались вне моего сознания, куда уже вторглось угрюмое предчувствие смерти. Наверное, большинство чахоточных убивают не бациллы, а страх.
Все это время Придис был со мной мягок, улещал меня, но настал момент, когда он просто разъярился и этим, наверное, спас меня.
В тот солнечный августовский день я, как обычно, торчал у себя, сражался с мухами и читал «Das Land ohnne Herz», это я хорошо помню, хотя я в то время пролистал гору печатной бумаги. Меня потревожил Придис, ворвавшийся так, что все ходуном заходило.
– Во что это ты уткнулся?
– Читаю, – буркнул я.
– Вижу. По-немецкому читаешь. Ну-ну. А по-нашему это про что будет?
– Страна без сердца. В общем-то довольно интересно, про Америку, понятно, жуткая пропаганда, но много и правды.
– Плешь все это, – заявил Придис с воинственным презрением. – Фрицы ненавидят Америку, потому что эти лоботрясы из «золотых фазанов» там не смогут доллары зашибать. Работать не хотят, ремесла не знают, все только палкой да автоматом норовят. Страна без сердца?! Ишь, сердечные… горлохваты!
Я вновь уткнулся в книгу. Неожиданно книга исчезла – Придис выхватил ее и свирепо швырнул в угол.
– Ты что?
– Я уже обо всем договорился. Собирай свои шмотки, через час будет машина. Да поживей, не пяль глаза! Барахлишка мы не много нажили, книжки здесь останутся, пусть их дьявол читает и чахотка.
– Ты, ты…
– Будешь мне еще буркотеть, я тебя пришибу! – взревел Придис. Его округлое лицо пылало, в глазах стояли злые слезы. – Ключ от мастерской я передал Карклинихе, сказал, что мы сматываемся. Да что ты копаешься, будто старая дева на бал собирается!..
Я тупо поднялся, тупо последовал за Придисом на заезжий двор на Дерптской улице, где ждала машина какого-то сельского потребительского общества. Только когда мы уже катили мимо Кекавы, я осведомился, за каким чертом он решил меня похитить и куда.
– В мои места, – последовал веселый ответ. – В тех лесах не один легочник вылечился.
Придис растерял свою злость, ее словно унес дорожный ветер, он снова был добродушным круглолицым сельским парнем. И я ожил, подхватил его веселую песню и впервые за долгое время взахлеб смеялся. Но тут на меня навалился приступ кашля, я сплюнул красный сгусток за борт машины, но не стал поддаваться отчаянию. Мир был так залит солнцем, что в нем уже не было места для мрачных предчувствий.
Час за часом мы болтались на ухабах шоссе, глотали пыль, пели, курили. Придис мне ничего не запрещал, как будто я совершенно здоров. За Вецумниеками мы свернули на Аугшземе, и за Валлес кончилась полевая Земгалия. Мы очутились в дымчатой полосе лесов; какое-то время ехали по берегу Мемеле, здесь река проходит границей между Латвией и Литвой. Леса, леса, есть и поля, но вдали все равно высится чаща. Машина шла на Нерету. Мне было все равно куда, но тут меня охватило желание покинуть этот пыльный ящик и побрести по сосновому бору, вслушиваться в птичьи голоса, утопать ногами в мягком мхе, пробовать ягоды. Словно угадав мое желание, Придис забарабанил по крыше кабины:
– Эй, придержи!
Мы вылезли в пустынном месте. Перепрыгнули через канаву и вырезали себе палки. Весело продирались мы сквозь заросли, пока не попали в смешанный березово-еловый молодняк. Где-то вдалеке проглядывали серые крыши крестьянских усадеб, но Придис вел меня все дальше в лес. Ну и что?! Такое чувство, как у беглого каторжника, которого в любом лесу ждет только свобода. К самым березовым стволам припало ячменное поле, и остистые колосья тихо клонились от своей спелости; в уши мне ударили хлопки пивных пробок, шлепки пены на пол, веселые застольные песни. Янтарная горечь, эстафета пьющих пронесла тебя от колыбели цивилизации – от плодородных речных долин, через жаждущие пустыни, до полей латвийского края. Может быть, пьяное веселье – сильнейшее выражение человеческой сущности. И моралисты всего мира, что борются с ним, воюют с ветром, так же как и обличая грешные формы Афродиты, поскольку в холодный мрамор воплощена смертная женщина. Божественная жажда любви, мысли, опьянения, неуемная, всю жизнь томящая жажда. И влага переливается через край, поцелуи возбуждают, звезды манят к себе – можешь ли ты что-то свершить, все равно, здоров ли ты как бык или изнурен подлой болезнью. Так что пейте, братцы! Придис сказал, что в здешних краях из ячменя пекут лепешки, и вкусные. А похлебка со сметаной, м-м!.. Я поинтересовался:
– Может, ты знаешь хорошие брусничники?
Придис отрицательно покачал головой. Здесь места для него незнакомые, да и вечер уже, надо с ночлегом устроиться.
И я спросил:
– Да куда же мы идем?
Это далеко, завтра еще целый день придется мотать. Но походить по лесу – это для меня только на пользу. Я решил, что в таком случае надо поскорее сговориться с кем-нибудь насчет ночлега. Придис был не согласен: а зачем надо к кому-то проситься? Да еще в душную комнату? Здесь много покосов, можно и в сарае переночевать, а еды малость и своей есть.
Скоро мы наткнулись на лесной покос и увидели небольшой завалившийся сарай. Самое время устраиваться с ночлегом, сумерки уже сгустились.
Летняя ночь, когда лето уже на исходе, последняя теплая пора. Вокруг лес, словно тайна, – может быть, из чащи выйдет красивая добрая колдунья Лаума и заворожит меня. Усталость убаюкивала мою плоть, но кровь беспокойно мчалась от сердца к мозгу. Всевышний шутник, пошли мне в этой жизни сказку, заставь расцвести чудесным цветом источенную бациллами грудь, и я навеки прославлю твое величие и щедрость, даже все-все утративший и, яко червь, в смятении извиваясь. Я хочу захмелеть, жизнь так коротка, а смерть так холодна! Эти размышления звучали во мне чем-то вроде молитвы. Придис как лег, так и не шелохнулся, я чувствовал себя совсем одиноко во тьме, поэтому я то стыдился, то отдавался приливу сентиментальных чувств. Может быть, эта гнусная болезнь сама разжигает такую неудержимую жажду жизни – я был молод, но кашлял, как старец. Я был вытолкнут из хода жизни, хотя рассудок подсказывал, что мне надо только радоваться этому, так как теперешний ход событий с мобилизациями, легионами, геббельсовской тотальной войной – это жуткая чехарда, которая не может кончиться добром. И все же я не хотел быть несчастным, хворым страдальцем. Подступала глубокая горечь, настоящий приток желчи, и хотя я не очень завидовал здоровым, все же хотелось кричать о несправедливости, о том, почему и я не могу быть здоровым. Почему именно я? Я видел Лаймдоту, румяную, уютную, довольную собой, видел Эдгара, напыщенного от сознания своей студенческой мудрости и добровольческой доблести, видел всех этих веселых гуляк – здоровых, и только здоровых. Я не хотел смириться с тем, что мне выпала доля страданий, угнетающих мир; уже сама война была ненормальностью, она выплеснула целое море отчаяния и боли… Правители, суровые законы, война и всяческие хвори и напасти всегда терзали человечество, а я не хочу терзаний, в мире не одни страдания, есть и счастье, я требую свою долю. Разве у меня нет нрава жить, если я не мешаю другим? Может ли быть, что хозяином жизни вечно останется этот Талис с его автоматом, с его здоровыми легкими, идиотски распушенным хвостом и всяким ярким оперением? На это клюнула и та девушка… Мне она понравилась в тот раз, когда пришла в наш подвал к Придису. Думать о ней не хотелось, и все же я видел ее. Она стояла тихая, бледная, и словно не слышала тех поношений, которыми я мысленно осыпал ее. Придис спал, а я долго не мог заснуть…




![Книга Фигуры и складки [Второе издание] автора Федор Гиренок](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-figury-i-skladki-vtoroe-izdanie-272777.jpg)



