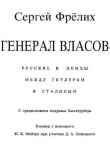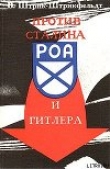Текст книги "Против Сталина и Гитлера"
Автор книги: Вильфрид Штрик-Штрикфельдт
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 18 страниц)
Я рассказываю об этом только, чтобы показать, насколько откровенно мог говорить подчиненный со своим начальником в ОКХ, когда дело шло о служении народу, еще в январе 1944 года. С бароном Фрейтаг-Лорингхофеном, который часто посещал Власова в Далеме, открыто обсуждались все вопросы возможного развития дел после поражения Третьего рейха. Как балтийский немец, он свободно говорил по-русски.
Барон Фрейтаг-Лорингхофен успешно проводил операции с казачьими частями при группе армий "Юг". Полковник Генерального штаба, он отказался занять предложенную ему должность начальника штаба генерала добровольческих частей. Он пережил унижение Германии и безнадежное положение немцев после поражения в первой мировой войне. Он видел, как национал-социализм уничтожил безработицу и принес благосостояние народу. Затем ему пришлось быть свидетелем того, как Третий рейх, выросший из реакции широких слоев народа на унизительные и экономически тяжелые условия Версальского договора, перешел к жестокому закабалению других народов. И он стал врагом нацистов.
В одном из разговоров с Власовым Фрейтаг-Лорингхофен поднял принципиальный вопрос: допустимо ли вообще, с моральной точки зрения, учитывая насильнические методы национал' социалистов, – помогать Гитлеру выиграть войну против Советского Союза.
– Вы говорите, "выиграть войну". Неверна ваша предпосылка, отсюда неверен и вывод. Германская победа в России невозможна, и стала она практически невозможной после отказа, в первые месяцы 1941 года, пойти на союз с русскими свободолюбивыми силами. Еще сегодня, вероятно, возможна победа над Сталиным русского освободительного движения. С немецкой или с иной поддержкой. Я говорю сперва "с немецкой" не потому, что я люблю немцев, а потому, что немцы пока единственные, кто борется со Сталиным. Через два года картина может сильно измениться.
Фрейтаг-Лорингхофен возразил:
– А что если из этой борьбы победителями выйдут немецкие и русские нацисты? Власов:
– Ну, ни я, ни мои сотрудники – не национал-социалисты. Это вы, вероятно, заметили. А если Гитлер думает обойтись нашими подхалимами, которые пресмыкаются перед ним и на всё согласны, то это – его дело. В один прекрасный день и его марионеточные правительства перестанут плясать под его дудку! Просто, такое положение не может долго продлиться. Важно вот что: Гитлер боится завтрашней национальной России, а проигрывает войну против Советской России уже сегодня... У меня же теперь лишь одна забота, чтобы Освободительное Движение не пошло ко дну во время крушения Германии.
Потом он добавил:
– Это будет возможно, если найдутся германские офицеры, с которыми мы решимся на этот последний отчаянный шаг для спасения свободы всех европейских народов, включая народы Советского Союза. Между тем, в январе 1944 года рухнул Северный фронт. После тяжелых боев, командованию группы армий "Север" удалось отвести войска на линию Нарва-Чудское озеро-Псков-Опочка – Полоцк. Гитлер снял фельдмаршала фон Кюхлера и заменил его генералом Моделем.
Отважные финны под командованием фельдмаршала Маннергейма вынуждены были просить перемирия.
На Среднем и Южном фронтах Красная армия продвинулась с декабря 1943 года по апрель 1944 года почти до Буга и до Карпат. Она стояла у границ балтийских государств, Польши, Галиции, Венгрии и Румынии.
Но германская армия еще занимала русскую территорию, равную по площади Баварии, Саксонии, Вюртемберг-Бадену и Гессену, с 12 миллионами населения запуганных, отчаявшихся и ловящих проблески надежды людей.
В то время как мы, с одной стороны, ломали себе головы над возможностями спасти, в этой запутанной ситуации весны 1944 года, что еще можно было, с другой стороны, нам приходилось всё чаще защищать Дабендорф от подозрений и прямых обвинений СД. Один упрек, повторявшийся непрестанно, гласил:
"В газетах Власова 'Заря' и 'Доброволец' слишком мало места отводится борьбе против еврейства. В статьях на эту тему, – если они вообще публикуются, – нет силы убеждения. Причина: главный редактор – Зыков по-видимому, еврей. Вообще здесь приходится думать о саботаже".
Зыков и его помощник Ковальчук подали Гроте и мне жалобу, так как немецкий редактор Борман, до той поры обнаруживавший большие такт и находчивость в своем незавидном положении между молотом (нацистскими требованиями) и наковальней (русскими стремлениями), не видел больше никакого выхода.
Но ни Гроте, ни я на этот раз также не могли найти выхода. И наконец сам же Борман предложил: попросить у соответствующих инстанций соображения, изложенные в меморандуме под заголовком "Особое отношение восточных добровольцев к еврейскому вопросу". Министерство пропаганды, Восточное министерство и СД должны были сперва основательно поспорить между собой по этому вопросу, сойтись на чем-либо или перессориться, и сообщить свое заключение. Это была блестящая идея: таким путем мы могли, по крайней мере, выиграть время. Мяч, брошенный соперничавшим ведомствам, застрял, к нашей радости, в сетке пререканий.
В этой связи, мне кажется, следует коротко остановиться на отношении Власова к еврейскому вопросу. Тем более, что после войны ему делались упреки, а ответить на них он уже не мог.
Власов редко упоминал о влиянии еврейских интеллигентов-революционеров на события в России, начиная с 1917 года. С другой стороны, он всегда повторял: "Сталин – не еврей! Палачи из ЧК и ГПУ Дзержинский и Ежов были не евреи! Берия, как и Хрущев, свирепствовавший на Украине, – не евреи. Наша борьба направлена против бесчеловечности Сталина и его палачей, безразлично какой они национальности".
Власов не стеснялся крайне резко осуждать "расовый бред" национал-социалистов и часто говорил: "Вы ведете бесчестную войну против евреев, против безоружных мужчин, женщин и невинных детей".
Власову чужда была ненависть. Его критика немцев была резкой. Кое над чем он подсмеивался, многое осуждал, но он всегда готов был понять и простить. Ему был чужд антисемитизм. Он считал, что среди евреев есть хорошие и плохие люди, как среди русских и среди немцев. Он говорил: "В целом же я убежден, что евреи, как один из древнейших культурных народов, обладают чрезвычайными способностями. С их интеллигентностью, деловитостью и широчайшими связями, они могут быть ценными согражданами. Я бы хотел, чтобы у нас было много Зыковых! Русский народный организм достаточно здоров, а процент еврейского населения так мал, что нашей стране не могло бы повредить, даже если бы все евреи, как это утверждают национал-социалисты, обладали только отрицательными: качествами. Но кто так говорит, – порет чушь. Когда национал-социалисты утверждают, что евреи виновны в нужде, в которую попал немецкий народ после 1918 года, я хотел бы спросить: разве не большинство народа, не сами немцы ответственны, в первую очередь, за свою судьбу? Почему же вы дали меньшинству забрать такую власть? Ведь это же ваша собственная вина. Если бы вы были достаточно умны и так же держались друг за друга, как евреи, тогда всё было бы в порядке. Но когда национал-социалисты заявляют, что германский народ страдал от евреев, – о чем я судить не могу, – мне вспоминается старая русская пословица: 'что русскому здорово, то немцу смерть!'"
Эти взгляды Власова, как мне известно, разделяли Малышкин, Трухин и вообще большинство в его штабе. Конечно, не все его сотрудники думали так же.
Другая серьезная атака СД по так называемому еврейскому вопросу была направлена, главным образом, против немецкого руководителя учебной части в Дабендорфе барона фон дер Роппа. Его обвиняли, будто он с кафедры заявил русским курсантам, что еврейский вопрос есть в национал-социалистической программе, но к русским он не имеет отношения; Сталин – абсолютный диктатор, и евреи не оказывают на него никакого влияния.
Такие высказывания – указывалось из СД – противоречат официальной линии и направлены против политики фюрера, поэтому необходимо провести расследование и соответственно наказать виновного. Высказывания фон дер Роппа соответствовали линии Власова, говорившего, что он не знает в Кремле, кроме Кагановича, ни одного видного члена партии – еврея. Троцкий, Зиновьев и другие евреи были в оппозиции Сталину и уничтожены, как и бесчисленное множество русских. Русское Освободительное Движение направлено не против евреев, как и не против какого-либо другого народа, а только против сталинского угнетения.
К этому приведу еще одно высказывание Власова:
"Мы не можем, – говорил он, – слепо перенимать всё у немцев. Мы, конечно, не принимаем теорию, что все русские, поляки, евреи и цыгане, унтерменши. Только скунсы гадят в свою собственную нору". Это последнее относилось к тем, кто даже в Дабендорфе работал информатором в СД.
Трухину и его штабу в Дабендорфе были известны источники таких опасных доносов. Это были агенты, засылаемые в Дабендорф со стороны не только НКВД, но и СД. Они добывали себе таким путем от партийных органов в Берлине различные привилегии.
Атаку СД на фон дер Роппа удалось отбить с помощью здравомыслящего и влиятельного офицера СС д-ра Хенгельхаупта, так прокомментировавшего его ответ, что бомба СД не взорвалась. В этой связи вспоминается одно небольшое происшествие, весьма показательное для того, чем занимались партийные чиновники в то время, как германские армии отступали на всех фронтах.
Было обращено внимание на одну из моих листовок, трактующую, как надо обращаться с русскими, и заявлено: "Обращаем внимание отдела ОКВ, ответственного за публикацию этой листовки, что в ней вообще нет слова 'унтерменш'". Борман пригласил меня пойти к одному из его друзей в Министерство пропаганды. "Не упоминается слово "унтерменш"? – сказал Борман, – мы это исправим. Напишем так: 'в каждом народе есть унтерменши, и мы резко выступаем против них'. Так и слово будет внесено, и цензор удовлетворен". Друг Бормана улыбнулся. Он был интеллигентным человеком, но притом и циником, он не верил ни в какие расовые теории, а может быть, ему доставило удовольствие "смазать" своему "коллеге", столь неуместно поднявшему этот вопрос. Предложение Бормана было принято, и листовка прошла таким образом официальную проверку.
СС на новых путях
То, чего Штауфенберг опасался еще в 1942 году, весной 1944 года стало действительностью.
14 октября 1943 года Гиммлер в Бад-Шахене на Боденском озере держал перед офицерами воинских частей ее зажигательную речь против Власова. Можно предполагать, что Гиммлер сделал это как предостережение, так как среди офицеров частей СС всё более распространялся взгляд, что изменения положения на Востоке можно добиться лишь с помощью Власова. Гиммлер обозвал Власова "подмастерьем мясника", и сказал "эта свинья Власов". Девиз Власова "Россия может быть побеждена только русскими" – он объявил наглостью. (Что эта фраза принадлежит не Власову, а сказана Фридрихом Шиллером 100 лет тому назад, было Гиммлеру, конечно, неизвестно, как и призыв к свободе в "Вильгельме Телле", запрещенном в нацистской Германии.)
Мартин ознакомил меня со встречей эсэсовцев в Бад-Шахене и затем добавил: "Действуйте, но будьте теперь сугубо осторожны".
Но, вопреки этим словам Гиммлера, казалось, что СС теперь бьется над новой политической концепцией, в которую должно быть включено и отношение к народам Восточной Европы. Наряду с бельгийскими, голландскими и норвежскими частями СС, были созданы эстонские и латышские части. В процессе организации находились галицийские формирования, силой до дивизии. Сообщалось, что приток добровольцев, несмотря на германские поражения на восточном фронте, превосходит все ожидания.
Итак, почему бы не создать и русские части?
СС уже перенял от вермахта несколько русских частей. В то время как Гиммлер еще говорил об "унтерменше Власове", его офицеры занимались формированием "восточных" частей, которым, впрочем, как и ранее в армии, не ставилось никаких политических целей в их борьбе. На вопрос русских "за что мы боремся?" и со стороны СС ответа не было. Но некоторых руководителей СС этот вопрос уже занимал. Я упоминал о визитах старших офицеров СС к Власову. Они – подобно неутомимому д-ру Р. – стремились к отмене анти-славянской политики и подготавливали, таким образом, почву для сотрудничества с Власовым.
Весной 1944 года Гроте свел меня с молодым издателем журнала СС "Черный корпус"{35}, Гюнтером д'Алькэном. Это был человек быстро всё понимавший. Я думал: вот бы из этого Савла сделать Павла! В разговоре с д'Алькэном участвовали также Жиленков, Зыков и Деллингсхаузен. Д'Алькэну удалось добиться согласия Гиммлера на участие нескольких власовских офицеров в пропагандной акции СС на восточном фронте с целью
привлечения перебежчиков. Штандартенфюрер д'Алькэн руководил пропагандой СС. Жиленков и Зыков дали необходимые разъяснения о задачах Русского Освободительного Движения, Деллингсхаузен и я комментировали их с практической точки зрения. Непременным условием участия русских было, что это будет акция Русского Освободительного Движения, а не войск СС. Войска СС должны предоставить русским только технические возможности. Никакого наемничества! Никакого обмана при этой, может быть, последней, попытке!
Д'Алькэн сразу понял суть наших условий. Он заверил, что это не будет локальная операция на узком отрезке фронта, что она должна лишь оказать пробивное действие и повлиять на изменение курса на всем восточном фронте.
Его слова казались нам заслуживающими доверия. Началась подготовка этой акции.
Но еще до начала этой акции, получившей название "Скорпион", Русское Освободительное Движение постиг новый тяжелый удар. Я находился в Германсштадте, когда Сергей Фрёлих и пастор Шаберт передали мне из Дабендорфа известие о похищении М. А. Зыкова. Зыков, вместе со своим адъютантом Ножиным, были взяты несколькими людьми в штатском в маленьком местечке Рюдерсдорф под Берлином, где они обычно бывали по воскресеньям. Их вызвали в гостиницу на опушке леса, под предлогом телефонного разговора. Оба бесследно исчезли. Показания
свидетелей были путанны и противоречивы. Так как оба имели при себе оружие, трудно было представить себе насильственный захват без сопротивления. Несмотря на расследование, предпринятое Деллингсхаузеном и д'Алькэном, об их местопребывании выяснить ничего не удалось.
Чьей работой было похищение Зыкова: Гестапо? Или, может быть, противники д'Алькэна из другой гиммлеровской организации были замешаны в этом грязном деле?
Потеря Зыкова была тяжелым ударом для Власова. И позднее, при составлении "Пражского манифеста", ему не хватало этого умного и независимого советника. Зыкова не все любили. Как начальник, он бывал суровым, даже грубым. Но он был по природе упорным борцом и наибольшим "западником" в небольшом руководящем кругу Освободительного Движения. Мы прошли вместе тяжелое время, и он всегда был надежным, хорошим товарищем.
Этот таинственный удар одного из двух больших врагов Освободительного Движения меня лично потряс, и я снова резко ощутил свое бессилие.
* * *
Акция "Скорпион" была проведена на одном отрезке южного фронта.
Как Жиленков, так и д'Алькэн вскоре сообщили мне об исключительном успехе предприятия. Число перебежчиков из Красной армии на участке, где действовали люди Власова, сильно возросло (по данным д'Алькэна, примерно, в десять раз). Д'Алькэн намеревался лишь доказать своему шефу Гиммлеру, что боевая сила Красной армии, несмотря на немецкое отступление и трудное положение на фронте, может быть еще расшатана, но лишь обнародованием политических целей Русского Освободительного Движения. Начальный успех акции "Скорпион" принес это доказательство.
Жиленков сообщил мне, что д'Алькэн предложил ему перенять от Власова руководство Русским Освободительным Движением.
Это не было интригой д'Алькэна. Он знал, что Власов для Гиммлера – как красная тряпка для быка, а выходкой в Бад-Шахене ("подмастерье мясника") Гиммлер так утвердился в своем мнении, что ему просто трудно изменить свою позицию. Для д'Алькэна же дело шло, прежде всего, о достижении быстрого успеха в большом масштабе. Он думал заменой "фигуры" Власова в кратчайший срок получить согласие Гиммлера. Жиленков отклонил это предложение. Значит, всё же оставался Власов.
Я не знаю, как д'Алькэн, в конце концов, добился своего у Гиммлера. Во всяком случае, он был не только умен, – он не боялся ответственности и обладал большим гражданским мужеством, отстаивая свои убеждения. Добиваясь этой перемены отношения к Власову, он шел на большой личный риск.
Может быть, Гелен в свое время имел бы успех со своей акцией "Просвет", если бы у него был прямой доступ к Гитлеру. Цейтцлер понимал положение, но, будучи в первую очередь и главным образом солдатом, он всегда склонялся перед волей своего начальства. Кейтелю же не хватало как понимания, так и моральной силы.
Как я уже говорил ранее, я не знаю, что происходило в кругах СС. Однако ясно, что к тому времени часть руководящих эсэсовцев начала понимать критическое положение, угрожавшее самому существованию Третьего рейха. Меня бомбардировали телефонными звонками и просьбами об информативных встречах с разных сторон, включая промышленников и министерство Шпеера. Мне говорили: "Это очень важно и спешно. Дело идет о том, чтобы получить информацию о "Власовском движении" из первых рук. Власову, может быть, удастся помочь. И нам тоже!" Но о целях или намерениях моих собеседников ничего заранее не говорилось. Порою лишь при встрече я узнавал имена моих собеседников и лишь после нее мог составить себе представление об их служебном положении или функциях. Я вспоминаю отдельные имена: Керль, Плейгер, Олендорф, Шелленберг, Вехтео, Циммерман, Арльт. Что было у них на уме, оставалось неизвестным. Говорились общие слова и любезности и высказывались мнения, что известное сотрудничество с Власовым могло бы быть взаимно выгодно. Естественно, я пользовался случаем подробно информировать собеседников о позиции и целях Власова. Д-р Арльт, начальник штаба Главного управления добровольческих частей СС, был наиболее открытым и, в личном плане, даже приятным собеседником. Он открыл мне кое-что о новых намерениях СС, а именно: национальные силы и воинские части народов России в будущем должны привлекаться к сотрудничеству с СС. Это относится и к великороссам, хотя они не должны играть руководящей роли, а быть на равных началах с украинцами, кавказцами, тюркскими народами, латышами, эстонцами и другими национальностями.
Мои разговоры с Плейгером и Керлем были откровенны, но ограничивались проблемой отношения к восточным рабочим. Они обещали добиваться улучшения отношения к ним по рекомендациям Власова.
Всё же решающей беседой, приведшей к коренной, хотя и запоздалой, перемене в развитии дела, был разговор с СС-обергруппенфюрером{36} Бергером. В приемной у него уже ранее меня был Томас Гиргензон, СА-фюрер высокого чина, пожаловавшийся мне, что он ждет более часа, хотя пришел точно в назначенное время. Мне было неловко, когда, после короткого ожидания, в обход Гиргензона я был приглашен в кабинет к Бергеру. Благодаря моему опыту, приобретенному в военные годы в ведомственных джунглях, и учитывая беседу с Арльтом, я оценил эту внеочередность приема как указание, что разговор со мной весьма важен для Бергера. И я не ошибся: Бергеру было что мне сказать!
Сперва Бергер попросил меня обстоятельно рассказать ему о Власовском движении, что я и сделал в привычной уже форме. Бергер слушал внимательно, не перебивая и не пытаясь подшучивать или же поучать меня, что было хорошим признаком. После моего доклада Бергер сказал, что хочет познакомиться с Власовым лично; он полагал, что лучше всего это сделать за обедом. Мы обговорили детали и решили, предвосхищая согласие Власова, что приглашение должно быть послано по официальным каналам.
– Мы хотим помочь вашему Власову, – весело сказал он. – Приводите его.
Это было всё.
После некоторого колебания Власов согласился на встречу, и порядок ее был установлен официальным путем. Я не помню, где был устроен этот обед. По желанию Бергера, я сидел за столом между ним и Власовым.
– Так лучше, – сказал он, – легче будет нам разговаривать.
Власов сказал мне потом, что не почувствовал в нашем хозяине фальши и поэтому изложил Бергеру свою политическую программу. Бергер с полной откровенностью заявил, что было сделано много ошибок не только в отношении России. Надо теперь их исправлять, почему он и пригласил Власова. Ошибки были сделаны и на Балканах, и в отношении Турции, которая, если бы подойти правильно, давно уже могла бы вступить в войну на стороне Германии. Самое важное – обращаться с людьми корректно и гуманно. Со всеми людьми и со всеми народами. Надо бы привлечь на свою сторону и персов, и индийцев, и арабов, продолжал он. Он совсем отошел от темы, но в нем не чувствовалось заносчивости, а тон его был дружеским. Его замечание об отношении ко всем народам было для нас новостью. Такого мы никогда еще не слышали, да и к тому же из уст эсэсовского вельможи. И мы слушали с большим недоверием, стараясь проникнуть глубже слов.
Неожиданно Бергер наклонился ко мне и сказал:
– Как вы думаете, если мы назначим оберфюрера{37} Крёгера связным офицером от Власова к рейхсфюреру? Вы ведь знаете Эрхарда Крёгера?
(Значит, дело зашло уже так далеко!)
Я поверхностно знал молодого рижского адвоката Крёгера, участвовавшего в движении "Heim ins Reich" ("За возвращение на родину"), – в переселении балтийских немцев в Германию, организованном Гитлером после начала войны 1939 года. Сам я никогда к этому движению не принадлежал, но знал, что Крёгер играл в Прибалтике руководящую роль среди "движенцев", к которым принадлежала часть балтийских немцев, в основном молодежь, разделявших идеи национал-социализма. Однако весной 1943 года я решил посетить Крёгера и обратить его внимание на губительные последствия теории об "унтерменшах". (Крёгер был самым крупным эсэсовцем, которого я знал; он стал в Германии активным членом национал-социалистической партии и занимал высокое положение в СС). Крёгер целый час внимательно слушал меня, делал себе заметки и обещал свою поддержку, дав при этом понять, что он не одобряет политики германского правительства на Востоке. Это было всё, что я знал о Крёгере, но когда Бергер неожиданно спросил меня о нем, я решил, что должен ответить положительно: если уж связь с СС неизбежна, то многое говорило за выбор Крёгера в качестве связного; он, как балтийский немец, более подходил к этой роли, чем какой-либо эсэсовец высокого ранга из самой Германии. Во всяком случае, я так тогда подумал.
Разговор с Бергером привел, таким образом, принципиально к договоренности, но меня мучили двойственные чувства. Меня передернуло при "фаустовской" мысли о пакте с Мефистофелем, когда Бергер, со своей простецкой манерой взяв меня под руку, сказал мне при расставании:
– Вы знаете Власова и его русских; вам и судить, подходит ли для них Крёгер. – И, обратясь к Власову, он заявил:– Я надеюсь, что мы скоро увидимся. Рейхсфюрер спрашивал меня, знаю ли я уже вас. Теперь я вас знаю.
Казалось, что СС ранним летом 1944 года решил использовать возможность, упущенную в 1941 году главным командованием вооруженных сил. Но я был уверен, что перемена курса была не добровольной, а вынужденной тяжелым положением на фронте. Цели этих людей были по-прежнему неясны. Мы не знали их, а нам придется теперь с ними работать.
Власов также был сдержан, но он видел, что это, быть может, последний шанс.
Очевидно, незадолго до нашего посещения Бергера д'Алькэн добился согласия Гиммлера на встречу с Власовым. Состоявшийся обед показал, что Гиммлер вовлек в доверие и Бергера. Д'Алькэн сказал нам, кроме того, что Гитлер также дал согласие на встречу Гиммлера с Власовым и на мероприятия, могущие из нее последовать. Встреча ненавидящего русских Гиммлера с "унтерменшем" Власовым была намечена между 20 и 23 июля 1944 года.
Этот политический поворот на 180° был столь поразителен, что я с большим недоверием наблюдал неожиданное развитие дел. Власов же вновь увидел проблеск надежды. Он сначала не строил никаких планов. Он хотел иметь солдат, оружие и свободу действий.' Всё остальное – приложится! Жиленков отнесся к этому повороту событий осторожно, Малышкин и Трухин – с подозрением.
В это время, в июне 1944 года, руководство НТС было арестовано и заключено в тюрьмы. Трухин, член НТС, как офицер "Русской Освободительной Армии" оставался еще на свободе. Надолго ли? Старшего преподавателя учебных курсов в Дабендорфе А. Н. Зайцева не арестовали только чудом.
20 июля 1944 года
Между тем, западные союзники высадились в Нормандии.
Малышкин поехал во Францию. То, что он доложил по возвращении, потрясло нас:
– После высадки союзников находящиеся там русские части надо списать. Русские добровольцы вне себя. Они не могут понять, зачем они должны драться против войск союзников! Немецкая пропаганда насчет того, что русские солдаты завоюют свою свободу через немецкую победу над западными союзниками, бессмысленна. Немцы нарушили свое обещание свести небольшие русские части в полки и дивизии под общим командованием Власова. Добровольцев вновь обманули. Они говорят вполне законно: почему из частей удалили русских офицеров? Где генерал Власов? Почему русские батальоны по-прежнему включены в немецкие полки? И вообще на этом загадочном и зловещем Западе всё чуждо и бессмысленно.
Часть добровольцев прошла вместе с германской армией с 1941/42 годов уже, как говорится, огонь и воду. У них, несмотря на поражения, оставалось чувство, что немецкая армия сильнее своего противника. К тому же, они были "дома", они могли что-то делать, была какая-то цель. Здесь они стали просто пушечным мясом. Хозяевами положения оказывались американцы и англичане. Превосходство в воздухе и отличная техника производили сильное впечатление.
Малышкин рассказал, что некоторые добровольческие части храбро дрались и были разбиты, другие – русские, кавказские, среднеазиатские – бунтовали.
Пропаганда союзников обещала бойцам русских "батальонов" возвращение на родину, то есть к Сталину, или убежище в США и Канаде. Первое было равносильно выдаче в руки НКВД, второе – ссылке в еще более дальний и чуждый мир. Это показывало, что союзники не понимали, почему эти добровольцы дрались на немецкой стороне.
Большинство немецких командиров также недоумевало: что им делать с этими русскими, которых перебросили с восточного на западный фронт "из-за ненадежности"? Они требовали переводчиков и экспертов по русским делам, только не из Дабендорфа – этого "гнезда русских заговорщиков".
Импровизированное немецко-русское командование добровольческими частями работало скверно и часто теряло связь с подчиненными ему частями. Малышкин и его офицеры, естественно, были бессильны что-то сделать.
Генерал фон Нидермайер попытался, как было ранее задумано и обещано, свести батальоны в более крупные соединения. Хотя ему и удалось сформировать одно такое соединение под командованием русского полковника Буняченко и этим осуществить часть плана, но его дальнейшие намерения были сорваны похожим на бегство отступлением германских войск. Во Франции уже царил хаос.
Власов отказался от "батальонов" во Франции после того, что он называл "обманом Йодля". Про себя же он всё еще питал надежду, что растущая угроза самой Германии предоставит ему возможность собрать под своим знаменем разбросанные русские части и повести их на борьбу с подлинным врагом их народа. То, что Малышкин увидел на местах, окончательно разрушило эти надежды. И всё же Власов твердо решил поднять вопрос об этих людях, если его встреча с Гиммлером состоится. Оставалось ждать 21 июля.
"Что вы думаете о положении во Франции?" – спрашивали меня русские. Что я мог ответить?
Я решил попытаться облегчить положение "батальонов" на Западном фронте. Как всегда, я рассчитывал на поддержку Гелена. 19 июля я выехал в Восточную Пруссию, в главную квартиру ОКХ. Но Гелен лежал в лазарете с тяжелым заражением крови. Кёстринга (в штабе которого о положении во Франции знали еще меньше, чем я), Альтенштадта и Фрейтаг-Лорингхофена также не было. Поэтому, ничего не добившись, я выехал ночным поездом обратно и ранним утром 21 июля вернулся прямо в Берлин и Дабендорф.
На дороге от станции к лагерю мою машину остановили Власов, Трухин и Боярский. Они рассказали мне о покушении на Гитлера 20 июля и о его последствиях. Им были в то время известны два имени убитых заговорщиков: граф Штауфенберг и генерал Ольбрихт. Меня охватили мрачные предчувствия.
– Наши друзья, – сказал я.
– О таких покойниках не говорят как о друзьях, – заметил Власов. – Их не знают. Не забывайте этого никогда, Вильфрид Карлович. Я прошел сталинскую школу. Это только начало. Сейчас в Германии пойдет всё точно так, как у нас в Советском Союзе!
Вскоре мы получили более полные сведения о покушении на Гитлера и о смерти графа фон Штауфенберга. Постепенно стали известны имена офицеров, ставших жертвами нацистского режима. Это были имена тех наших друзей, которые с 1942 года стремились к изменению политики в отношении России и к ведению войны политическими методами. У них, вероятно, были различные конечные цели, и не все из них были готовы безусловно поддерживать планы Власова. Но, несомненно, эта группа делала все возможное в отношении Русского Освободительного Движения. Вот их имена: полковник граф фон Штауфенберг, полковник барон Фрейтаг-Лорингхофен, генерал Остер, генерал Ольбрихт, полковник барон фон Рённе, подполковник Кламмрот, полковник Шмидт фон Альтенштадт, подполковник Шрадер, генерал Штиф, генерал фон Треско, генерал Вагнер и многие другие. Генерала Гелена не было среди этих жертв. Счастливая случайность сохранила его нам. Из погибших после 20 июля 1944 года я особо хочу вспомнить полковника Фрейтаг-Лорингхофена.
Я уже упомянул об аресте руководителей и части членов НТС органами СД. Вскоре после этого, т. е. в конце июня, СД потребовал голов Трухина, Боярского и ряда других русских из Дабендорфа. ОКВ был бессилен. Генерал добровольческих войск Кёстринг, верный своему принципу быть только солдатом, отказался вмешаться. Мой третий начальник – начальник Берлинского округа сказал, что русские политические дела вне его компетенции.
Когда полковник Мартин официально сообщил мне об этом и заметил, что он, к несчастью, не может вступиться ни за меня, ни за "покрываемых мною заговорщиков", я напомнил ему, что обвиняемый командир Дабендорфа лично подчинен, наряду с тремя другими инстанциями, ОКХ. Мой командир из ОКВ Мартин усмехнулся и сказал: