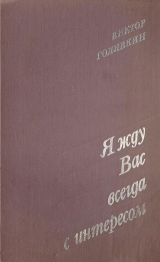
Текст книги "Я жду вас всегда с интересом (Рассказы) (1980г.)"
Автор книги: Виктор Голявкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
– Четыре метра десять! Вы можете себе представить? – радостно и неожиданно сообщает мне мой сосед, а я уже забыл, к чему он называет мне эти цифры.
– …Четыре метра десять!!!
– Двести тысяч восемьсот четыреста двадцать! – отвечаю я.
– Вот вы смеетесь, а представьте!
Очень нужно мне представлять! Будет он пить еще или не будет? И съел бы я еще. Зачем мне представлять, сравнивать какие-то цифры? Мне захотелось даже сказать ему дружески, на ухо: «Товарищ мой дорогой, милый ты мой товарищ, не давят на меня потолки, понимаешь? Не давят!»
Совсем низко летят самолеты, прекрасная картина, лучшего зрелища не придумаешь, отличные самолеты, давай доедай свой шашлык, допивай – и домой! Не надо никакого вина, хватит, вполне достаточно.
– …К вашему сведению, это еще не самые высокие потолки, – говорит мой сосед.
– А какие самые высокие?
– Сейчас я вам скажу…
Откуда он знает, какие самые высокие потолки? Сидит, вспоминает, соображает, салфетку взял, подсчитывает, похоже, скандинавской авторучкой…
– Да бросьте вы, – говорю, – ни к чему, не так уж важно…
– Я вам хотел показать одну любопытную цифру…
Опять цифры.
Он скомкал салфетку. Что-то у него там с цифрами не получилось.
– Если бы мне сказали несколько лет назад, что на этом месте будет такой вид, – сказал он, задумчиво глядя вдаль через стекло, – я бы не поверил.
– Да, да, многие места буквально не узнаешь через несколько лет, это верно. Такие перемены, колоссальные изменения, темпы сумасшедшие. Я не видел, что было здесь несколько лет назад, но могу представить: была трава, деревья, быть может, болото… может быть, какая-нибудь маленькая деревушка, домики на курьих ножках, речушка, огороды…
– А я помню, видел своими глазами: здесь ничего не было. НИЧЕГО! Вы можете себе представить? Земля, и все. Голая земля.
Мы молча поглядели сквозь стекло.
– М-да… в скандинавских странах сплошь ездят на велосипедах… целые велосипедные стоянки… – сказал он.
– Я до сих пор не могу научиться ездить на велосипеде… то есть по тихим улочкам, лесным тропинкам могу, но как на шоссе выеду или на улицу оживленную, сейчас же руль начинает в руках вихлять, особенно если навстречу транспорт.
– Недавно я был в Болгарии, вот где вино! Прекрасное вино! Чудесное вино. В прошлом году, будучи в одной заграничной командировке…
– А я был в Ташкенте во время землетрясения, – сказал я.
– Ну и как?
– Как раз эти новые дома, которые вы так ругали, стоят крепко, не шелохнутся.
– А мне говорили – старые целы, а новые разрушены.
– Неправильно вас информировали.
– Кстати, как гостиница?
– Представьте себе, вас дожидается.
– Я скоро собираюсь в Италию, а там видно будет. Возможно, на обратном пути заскочу к приятелю. Работа дипломата – континенты.
Он выпил и сказал:
– Жена меня уважает, когда я основательно выпью.
– Как вас понять?
– Буквально.
– Вы шутите?
– Нет, это вы шутите.
– Как нам тогда поступить, если мы с вами считаем, что оба шутим?
– Как поступить? Надо выпить.
– Принесите нам, пожалуйста, девушка.
– За ваше здоровье, – говорю, – за вашу жену.
Он рюмку уже было ко рту поднес, а тут отставил в сторону. Задумался, что-то с ним, в общем, происходит. Тяжело вздыхает, выпивает, заметно веселеет, начинает что-то рассказывать про скандинавские страны.
– Я сегодня полдня землю таскал в ведре на восьмой этаж, лифт пока не пустили, – говорю.
– Это еще зачем?
– Наполнял ящики на балконе, цветы буду сажать.
– Так много земли нужно было?
– Большой балкон достался, много ящиков.
– Между прочим, в скандинавских странах проектируются такие балконы и строятся, и цветы тоже там сажают… кто сажает, кто не сажает, как у нас, в общем.
– Тоже, значит, землю таскают?
– Таскают, а как же, не будешь таскать – не будет цветов. Кстати, уже зима, какой смысл было вам в это время землю таскать, весной уж…
– Случайно получилось, на девятом этаже у меня товарищ живет, прибегает чуть свет, орет: «Земля! Земля!» Как на корабле точь-в-точь после долгого плаванья. Ну, я вскочил с постели: что за земля, где земля, ничего понять не могу. А он: «Быстрей! Хватай ведро! Землю привезли! Потом поздно будет!»
– Чего это он?
– Бежим, говорит, скорей, а то потом за тридевять земель землю придется таскать; может, верно… Ну я не помылся, не побрился, схватил ведро и вниз по лестнице, как бы вроде зарядки…
– Ну и натаскали?
– Натаскал.
– А цветы, значит, весной?
– Цветы весной.
– М-да…
– Да-а… вот теперь сижу с вами. Зайду, думаю, стаканчик выпью после трудов.
– А как вы относитесь к Бакташеву? – спрашивает он ни с того ни с сего.
– К кому?
– Как вам Бакташев?
– Кто это такой?
– Поэт, господи! Бакташева не читали?
– Не читал.
– Ну, знаете…
– А что он написал?
– Он написал уйму! Массу стихов! Выпьем за него.
Мы взяли выпили.
– Вы еще съели бы? Быстренько, и уйдем, пить больше не будем, – сказал я.
– Почему не будем?
– Так возьмем?
– Возьмем, возьмем, все возьмем…
– Все будет в порядке!
– Вы что-то сказали? Вы сказали: все будет в порядке? А что может быть не в порядке?
– Пожалуй, вам пить больше не надо.
– Нет, буду! Все время буду! И никто меня не остановит! Вам можно, а мне нельзя? Я не люблю спиртное, терпеть не могу! А моей жене, видите ли, не нравится, что я не пью, скучно, говорит, со мной в компании, все напиваются, как нормальные люди, а ты один, как балбес, сидишь, глазами зыркаешь, никуда от тебя не скроешься, никуда не отлучишься… поганая, говорит, привычка, не может напиться… А зачем?! На меня, говорит, смотреть противно, а сейчас на меня не противно смотреть? Идиотство, форменное идиотство!!! Я теперь каждый день буду напиваться, я ей покажу!..
– Не стоит вам расстраиваться… выпейте стаканчик, и айда, хватит, достаточно тут с вами прохлаждаемся…
– Вы скажите мне: ваша жена хвалит вас, когда вы пьете, неужели хвалит?
– Напротив… Если переберешь, а поскольку частенько перебираешь… за что же, собственно, хвалить…
– Тогда за что меня ругает? Ума не приложу. Хемингуэй, говорит, пил это правда? Может, он и не так уж пил, а? Все больше на него ссылается, портрет его приколотила на стенку…
– Действительно, он выпивал… шампанское, красную икру и «позвоним Капусте», помните?
– Читал, читал, жена вслух читала… О Марлен Дитрих идет речь, красивая женщина, актриса и позволяет себя Капустой называть, парадокс!
– Так это же по-дружески, любя.
– Как то есть по-дружески? Что значит по-дружески? Она же женщина!
– Ну и что?
– Вы считаете, ничего?
– А что?
– Нет, вы серьезно?
– Вполне.
– Тогда, значит, меня плохо воспитывали… Почему меня так плохо воспитывали, вы мне не ответите, а? Не выпить ли нам по этой причине?
Он чуть не плакал. Ругал свою жену. И тут же хвалил. Но больше всего он себя ругал. Немножечко неприятно было на него смотреть. Но, в общем-то, он не самое плохое впечатление производил. Просто, видно, маленько запутался.
– Бросьте, – говорю, – свою жену в таком случае, раз такое дело, детей у вас нет, не так страшно… ничего я больше вам посоветовать не могу.
– Как не страшно? По-вашему, не страшно? Бросить ее? Да вы что? Как же так?!
– Уходят же другие, если невмоготу, как вам, к примеру…
– Знаете что… Проводите меня домой… Я вас прошу… при вас она не посмеет, сделайте такую любезность… я боюсь… произойдет землетрясение…
– Вы же говорили, она вас ругала за то, что вы не пьете. Сейчас вы выпили. Выходит, жена вас будет только хвалить.
– Вы думаете?
– Вы же сами говорили.
– Да, да… но я же не с ней выпил… если бы я с ней выпил, нет, я боюсь…
– Первый раз вижу человека, чтобы так своей жены боялся.
– О! Вы ее не знаете! Нет, вы ее не знаете!
Мне любопытно стало, что у него за жена. Зверски он ее боялся. Буквально дрожал от страха.
– Не волнуйтесь, – говорю, – не выпить ли нам еще, я вас провожу, вы не волнуйтесь.
– Давайте, давайте пить, а потом вы увидите настоящее землетрясение…
Мы выпили. Я расплатился.
Мороз был крепкий, но мы не замечали. Выпили по кружке подогретого пива в новом красном ларьке на углу. «Мороз и пиво – день чудесный…» вертелось у меня в голове такое дурацкое сочетание слов. Я взял его под руку. Путаным жестом руки показывал он мне свой дом. Снег скрипел под ногами. Дом его был где-то рядом.
– Вот мои окна, – сказал он наконец, когда мы не совсем прямым путем подошли к его дому.
Окна светились божественно. Одно окно синевато-голубое, другое сиреневое.
Мы поднялись по лестнице. Его шаги становились все более неуверенными, по мере того как мы подходили к его квартире.
Он стоял шатаясь, кивая все время на звонок, чтобы звонил я. Я позвонил.
Она появилась в дверях, как богиня.
Он, как вошел, тут же свалился на диван, – скучновато с его стороны.
– До свидания, – сказал я.
– Погодите, – сказала она, – вы любите стрелять?
– Как то есть? – спросил я.
– Из винтовки, из револьвера?
– Как вас понять?
– Вы стреляете из лука? Мне подарили настоящий индейский лук. Вы видите его? – Она кивнула на мужа. – Недавно он отсутствовал пятнадцать суток…
– О да, он мне рассказывал, он всюду побывал, он дипломат…
– Вот его дипломатическое положение! На тахте! Нигде он не был, никуда не ездил! Играет дипломата, конструктора, черта лешего, а люди верят. Если бы ему не верили…
– А кем он работает? – спросил я.
– Артист.
Я так и не понял, артист ли он театра или в жизни артист.
– Вы не хотите пострелять из лука? – спросила она. – Не хотите ли вы выстрелить из лука в его зад? – Она засмеялась, мотнув головой, и волосы закачались… – Я могу вам принести лук, могу доставить вам такое удовольствие…
– Благодарю вас, – сказал я, – у меня такого желания нету.
– Как жаль! А у меня есть! – Она снова мотнула головой. – Мне вас жаль! Вы получили бы громадное удовольствие!
– Так, значит, он артист… – сказал я. – До свидания!
Я хлопнул новой дверью с силой, на какую был только способен. Сошел по новой лестнице. Вышел на новый проспект Космонавтов.
Дома-то меня жена ждет, дети, а я болтаюсь…
Художник
Зачем я ему был нужен, я не мог понять.
– Я был бы очень признателен вам, – говорил он мне по телефону, – если бы вы посетили мою выставку офортов и монотипий в зале для игры в мяч во Дворце культуры.
Мы с ним когда-то учились в художественном училище – не то он был старше, не то я был старше, я его не очень-то хорошо помнил: мы с ним на разных курсах учились.
Зачем я ему все-таки был нужен? Но, видно, я был ему просто необходим, раз он мне по нескольку раз в день звонил, когда меня дома не было.
Потом он поймал меня; не очень-то хотелось мне ехать на его выставку, дел у меня по горло было, но я все-таки поехал – он бы от меня не отстал, я это сразу понял.
Он встретил меня у двери.
– Я всех своих старых приятелей приглашаю на свою выставку, – сказал он.
Я никогда не был его приятелем. Мало того, я понял, что никогда не видел его и никогда не учился с ним в одном училище. Он совсем другой человек, не тот, за которого я его принял по телефону.
– Почему вы считаете меня своим приятелем? – спросил я его мягко.
Он молча и торжественно раскрыл передо мною книгу отзывов. Попросил подумать, перед тем как написать отзыв о его картинах. Он, разумеется, хотел, чтобы я написал ему туда слова лестные и приятные. Но я не смотрел еще выставку. А это, видимо, его не интересовало. Его главным образом положительный отзыв интересовал. Он протягивал книгу с улыбкой, и опять-таки я не мог понять, зачем ему мой отзыв. Я не представитель Министерства культуры или Академии художеств, не имею влияния в художественных кругах, не имею приятелей в этих сферах, не имею влиятельных родственников и ни в коей мере не мог бы способствовать успеху его творчества или, в крайнем случае, устроить выставку его работ вторично. Я сам, в конце концов, рисую этикетки на различные коробки для нашей пищевой промышленности, ни разу в жизни не выставлял своих произведений, которых, кстати, у меня и нет.
Я прошелся по залу. Работ было много. Все стены были завешаны работами. Если это только можно работами назвать. По моему мнению, здесь была бессмысленная трата времени. Глуповатый модерн, рассчитанный на количество. Я подивился энергии, направленной не в ту сторону таким молодым человеком. Он в люди выбивался любым способом; странное все-таки занятие – в люди выбиваться любым способом.
– Послушайте, – сказал я, – разве мы с вами знакомы?
Он обнял меня. Я попробовал отстраниться, но было поздно. Он цепко обнял меня и сказал:
– Мы с вами встречали Новый год.
– Когда? – спросил я.
– Это было давно… Там было много народу, вполне возможно, вы меня не помните. Вы сами изменились до такой степени, что вас не узнать. Я бы вас ни за что не узнал, встретив на улице, – совсем другой человек! Но этот факт не мешает вам способствовать моему успеху.
– Мне способствовать? – спросил я.
– Вы – мне, – сказал он улыбаясь.
– Какая-то ошибка, – сказал я, – какая-то путаница…
Он стал стыдить меня.
Он сразу перешел на «ты»:
– Ведь ты мне обещал!
– Я не обещал, – сказал я.
– Когда мы встречали Новый год, – сказал он.
Он наступал на меня, я отступал, а он говорил:
– Тогда вы много выпили, и вы говорили… ваша поддержка… всегда… и всюду… от вас… мы… дружба, поддержать… во что бы то ни стало…
Я, наверное, должен был уйти. Все это выглядело странным. Конечно, я должен был повернуться и уйти.
Но что-то останавливало меня, хотелось выяснить.
– Вы действительно уверены, что мы с вами знакомы? – спросил я.
Он опять кинулся на меня с объятиями, но на этот раз я отстранился, и он чуть не упал.
Вполне возможно, думал я, мы с ним встречали Новый год в какой-нибудь компании и он меня не так понял. Но это не значит, черт возьми… с какой стати?! И между тем мне было интересно. Зачем ему книга, мой отзыв зачем? Ну, книга еще туда-сюда, тщеславный парень, но мой отзыв ему зачем? Да что мне, жалко, в конце концов!
– Давай книгу, – сказал я, – давай…
И я сразу же, с ходу, написал ему размашисто на всю страницу:
«Ничего подобного я не видел ни в одной стране»
Я положил ручку на стол и сказал:
– Только я не был ни в одной стране, вот что плохо…
Я даже, кажется, хихикнул после этих слов.
Он сразу резко изменился в лице. Бедняга, он придавал колоссальное значение моему отзыву!
Он разглядывал мою подпись Шевелил губами и был чертовски сосредоточен.
Потом он взглянул на меня.
Глаза его блеснули недобрым холодным блеском. Этого мне не хотелось. Можно было с ним поговорить. Покритиковать его выставку, его неправильные понятия… А он зло и холодно смотрел на меня, а потом сказал:
– Нам больше не о чем разговаривать.
– Ну, не о чем, так не о чем, – сказал я.
Я с ним то на «ты», то на «вы» начал, впрочем, и он тоже. Глупости сплошные, оторвали от работы и еще разговаривать не хотят…
Я к нему хорошо относился. Ко всем я хорошо относился. Никогда ничего плохого я к нему не имел. Никогда я его не знал раньше и не видел. Монотипии и офорты, в общем, в порядке вещей. Ерундовые, правда, работы, но человек же их делал, а не обезьяна, непременно там есть что-нибудь хорошее, если их человек делал, если повнимательней, душевней отнестись, хотя, безусловно, такие работы обезьяна тоже может сделать…
Я хотел похлопать его по плечу, успокоить, но он вырвался, отбежал в конец зала и оттуда крикнул:
– Ы-ых! – подняв вверх кулак. – Вы не Федоров! Вы – другой!
А почему он решил, что я Федоров?!
Большие скорости
В купе были я и он.
Поезд мчался, и за окном, как всегда, все мелькало.
– Несется как бес, – сказал он.
– Это верно, – сказал я, – здорово несется.
– Сто двадцать километров в час, – сказал он.
– Неужели сто двадцать? – сказал я, хотя знал, что сто двадцать.
– Да, да! – сказал он. – Представьте себе! И не то еще будет!
– А что будет? – спросил я. Хотя я-то знал, конечно, что будут поезда когда-нибудь еще быстрее ездить.
– Вы «Технику – молодежи» не читали? – спросил он.
– Не читал, – сказал я. Хотя, конечно, кое-что я когда-то читал.
Он покачал головой.
– С детства не имел никакого влечения к технике, – сказал я.
– М-да… – сказал он задумчиво, – вот возьмите некоторых детей, один возится, к примеру, с разными машинами, колесиками, крутит, отвинчивает, интересуется, что там внутри. А другой ребенок, к примеру, возится с землей, копает, пересыпает землю с ладони на ладонь, как бы вроде получается – с детства в каждом заложено этакое влечение…
– В земле все дети копаются, – сказал я.
– Не скажите… – сказал он, – не скажите… Вот у вас какая профессия?
– Я с детства все рисовал, – сказал я.
– Значит, художник? – Он с любопытством стал смотреть на меня. – У меня был брат художник, – сказал он.
– Как фамилия? – спросил я.
Он назвал фамилию.
– Не знаю, – сказал я, – такого не знаю.
– Простите, а у вас какая фамилия? – спросил он.
Я назвал свою фамилию.
Она ему ничего не говорила.
– А ваша как фамилия? – спросил я.
Он назвал свою фамилию. Она мне тоже ничего не говорила.
– Я инженер, – сказал он. – Инженер по тепловентиляции. Слышали про такое?
– Конечно, слышал, – сказал я. Хотя я впервые слышал, что существуют инженеры по тепловентиляции.
– Это напрасно вы не читаете «Технику – молодежи», – сказал он.
– А вы художественную литературу читаете? – спросил я.
– Хемингуэй, – сказал он с улыбкой, – Бёлль, Фолкнер, Апдайк.
– Сэлинджер, – сказал я, и мы вместе улыбнулись.
– «Особняк», – сказал он с улыбкой.
– «Деревушка», – сказал я с улыбкой.
– «Глазами клоуна», – сказал он с улыбкой.
– «Праздник, который всегда с тобой», – сказал я с улыбкой.
– «Кентавр», – сказал он с улыбкой.
– «Люди не ангелы», – сказал я с улыбкой.
– «Люди на перепутье», – сказал он с улыбкой.
Мы вовсю улыбались.
Он мне так понравился! И я ему, видимо, тоже понравился, иначе он бы так не улыбался.
Мы с ним почти что одинаково думали. Редко я встречал человека, чтобы мы с ним почти что одинаково думали. Это было поразительно! Мы с ним почти что все читали!
Поезд подходил к станции.
– А как вы по части женщин? – спросил он.
В этот раз я не понял его.
– Что вы имеете в виду? – спросил я.
– Об этом мы еще поговорим, – сказал он. – Не взять ли нам полбанки?
– Водки? – спросил я.
– Ага, – сказал он, и глаза его блеснули.
– Не много? – спросил я.
– Как то есть? – спросил он.
– Не многовато ли?
Он засмеялся.
– Чепуха! Вы сколько можете выпить?
– Как когда, – сказал я.
– И я то же самое, знаете, как когда придется, это вы верно заметили.
Он так оживился, просто чудо! И руками вовсю махал. И слова у него друг на друга налетали, в каком-то он, в общем, был восторге. То ли он от меня был в восторге, то ли от того, что выпивка предстояла.
– …Когда я был моложе, – он прямо захлебывался словами, – я выпивал, ей-богу, не вру… сейчас я вам скажу… однажды, это было дело в Новочеркасске… на четверых было…
– Кто пойдет? – спросил я.
– Чего? – спросил он.
– За бутылкой сходите вы или я?
– Я схожу, – сказал он. – Так вот… я тогда выпил сразу…
Я опять перебил его. Что-то такое сказал ему насчет денег, насчет того, что, когда он вернется, я ему тогда и отдам, а он мне ответил, что это пустяки, что это, пожалуй, только начало, а там видно будет. Я сказал, что в вагоне жарко, то есть душно, а он ответил, что вовсе не так уж душно, как мне кажется.
Что-то он мне стал меньше нравиться. И совсем мне неинтересно было слушать, сколько он выпивал когда-то в молодости в Новочеркасске. Он и сейчас был молодой. Можно подумать, что все это сто лет тому назад было. Не очень-то мне нравятся люди, которые так говорят. И потом мне показалось, что вовсе он не из таких людей, которые пьют до одурения. Знаете, бывают такие типы – безобразно напиваются, все им мало и мало, начинают вас потом оскорблять разными словами ни за что ни про что… Почему это я, видите ли, должен выслушивать разную пьяную болтовню, за какие такие коврижки, в конце концов! Я потому это все говорю, что знаю, не первый раз со мной такие истории приключаются. А то, что он Хемингуэя читал, – велика важность!
В общем, я о нем как-то нехорошо подумал, без всяких на то оснований. А потом, когда он пошел за водкой и я стал смотреть в окно, он, наоборот, даже очень симпатичным мне показался, совершенно напрасно, наверное, я о нем всякое такое подумал.
Он пробежал по перрону очень быстро. И скрылся за углом вокзала. Я все смотрел в окно, а он не появлялся.
Потом поезд дернулся, и скоро он мчался уже сто двадцать километров в час. За окном опять замелькало.
Я думал, может, он еще появится. Может, он как-нибудь сел. Хотя я смотрел в окно. Я видел, что он не сел.
Я стал думать о нем. Он купит эту бутылку, а выпить ему не с кем. Один в этом городе с этой дурацкой бутылкой. И, наверное, у него тут нет родственников, иначе они бы его встречали… Он стоит на перроне и видит последний вагон в виде точки.
Сто двадцать километров в час! Не шутка!
И не то еще будет!
Лейтенант
Я проснулся, услышав стук в дверь. Вошел старый школьный товарищ. Я не узнал его сразу, я не видел его много лет, а как только узнал, сказал:
– А… Миша…
– Петя! – сказал он. Он был рад.
Я сидел в трусах на кровати. Кровать была высока. Миша был в новой военной форме. Он был лейтенант.
– Ты лейтенант, – сказал я.
– Я лейтенант, – сказал с радостью Миша.
– М-да… – сказал я.
– А ты? – спросил Миша.
– Я не лейтенант, – сказал я.
– Почему же?
Как мне показалось, он удивился. Я посмотрел на него с интересом.
– Не знаю, – ответил я.
– А я лейтенант, – сказал Миша.
– Ты лейтенант… – сказал я.
– Лейтенант я, – сказал Миша.
– Лейтенант… – сказал я.
– Давно это было, – вздохнул вдруг Миша.
– На одной парте сидели…
– И уже лейтенант, – сказал Миша.
– Лейтенант… – сказал я.
Мы помолчали.
Потом попрощались.
Он пожал мне руку и отдал честь.
– Лейтенант, – сказал я, – конечно…
Он пошел. На площадке лестницы остановился. Повернулся ко мне весь в улыбке. И опять отдал честь. Только щелкнул отчетливо каблуками. И уже пошел окончательно.
Рассказ об одной картине Сезанна, мальчике и зеленщице
Странный был человек Поль Сезанн! Напишет он холст красоты небывалой, да вдруг не понравится он ему. И он режет его ножом – вот так: раз-два, и кидает в окно. А окно мастерской выходило в сад. В саду часто играли дети. Они мастерили щиты и латы из брошенных Полем Сезанном холстов и с гиком и свистом носились по саду. Они дырявили живопись палками, делали из холстов корабли и пускали их в лужах. Только один очень маленький мальчик, что жил напротив, однажды нашел холст Сезанна и притащил домой. Мать мальчика, очень сварливая, как увидела холст – закричала. «Что за дрянь ты таскаешь в дом!» – и выбросила его в окно.
Проезжала зеленщица на базар. Она подобрала холст на дороге и положила в свою тележку. «Это очень красивые цветы, – решила она, – я повешу их в своем доме».
Арфа и бокс
Мое детство было нерадостным. Оно омрачалось музыкой. Наш славный город сходил с ума, он имел армию музыкантов. Все играли на чем-нибудь. Кто не играл ни на чем, был невежда.
Представьте: со всех сторон звуки, весь воздух насыщен ими, на улицах дети дудят в дуду, бьют в такт по заборам и хором поют. Моя мать играла и пела. Отец не пел, но играл.
Я слушал их, поднимая бровь. Я всегда поднимал одну бровь, если был недоволен. Но так как я слушал их каждый день, одна бровь моя стала выше. Но им этого было мало. Они стали учить меня. Рояль стоял у нас в правом углу. В левом углу стоял я.
Отец кричал, сверкая глазами: «Ты будешь играть у меня, сукин сын, или будешь стерт в порошок!» – и ставил меня носом в угол. Мать твердила одно и то же: «Как он не может понять, так приятно уметь играть в обществе!»
Но я и ухом не поводил, я терпеть не мог этот чертов рояль и долбежку по клавишам.
Мать методично играла мне и заставляла меня слушать. Она говорила таинственно: «Это Шуман, как он прекрасен! Он очень меланхоличен…» Я охотно поддакивал: «Да, он и вправду меланхоличен, я не подозревал об этом».
Потом приходил отец. Он сажал меня за рояль: «Сын мой будет играть лучше всех! Он затмит весь мир!» Но я не был уверен в этом. Иногда я пробовал возражать. Я заявлял: «Мне не нравится музыка. Я не хочу играть!»
Тогда мать начинала плакать, а отец выходил из себя: «Я сотру тебя в порошок, – надрывался он, – я, кажется, обещал тебе это! И сделаю это без всяких трудов. Я выполню свой родительский долг!» Он с силой топал об пол ногой, и со стен падала штукатурка. Он тяжело дышал.
Я был еще мал и не мог представить, как он это сделает, и сначала очень боялся, но постепенно привык.
В воскресенье мы ходили в оперу. От оперы я болел. В ушах у меня стоял гул. Там беспрерывно пели. Я не мог понять этих прелестей.
Я просил отца: «Не веди меня больше в оперу. Я лучше буду стоять в углу».
Отец страдал. Я чувствовал это. Ему было обидно, что у него такой сын, но я тоже был не виноват в этом.
Однажды отец сказал: «Пожалуй, он будет плохой пианист. Я это предвижу. Он уже учится много лет, а играет так, словно только что начал».
Я чуть не подпрыгнул от радости. Я думал, меня прекратят учить. Мать сказала: «Я тоже предвижу это, но музыка так прекрасна…» – и лицо ее стало грустным.
Отец сказал: «Он будет учиться на арфе. Арфа – это божественно! В оркестре арфа – царица!»
Мать сказала: «У нас в городе только один арфист».
Отец сказал: «Тем лучше. Он умрет – будет ему замена».
Итак, я занялся арфой. Арфа была куда хуже рояля. Струны все время рябили в глазах, и я дергал не ту струну. Мой педагог нервничал. Он кричал мне прямо в ухо: «Не та струна, бог мой, совсем не та, я буду бить вас по пальцам». Я сносил оскорбления и подзатыльники. И продолжал дергать струны не те, что нужно.
После нескольких лет занятий на арфе я вдруг увлекся боксом. Этот спорт восхитил меня. Удары по носу, по челюсти, в печень, в селезенку приводили меня в восторг. Я весь отдался новому делу. Я пропадал в спортзале целыми днями. У меня опухал нос и губы, и синяки закрывали глаза. Я был счастлив.
Но на арфу все же ходил. Подергав струны часок-другой, я бежал за новыми синяками.
Мой первый синяк увидел педагог: «Кто тебя так трахнул в глаз?» Глядя на него одним глазом, я сказал: «Никто…»
«Ты упал?» – спросил он. Я кивнул.
В другой раз синяков было два. Он не на шутку встревожился: «Кто тебе трахнул в два глаза?» Я сказал: «Никто…» – «Ты опять упал?» – удивился он. Я опять кивнул.
В третий раз я опух весь. Я слегка различал педагога, а струн не видел совсем. Я дергал их сразу по десять штук, и ему не понравилось это.
«Вы… вы убирайтесь ко всем чертям! Вы… вы не музыкант!» «Почему?» – спросил я. «У вас мерзкая вздутая рожа и… вообще вы олух!»
Дома я заявил: «Меня выгнали с арфы. И с меня хватит! Не вздумайте предложить мне другое – кларнет или скрипку. Ни на чем я играть не буду». Мать заплакала. Отец спросил: «Ты будешь боксером?» – «Да», – сказал я. «Я сотру тебя в порошок!» – крикнул отец. Мать сказала: «Как глупо. Он уже стал большой».
«Это правда…»– сказал отец.
Серебряные туфли
Я свою подметку каждый день по утрам пришивал, а к вечеру она у меня отваливалась. Как сапожник пришивает подошвы, что они долго не отлетают? Этот вопрос меня тогда очень интересовал. И ходить-то я старался осторожно, чтобы подошва эта раньше времени не отлетала. А когда в футбол играли, стоял только и смотрел, до чего обидно! Но она все-таки отлетала, не дождавшись вечера, и хлопала, как выстрел, при ходьбе. Если я издали видел знакомых, останавливался и стоял, чтобы, чего доброго, не заметили моей ужасной подошвы.
Пришло лето, и я эти свои ботинки выкинул и шлепал босиком. Раз лето. Раз война. Нужда. Отец на фронте. Да мы, мальчишки, могли и без ботинок обойтись. В такое-то время! Только в школу босиком не полагалось. Да я и в школу приходил. Когда учитель меня спросил, неужели у меня нет каких-нибудь старых ботинок, чтобы в приличном виде явиться в школу, я ему ответил: «Нет, Александр Никифорович». Он пожал плечами и сказал: «Ну, раз нет, значит, нет». Так просто тогда было с этим делом!
И вдруг Васька в своих серебряных туфлях появился во дворе. Вот это была картина! Самые настоящие долгоносики, остренькие, длинные носы, а блестят-то как! А как они скрипели! Васька Котов вышел в этих своих серебряных потрясающих туфлях, а я открыл рот и долго не мог закрыть его.
– Такие туфли носят только на балах и только в Аргентине, – сказал Васька. – Вовнутрь-то, вовнутрь посмотри!
Он снял туфлю, и я ошалело смотрел внутрь туфли на аргентинское клеймо. А Васька стоял на одной ноге, держась за мое плечо, важный и довольный.
Еще бы! Там, в далекой Аргентине, пляшут на балу аргентинцы в серебряных туфлях, а теперь в них будет ходить по нашим бакинским улицам Васька Котов.
Собирались ребята, охали и ахали и трогали руками серебро.
– Купили на толкучке, – рассказывал Васька. – Совершенно случайно. Абсолютно по дешевке достались, просто-напросто повезло…
Кто-то попросил померить, и Васька сразу ушел. Померить он никому не хотел давать.
В этот вечер мы с ним пошли в оперетту. Я босиком, а он в своих долгоносиках.
Некоторые оперетты мы раз двадцать видели, а тут новую оперетту показывали. Честно говоря, мы только потому и ходили на эти спектакли, что через забор лазали. А так с гораздо большим удовольствием в кино пошли бы.
Рядом с его серебряными туфлями нелепыми и безобразными казались мои собственные пыльные ноги, а пальцы, казалось, смешно топорщатся во все стороны.
Да и другие мальчишки в оперетту босиком ходили, никто на них особого внимания не обращал. Ничего такого в этом не было, тем более оперетта в летнем саду помещалась.
Васька меня на забор подсадил, снял туфли и мне протянул. Ему в них на забор никак было не забраться. А мне с этими туфлями сидеть на заборе тоже неудобно. Одной рукой туфли держать, а другую ему протягивать.
Кричу:
– Давай скорее руку, а то свалюсь!
Он замешкался, стал почему-то носки снимать, хотя и в носках можно было лезть спокойно. Как раз ребята подошли, торопят, никому неохота в оперетту опаздывать.
В общем, он мне руку подать не успел, я не удержался и на ту сторону свалился вместе с туфлями. Хорошо еще, удачно упал, ничего такого не приключилось. Только в рот земля попала.
Я эту землю выплюнул, встал, отряхнулся и жду, когда Васька появится. Ребят-то там много, помогут ему на забор подняться.
А он все не появляется.
Мимо прогуливаются люди по широкой аллее в ожидании звонка и, как мне кажется, на меня поглядывают.
Тогда я надеваю Васькины туфли на свои ноги и отхожу в более темное место.
Но Васька все не появляется.
Я еще немного постоял и пошел к выходу. А прямо мне навстречу милиционер ведет Ваську за руку. На одной ноге у него носок, а другим носком он вытирает слезы.
Васька, как только увидел меня в своих туфлях, заорал не своим голосом на всю оперетту:








