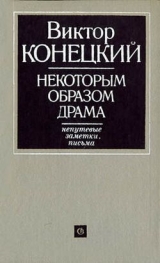
Текст книги "Некоторым образом драма"
Автор книги: Виктор Конецкий
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 23 страниц)
Я вытерпел около часа. Наконец поинтересовался:
– Где же милиция? А ежели здесь убийство произошло? Они так же вот поспешают?
– Приедут, приедут, не беспокойтесь, – сказала врачиха. – А вот мне… конечно, для проформы, но нам положено: вы с ним здесь ничего не употребляли? – так ответила она вопросом на мой вопрос о милиции.
– Да что ж вы, сами не видите? Или у вас обоняние отсутствует? – спросил я.
На телевизоре стояло блюдце с виноградом и чайные чашки. Честно говоря, мысль о спиртном перед визитом Александра Борисовича у меня появлялась. Ежели, рассуждал я, Виктор Платонович по этой части такой мастак был, то и его дружок, скорее всего, – яблоко от яблони… Но, к величайшему счастью, какое только выпадало в моей грешной жизни, в данном случае победили лень и тромб в ноге: за спиртным я не поплелся. Решил, что семидесятисемилетнему Шурке более подойдет чай или кофе.
– Да вы не обижайтесь, – сказала Марина. – Так уж нам нынче положено – спрашивать. Специальный пункт есть.
– Нет, алкоголя не было. Предлагал ему чай или кофе, но он попросил сперва немного поболтать. Не терпелось ему расспросить о дружке, которого я сравнительно недавно видел.
– А вот если б он кофе выпил, – сказала врачиха, – то, быть может, ничего бы и не случилось…
Господи! От чего же наша грешная жизнь зависит? (Потом, уже от вдовы Александра Борисовича, я узнал, что перед уходом из дому он выпил кофе. Так что в этом вопросе Марина оказалась не права.)
Милиция – майор-участковый из соседнего отделения прибыл через два с половиной часа.
К телу он даже не приблизился – хватило одного взгляда. И сразу сел писать свою милицейскую писанину.
К этому времени лицо покойного заметно изменилось, но выражение оставалось спокойным, а глаза не открылись.
Марина наконец подвязала ему бинтом челюсть и спеленала руки на груди. Затем они с милиционером обменялись какими-то документами, и она ушла. Я укрыл тело простыней.
К счастью, скоро вернулась Гита – ее рабочий день в поликлинике закончился. Я откровенно сказал, что боюсь звонить родственникам. Для врачихи это должно быть более привычным делом…
Трубку взяла жена. Сперва Гита сказала, что Александр Борисович отправлен в больницу в безнадежном состоянии, затем сказала правду. Потом трубку пришлось взять мне.
Женский голос спросил, снял ли я часы с Александра Борисовича. Я сказал, что да и что все вещи у меня. Женский голос сказал, что в заднем кармане брюк у него триста рублей и какое-то удостоверение. И здесь я ляпнул, что сразу же выну деньги. А ведь раньше-то было сказано, что тело уже увезли и был даже назван морг судебно-медицинской экспертизы. Вероятно, вдова была в таком шоке и трансе, что ничего еще толком не могла сообразить и потому спрашивала и вообще говорила какую-то чушь.
Гита ушла домой к больному мужу, подписав милицейские протоколы. Я подписал их еще раньше.
26.12.87. 09.50.
Жутковато, но что поделаешь? Сижу на диване, где умер Шурка. Достаю из его старенького, дешевенького портфеля с тремя отделениями папку с фото и письмами. Надо торопиться: родственники непредсказуемы – могут отобрать документы. Четкий, размашистый почерк Некрасова:
11.01.60.
«Дорогие Шура и Гиза! Нет, мы не негодяи, мы просто ленивы. А о вас мы всегда помним и любим по-прежнему. Только вот нет теперь предлогов для поездок в Ленинград. А вы почему-то забыли и Киев, и Корастышев и вообще неньку-Украину. А жизнь идет помаленьку. Через неделю собираемся с мамой, как и в прошлом и в позапрошлом году, под Москву, в Малеевку – подышать лесным, зимним воздухом, посмотреть на снег, походить на лыжах, а заодно и поработать – там это куда продуктивнее получается, чем в Киеве.
Похвастаться объемом написанного в этом году никакие могу. Последняя небольшая вещь была напечатана в № 12 «Нового мира». Называется «Три встречи» – это о Валеге – в жизни, книге и кино. А сейчас кончил рассказ, начатый еще в… 1949 г. Увы, обратно про войну. Послал в «Новый мир». Ответа еще нет…»
По радио сей миг: «Министр иностранных дел Чехословакии Богуслав Хнёупек горячо приветствует предстоящее подписание соглашения по ракетам средней дальности…»
«…А в конце января должны выйти наконец отдельным изданием итальянские записки „с иллюстрациями и фотографиями автора“. Ловите!
Вот такие-то дела… Крепко обнимаю. Мать шлет привет. Вика».
Майор-участковый сказал, когда я укрыл тело чистой и новой простыней:
– Положите старую. Эта пропадет.
– Чего ж я буду простыню жалеть?
– Когда приедут за телом, еще одну попросят.
– Ну и что?
– Так эти перевозчики простыни реквизируют – в морг без простыней берут.
– Ну и что? Что ж, я его на грязных тряпках из своего дома дам выносить?
– Ваше дело. Мое дело – предупредить.
И уже проходя через переднюю мимо столика:
– И почему у вас здесь деньги валяются?
На столике лежало двадцать пять рублей. Там у меня всегда деньги лежат.
– Уберите-ка деньги отсюда. Валяются вот так. Пропадут, а потом на милицию катят.
– Хорошо. Уберу. Спасибо вам за все.
– Ну, что вы – не за что! Сами не болейте!
– Спасибо.
Так все потом и было: попросили вторую простыню, чтобы положить на нее тело. Расстелили на полу, перенесли Александра Борисовича с дивана, завязали простыни углами в головах и ногах. Очень заботливо продиктовали адрес похоронного магазина, который приписан к моргу: улица Достоевского, девять, возле Кузнечного рынка. Я записал. Предупредили еще, чтобы родственники, когда поедут в контору морга, не забыли свои паспорта. (Имя Достоевского тут к месту прозвучало!)
– Ты, Ваня, торшер сдвинь, чтобы ногами вперед развернуть, – сказал старший.
Шапки сняли оба, когда вошли.
Надели, когда уже подхватили белый кокон.
За все такие трогательные любезности четвертной, убереженный мильтоном, перекочевал в их карман. Такая подачка, судя по новому взрыву информационных и утешительных слов, была для них сюрпризом.
Носилки ждали на площадке лестницы.
– Лифт не работает?
– Да. Уж извините.
– Ничего-ничего! Ваня, лямки туже затягивай, чтобы он не съехал.
6.11.65.
«Дорогой Шура! Только что вернулся из Москвы. Пропихивал в „Новый мир“ свой новый „opus“. Рассказы. Вроде как о Камчатке и в то же время не только о ней. Все делается со скрипом. Все всего боятся, осторожничают… Первый этап – редакцию – вроде как преодолел. Но впереди еще множество Сцилл и Харибд… Пока не получишь в руки экземпляр журнала, ни во что не веришь.
Такое время…
А мост твой видал на фотографии. Великолепен… Но почему вы не делаете таких, как в Сан-Франциско?
Обнимаю и целую. Привет большой от меня и мамы Гизе.
Твой Вика».
Когда уходила врачиха «неотложки», я поинтересовался, сколько ждать спецтранспорт?
– Часа два.
Не успела закрыться за ней дверь, как милиционер сказал:
– Ненаучная фантастика, хозяин. Часикам к четырем утра ждите. В лучшем случае. Кажется, они сейчас за город рейс делают.
– Да вы что?!?!
– А ничего. Тут вам надо большой блат иметь. Не на районном уровне. Тут, если у вас кто в Смольном работает, может, и помогут. Ниже не пройдет. Погода плохая, гололед, сердечники мрут по всему городу как мухи. Запарка, короче говоря.
Так вот я и остался с Александром Борисовичем опять накоротке. Ходил из угла в угол по диагонали комнаты – извечная штурманская привычка. И от всей души поносил родную советскую власть.
Зря поносил. Спецтранспорт прибыл в 21.30, а не в четыре утра.
Оказалось, сработало мое писательское имя – Марина поднажала по своей линии. Так что определенные выгоды в нашей профессии есть.
Из книги В. П. Некрасова «Маленькая печальная повесть»:
«Сегодня воскресенье, а в среду 12 сентября минет ровно десять лет с того дня, когда, обнявшись и слегка пустив слезу, мы – я, жена и собачка Джулька – сели в Борисполе в самолет и через три часа оказались в Цюрихе.
Так, на шестьдесят четвертом году у меня, шестьдесят первом у жены и четвертом у Джульки – началась новая, совсем непохожая на прожитую, жизнь.
Благословляю ли я этот день 12 сентября 1974 года? Да, благословляю. Мне нужна свобода, и тут я ее обрел. Скучаю ли я по дому, по прошлому? Да, скучаю. И очень.
Выяснилось, что самое важное в жизни – это друзья. Особенно когда их лишаешься. Для кого-нибудь деньги, карьера, слава, для меня – друзья… Те, тех лет, сложных, тяжелых и возвышенных. Те, с кем столько прожито, пережито, прохожено по всяким Военно-Осетинским дорогам, Ингурским тропам, донским степям в невеселые дни отступления, по Сивцевым Бражкам, Дворцовым набережным, киевским паркам, с кем столько часов проведено в накуренных чертежках, в окопах полного и неполного профиля и в забегаловках, и выпито Бог знает сколько бочек всякой дряни. И их, друзей, все меньше и меньше, и о каждом из них, ушедшем и оставшемся, вспоминаешь с такой теплотой, с такой любовью. И так мне их не хватает.
Может быть, самое большое преступление за шестьдесят семь лет, совершенное в моей стране, это дьявольски задуманное и осуществленное разобщение людей. Возможно, это началось с коммуналок, не знаю, но, так или иначе, человеческое общение сведено к тому, что, втиснутые в прокрустово ложе запретов и страха, люди, даже любящие друг друга, боясь за свои конечности, пресекают это общение. Из трусости, из осторожности, из боязни за детей, причин миллион. Один из самых моих близких друзей, еще с юных, восторженных лет, не только не пришел прощаться, но даже не позвонил. Ближайшая приятельница категорически запретила ей звонить. Еще один друг, тоже близкий, хотя и послевоенных лет, прощаясь и глотая слезы, сказал:
– Не пиши, все равно отвечать не буду…
И это «отвечать не буду», эта рана до сих пор не заживает. Я внял его просьбе, не писал, но втайне ждал, надеялся, что он как-нибудь, надравшись в День Победы, возьмет открытку, напишет на ней под левой подмышкой: «Поздравляю!» и без обратного адреса опустит где-нибудь на вокзале. За десять лет ни разу не надрался… Во всяком случае, не написал, не опустил… А все это соль, соль на мою рану…
И маленькая моя повесть печальна потому, что если между двумя из моих друзей воздвигнута берлинская стена, то двоих других из этой троицы разделяет только Атлантический океан… Нет, не только океан, а нечто куда более глубокое, значительное и серьезное, что и побудило меня назвать свою маленькую повесть печальной. Аминь».
28.11.87 г. 14.10. Не отпускает меня милиция. Сей миг звонил участковый. Ему надо номер свидетельства о смерти и диагноз, который поставили гражданину Воловкову.
– Гражданину Воловику. Официального диагноза у меня нет. Документы получали и оформляли родственники. У них и спрашивайте.
– Вы у них были?
– Да. Был. Отвозил вещи, они получили справку об отсутствии телесных повреждений.
– Это у меня в акте есть. Мне номер свидетельства. И диагноз. У вас их телефон есть?
– Есть, но нельзя ли потянуть резину? Хотя бы после кремации позвоните! Это же опять удар и потрясение для его родных.
– А когда похороны?
– Кремация в понедельник после полудня.
Он подумал, вздохнул:
– Не получается. Мне надо документы сдать до понедельника. (Явно врал – отделаться поскорее хочет.)
Я продиктовал телефон. Он заверил, что постарается «осторожнее».
Из журнала «Зуав», который из патриотических побуждений потом был переименован в «Маяк». 1923 год. Киев.
«ЗУАВ. В 1831 году Франция завоевала Алжир и образовала для себя колониальную армию из туземцев. Французы набрали себе солдат из племени зуауа – кабилов. Это были очень отважные воины. Раньше зуавы состояли из туземцев, а теперь состоят исключительно из французов, хотя костюмы остались арабские. А именно: красная феска с синей кистью, синяя туника, на груди с узорами, красный широкий пояс, а поверх обыкновенный кожаный, красные шальвары и сапоги. Зуавов было 4 полка, которые разделяются по цвету овалов (узоров) на тунике. В первом полку середина овала красная, во втором – белая, в третьем – желтая и в четвертом – синяя (цвет туники). Зуавы обыкновенно храбрые солдаты. В известных битвах на р. Альме и в Палестро они были победителями. В 1871 году зуавы дрались как львы и этим хоть немножко помогли Франции. „Родственные“ зуавам солдаты это тюркосы (тюркосы – колониальные французские войска), или алжирские стрелки. Они только не белые, а черные (колониальные). Форма у них одна и та же. Это отчаянные храбрецы. Они смело идут в штыки, случаи, где бы их победили, были очень редки. Во время Мировой войны тюркосы наводили на немцев неописуемый ужас. И если говорили, что идут тюркосы, то немцы уже наверное знали, что им не одолеть тюркосов. В. Некрасов.
ПО БЕЛУ СВЕТУ
На маневрах были спущены в воду в Нью-Йорке суда, управляемые с берега. Они управляются по средству воздушных волн Герца. Когда другие броненосцы стали обстреливать их, то они не поврежденные ушли из-под выстрелов.
КИТАЙСКИЙ ГИМН
Китайский национальный гимн так пространен, что спеть его с начала до конца можно лишь в 8 часов».
Далее изображен чертеж ракетного снаряда и рисунки гранат: 1. Французская «браслетная» граната. 2. Германская «палочная» граната. 3. Граната из консервной банки. 4. «Хвостатая» граната (хвост выравнивает направление полета). 5. Французская ракетная граната.
На этом кончается «Зуав» № 1. Во всяком случае, на этом кончается тот «Зуав», который был у меня в руках.
29.11.87. 18.00. Позвонила Гиза – Гизель Марковна, теперь уже вдова Александра Борисовича Воловика, уточнила время кремации: завтра, в понедельник, 30-го, в 15.15, Большой зал.
Конечно, странновато все это, нереально как-то. Но за все на этом свете надо платить. За литературу втридорога.
30.11.87. В 8.30 заказал такси для поездки в крематорий. Цветы для Александра Борисовича – белые и розовые хризантемы – уже стоят напротив меня и скромно, потупленно молчат. Хризантемам через шесть часов предстоит сгореть.
Хотя говорят, в крематории не только выдирают золотые зубы, но и цветочки совершают торговый оборот из гроба к шикарным вестибюлям метрополитена.
Читаю фантасмагорию Некрасова о его встрече со Сталиным. Как они с другом всех народов два дня водку пьют. И до того Сталин допился, что понес всю еврейскую часть человечества. И тут капитан Некрасов решил рвануть на Голгофу за угнетенный народ:
«– Эйнштейн, что ли, торгаш и хапуга?
– Эйнштейн не знаю, а Каганович да!
Тут как раз вошел Никита с двумя бутылками водки.
– Скажи, Никита, Лазарь вор?
Никита опешил. Поставил бутылки. Лихорадочно стал одну из них раскупоривать.
– Вор или не вор, говори!
Никита, точно рыба, выброшенная на берег, хватал ртом воздух. А перед ним стоял, расставив ноги, Сталин, весь красный, даже шея и грудь покраснели, со сжатыми кулаками, и казалось, что вот-вот он размахнется и ударит его.
– Говори!
Но Никита не в силах был выдавить ни слова.
А я… До сих пор не могу понять, как это получилось, нашло какое-то затемнение, но я выхватил у Никиты бутылку, молниеносно разлил по стаканам и сказал, упершись пьяными глазами в Сталина:
– Я предлагаю выпить за командира пятой роты лейтенанта Фарбера, товарищ Сталин. Слыхали о таком?
– Фарбера? Какого такого Фарбера? Не знаю я никакого Фарбера.
– И напрасно! Командир пятой роты, 1047-го полка, 284-й дивизии. Выпили?
Сталин взглянул на меня так, что я понял – сейчас конец.
Потянулся к телефонной трубке.
– За такое знаешь что? – сказал он, не сводя с меня глаз, страшно медленно, вколачивая каждое слово, точно гвоздь. – Не знаешь? Так вот, узнаешь.
Он набрал номер.
– Берию ко мне, – и швырнул трубку.
Все! Я понял, что все.
Воцарилась пауза. Никто не двигался. Ни Сталин, ни Хрущев, ни я. Застыли.
В ушах стучало. Все быстрее и быстрее.
Сталин, стиснув протянутый мною стакан так, что пальцы даже побелели, стал приближаться ко мне. Тихой, беззвучной, какой-то крадущейся походкой.
И смотрел, не отрываясь смотрел. В глазах его вспыхнули маленькие, красные огоньки, как у кошки ночью.
За спиной моей тихо открылась и закрылась дверь.
Я понял, что это конец.
Залпом выпил стакан водки. В глазах пошли круги. В ушах зазвенело. Все сильнее и сильнее.
Я упал. Стакан покатился по полу. Последнее, что я услышал сквозь все усиливающийся звон в ушах:
– Жиденький паренек… А я еще на брудершафт хотел.
Больше я ничего не слышал, я умер».
Фарбер… Фарбер… Фарбер… – сквозь всю жизнь пронес Некрасов фамилию этого детского дружка.
Я успел спросить у Александра Борисовича о его судьбе.
– Шурка?
– Да.
– Он умер много лет назад.
– В одной эмигрантской книге Некрасов вспоминает Фарбера в разговоре со Сталиным. Читали?
– Нет, конечно. Зато вы сможете прочитать рассказ Шурки в четвертом номере «Маяка». Да не торопитесь. Я вам их оставлю, эти раритеты…
«НА КРАЮ ПОЛЯ. Два мальчика сидели около поля. Один из них был деревенский; другой был из города. И оба были друзьями уже 3 дня.
«Когда ты приедешь к нам», говорил городской, «я тебе покажу прелестные дома, дворцы и церкви; ты увидишь огромные улицы, которые вечером так хорошо освещены, что видно, как днем».
«А я», возразил другой, «Я тебе покажу леса, где собирают люди орехи, огромные сосновые и еловые шишки, и леса, где темно как ночью».
«А чему ты меня научишь?»
«Я тебе покажу, как гонять овец на пастбище, как делают сыр и масло из молока наших прелестных коров, и как пашут нашими огромными быками, я тебе объясню, когда надо сеять рожь, пшеницу, ячмень; как надо вязать снопы, как выдавливают виноград, как трепать лен и коноплю. Затем я научу плести корзины из прутьев».
«Все это хорошо знать», возразил мальчик из города; «но я научу тебя другому, что может быть еще лучше. Я научу тебя читать!»
Pape – Carpantur. Перевод с франц. А. Фарбер».
Следующий отрывок Виктор Платонович начинает своей любимой присказкой:
«„Умер – шмумер, был бы здоров".
Одна из самых одесских сентенций великого черноморского города.
Тираны умерли – не все, правда, Молотовы и Кагановичи все еще поливают свои грядки, а может быть, что-то и строчат, лживое, но главные убийцы все же лижут в преисподней раскаленную сковородку. А я, отряхнувшись, у своих друзей, в любимой Женеве, под прошлогодней сосенкой дописываю последние страницы. Весна, март. Лопнули первые почки на каштанах. В Швейцарии это считается наступлением весны. Специальный человек следит за специальным каштаном в университетском парке, и лопнула почка, выглянул крохотный пятилаповый листочек, и сразу же в газету – началось! Дописываю… Напротив меня, под березкой, вылезли из-под земли четыре крохотных крокуса, три лиловых, один белый. Утром только выглянули. Сейчас уже распустились. И пчелка прилетела. За работу, товарищи!
Что-то затянул я на этот раз. Прошли лето, осень, зима. И много событий произошло за это время. И в мире, и в моем парижском Ванве…
В кафе «Сентраль», где я по утрам пью кофе с круасаном и листаю «Фигаро», бросили бомбу. Кто – до сих пор неизвестно. Никто серьезно не пострадал, кого-то поцарапало стеклом, хозяйку слегка контузило…»
Ну вот, Вика Некрасов уже и в кущах.
Интересно, скучно там?
Когда доктора поставили ему диагноз – рак легких, – он сказал: «Боже, как скучно…» Во Франции безнадежные диагнозы от больных не скрывают.
* * *
Сразу сунул шоферу четвертак, чтобы он обождал возле крематория до конца процедуры. Этот ли четвертак тому виною или конечный пункт нашей поездки, но таксист разговорился. И я, проносясь сквозь ноябрьскую ленинградскую мразь и ленинградские лужи, узнал, что бабушка шефа дожила до 96 лет. И все эти 96 лет очень оберегала одну икону. Когда наконец померла, внучек нашел в иконе царские, керенские и 30-х годов советские деньги, включая пятьдесят золотых червонцев.
– И как это она в блокаду их сохранила и не потратила? – изумлялся шеф, когда мы застряли у знаменитого вечными заторами железнодорожного переезда, уже на близких подступах к крематорию. – Ну, один червонец я разменял ей на похороны – денег чего-то не было, а остальные храню, в память бабки. Она, кстати, великому князю Константину ручку целовала…
Помните бабушку Некрасова на царском балу? Любой черт в нашей стране ногу сломит.
– Может быть, все-таки великий князь Константин – ей? – поинтересовался я.
– Да-да, это я, конечно, спутал, – согласился шеф. – А померла она у меня замечательно. Приехал к ней, просит бабуля кагору – религиозный праздник какой-то был. Ну, ясное дело, кагора нигде нет. Я четвертинку у ребят в парке достал, ей привез. Она говорит, что, значит, так господь велит; и закурила, а она в блокаду махорку жевать научилась, а после войны уже и по-настоящему курить. Иди, говорит, чайку поставь. Ну, я пошел, а у газовой плиты дверца не затворяется плотно; я минут десять с дверцей провозился, возвращаюсь, – а бабуля уже холодная, под иконами сидит, и сигарета дымится… И зачем жить-то, ежели все равно помрешь? Вот потом, когда я икону вскрыл, так понял, почему бабушка к другим иконостасам нас подпускала, а к этой нет… Ну, хоронить надо. К деду решил ее подселить. Приехал на кладбище, а мороз уже, я могильщикам бензинчику предложил землю оттаивать, на этом деле покорешился с ними, говорю, у дедули раковина треснула – заменить бы. Ребята шасть к другой могиле – метров за сто, сняли раковину, хорошая еще, приличная, и мне тянут. Я говорю, что неудобно вроде, а они объясняют, что к той могиле никто уже два года не ходит, а значит и не придет…
Так вот мы с таксистом мило побеседовали, и я вылез возле официальных елочек, породу которых не знаю, но ненавижу их, где бы они ни росли.
Таксист остался ждать наедине с мыслями о своей бабушке.
Обыскал все крематорские предбанники четыре раза – нет моих Воловиков. Ну, думаю, неужто что-то напутал – стыд и срам, – не оправдаешься: убил старика и побоялся явиться на похороны.
Пошел к администратору, тот говорит, что родственники еще не прибыли. Оказывается, так как тело Александра Борисовича не в их морозилке, а в судебно-медицинском морге, то родственники на автобусе должны еще за ним заезжать.
Пошел гулять с букетом хризантем вдоль глухого, без окон, фасада крематория. Площадка сложена из бетонных плит, тонн по пять каждая, уложены плохо. На иную ступишь – она под тобой екнет, колыхнется, и кажется, в преисподнюю проваливаешься. А звук такой раздается – чем-то дальний артиллерийский гул напоминает. Блокада, конечно…
Прохаживался там еще один бедолага. Я ему говорю, что, мол, как бы нам самим в их холодильный подпол раньше планового срока не провалиться. Тот меня успокоил. Это, говорит, капитальное заведение немцы строили, и все тут под большим секретом, – технология у них совершенно сложная, от концлагерей идет. Сейчас, говорит, ведутся переговоры, чтобы второй крематорий строить; так его опять будут в полной секретности и только своими собственными руками фрицы строить…
Очередной бред и Кафка.
Кабы действительно фрицы строили, так пятитонные плиты под ногами не ёкали…
Ну-с, смотрел я на пригородный пейзаж – там далеко видно с крематорной возвышенности, но думалось что-то вовсе не возвышенное. А именно, что я таксисту слово дал вернуться не позже 15.15, а график, судя по всему, явно сбит, и что же мне теперь делать?
Через полчасика появились родственники. Давно я так никому не радовался, как этому скорбному семейству. И боевой полкаш пришел с супругой, сразу у меня сигарету попросил, но жена ему курить не дала, – здоровье беречь надо. Смешно еще, что, когда я попросил старого воина как-нибудь зайти ко мне, поговорить об Александре Борисовиче – для писательского дела нужно, супруга воина заверещала: «Не пущу! В вашей квартире люди мрут!» И ведь старый воин с супругой согласился и навестить место смерти друга побоялся. Странные люди эти ветераны…
И вот теперь я думаю: звонить ему или нет? И как бы на моем месте поступил сталинградец Виктор Платонович Некрасов?
А другим товарищем Александра Борисовича Воловика оказался сын прославленного советского художника Исаака Бродского. Когда нас познакомили, я опять решился пошутить, спрашиваю: «Вы на площади Искусств живете?» (На этой площади музей-квартира автора картины «Ленин в Смольном».) Сын художника – мне на полном серьезе: «Нет, что вы, нас давным-давно оттуда выселили». Оказалось, он простой инженер и долго работал на Шпицбергене. Господи, может, он и с Лив Балстад знаком был, с той, которую так Юра Казаков уважал…







