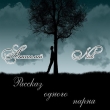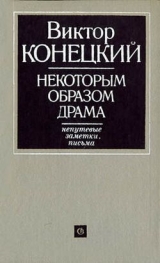
Текст книги "Некоторым образом драма"
Автор книги: Виктор Конецкий
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 23 страниц)
Давненько я собираюсь поговорить или даже заорать на тему кавычек и словечка «якобы» в нашей художественной прозе да и поэзии, ибо не только словарь писателя, но и форма записи сразу показывает и нутро человека, и глубину его принципов, и количество раба, который его беспокоит или, наоборот, даже не подозревается автором в себе самом.
Кавычки расползаются по нашим текстам, как вши. И борьба с ними, пожалуй, не менее важна, нежели борьба с загрязнением среды обитания.
У моряков есть термин – принудительная трансляция. Это трансляция, которую нельзя выключить, – она тебя в случае нужды и от смертельного сна разбудит. И вот каждый раз, когда я употребляю этот термин, то, открыв уже напечатанную книгу, с привычным удивлением обнаруживаю, что прилагательное «принудительная» оказывается в кавычках. Редактору, видите ли, не по себе становится: не может быть на советском судне ничего принудительного! Хотя слова «принудительная вентиляция» редакторов не беспокоят, вероятно потому, что вентилирование, в отличие от транслирования, совершается без участия человеческой речи.
Или слово «якобы» взять. Я пишу: «Буфетчицу тетю Аню на каждом судне пытались изнасиловать». Из контекста совершенно ясно, что шестидесятилетнюю тетю Аню никто насиловать, естественно, не собирался: это ей самой мерещилось, что на нее покушаются. Кавычки мне, правда, здесь не вставили, но сделали еще хуже: «якобы пытались изнасиловать». Как бы кто не подумал, что на советском судне в загранплаваний коллективно насилуют шестидесятилетних буфетчиц.
Количество кавычек в тексте определяет в обратной пропорции меру гражданственности и гражданского мужества пишущего.
Нынче читал книгу В. А. Шаталова «Трудные дороги в космос». Хочу подчеркнуть, что испытываю к автору глубокую симпатию и даже, правда заочно, но знаком с ним, ибо возле Огненной Земли на теплоходе «Невель» обеспечивал тройной полет «Союзов», командиром которых летал Шаталов.
И вот читаю: «Из частых визитов инспекторов в наш полк у меня создалось впечатление, что должность эта чисто „бюрократического“ плана…». «Он был „последний из могикан“ – из тех, кто пришел в отряд вместе с Гагариным». «Во время зарядки я пробежал свою „норму“ – пять километров». «Мои „вывозные“ полеты ограничиваются выполнением простых упражнений в воздухе, а мои товарищи в полках занимаются настоящей „воздушной акробатикой“. „Кое-кто „входил в раж“ и шел на более серьезное нарушение инструкции“. „Как же я ненавидел всех в тот момент. И Трунова, и „бюрократов“ из отдела кадров, и дефицит инструкторов…“
И так практически в каждой фразе.
Конечно, в данном случае кавычкоманией страдает не профессиональный прозаик, а генерал-лейтенант космонавтики. Но именно потому, что пишет человек от литературы далекий, я и беру его за типичный пример порочно записанного текста.
Итак, он закавычивает: «последний из могикан», «норму» бега, «вывозные» полеты, «воздушную акробатику», «входил в раж», «бюрократов» из отдела кадров. Все эти слова и выражения давно вошли в язык и употребляются в переносном смысле. Но любой перенос смысла автору невыносим, он кажется ему каким-то покушением на устав внутренней службы.
И обойтись без переносного значения трудно, и употребить по-человечески, то есть без кавычек, тоже рука не поднимается. А почему не поднимается? Страх! Он самый, голубчик.
Должность инспектора бюрократического плана? Бюрократы из отдела кадров? Нет, так употребить слова, в полном их смысле, прямо – ни-ни! А что подумает княгиня Марья Алексевна? И вообще как бы чего не вышло… Ежели эти бюрократы возьмут да и вмажут обратно? Лучше при помощи кавычек выведем их за этакие скобки – я не я и лошадь не моя.
Странно, что в последней фразе автор не взял в кавычки и критиканское утверждение о дефиците инструкторов. Надо было и дефицит взять. Что же это получается: в Советской армии вдруг какой-то дефицит!
Ну, а по привычке к форме уклончивости, угрюмой скользкости автора пугает уже и последний из могикан – еще кто запишет в американские индейцы из Колорадо; пугает «входил в раж» – еще кто подумает, что нынешний советский летчик-космонавт способен свершить что бы то ни было оголтя, безудержно, безоглядно, – нет, такое не положено по штату и штампу, нет, мы давно уже не Чкаловы и не Маринеску, мы себя в руках держать умеем. Испуг перед княгиней Марьей Алексевной доходит до такой степени, что после космического полета Шаталов пишет: «Вот какой я сделал для себя вывод, „выйдя сухим из воды"». Он боится, что его приключения в космосе клинические идиоты-читатели могут спутать с морской купелью, а откуда вода в космосе? Нету там воды? Нет! Тогда загоним в кавычки и «выйдя сухим из воды».
«А в заключение разговора я „подвел черту"» – так записывает автор. Даже подведение черты в разговоре с начальником ему кажется чем-то нарушающим субординацию и потому подлежащим заключению в клетку кавычек.
Да, кусаются самые обыкновенные словечки по-страшнее космических бездонностей и небесных пришельцев с летающих тарелок.
Я еще почему так именно на космонавта наваливаюсь? А потому, что они же нынче главные герои, олицетворение мужества, пример для молодежи, лицо великой страны. А как до прямого слова доходит, так в кусты.
Ладно, оставим в покое генерал-лейтенанта и взглянем на первых попавшихся под руку профессиональных литераторов.
А. Нурпеисов, статья в «Дружбе народов», первая фраза: «Начал я читать статью Т. Калякина и Е. Сергеева, и „волна протеста“ захлестнула меня». Опять кавычки служат смягчением выражения, от них веет духом смирения и любомудрия, хотя потом казахский писатель весьма грубо обрушивается на критикуемых переводчиков: «Не было еще случая, чтобы даже талантливый переводчик делал из средней вещи шедевр». (Нет, делали. И много раз. Начиная с самого А. Нурпеи-сова, который вышел на союзную арену через руки Юрия Казакова.)
Беру предисловие остроумного и умного литератора Якова Черкасского к мурманскому изданию С. Колбасьева, читаю: «В силу объективных, а порою субъективных причин имена некоторых писателей оказываются в тени, и все, что связано с их творчеством, зарастает потихоньку пресловутой „травой забвения"».
Почему он берет пресловутую траву в кавычки? Вероятно, боится оскорбить память Колбасьева? Возможно, но это уже не Колбасьева вина, что зарос он травой.
Короче говоря, оказывается, что звонкое выражение «Слово не воробей: вылетит – не поймаешь» опять не соответствует нашей действительности. Можно его поймать, воробья этакого летучего! Можно! Засади его в клетку кавычек – и дело в шляпе!
Смерть в чужой квартире
Итак, Виктор Платонович Некрасов скончался в парижской больнице 3 сентября 1987 года.
В октябре я выступал в Ленинградском лектории и рассказал о нашей последней с Некрасовым встрече. Вскоре позвонил один из слушателей, представился детским другом Виктора Платоновича и одним из соавторов его мальчишеского журнала. Я попросил о встрече. Но Александр Борисович Воловик уезжал на побывку в свой родной Киев, и мы перенесли свидание на следующий месяц.
Конечно, сунул нос в единственную сохранившуюся у меня книгу Некрасова «В жизни и письмах». На странице десятой прочитал о еженедельном журнале «Зуав»: «Сотрудников в нем было четыре: я, Валя Цупник, Шура Воловик и еще один Шура по фамилии Фарбер. Руководство коллегиальное».
Сразу вспомнился Фарбер из книги «В окопах Сталинграда» и тот Фарбер, которого в кино играл Смоктуновский, и как этот очкарик Смоктуновский входит в блиндаж, на пороге которого лежит убитый; и как Кеша Смоктуновский очень интеллигентно перекладывает ногу убитого, освобождая проход…
С сотрудником «Зуава» мы после неоднократных перезваниваний договорились встретиться 25 ноября у меня дома в 14.00.
Александр Борисович опоздал на тридцать пять минут. Я уж было думал, он не придет, испугается сильного гололеда: была тоскливая ноябрьская ленинградская оттепель.
Первой фразой Воловика было:
– Простите, не буду снимать обувь, – ботинки новые, тесные.
Такие мелочи меня не беспокоят. А настроение у Александра Борисовича было хорошее, шутливое, даже озорное. Объяснил, что удрал из-под каблука супруги, ибо через четыре дня у него день рождения и дома полным ходом идут приготовления.
Главное, что бросилось в глаза, – это полнейшая внешняя непохожесть детского дружка Некрасова на самого Виктора Платоновича. Гость был мужчина чуть ниже среднего роста, плотной комплекции, со значком ветерана-строителя на лацкане пиджака.
Я предложил чай-кофе, но гость от всего отказался и в прямом смысле слова набросился с расспросами о Некрасове. Мне же уже давно надоело вспоминать для бессчетного количества слушателей о наших парижских встречах – тем более предстояло о них писать, а каждый пишущий знает, как опасно забалтывать будущую писанину.
Александр Борисович принес с собой старомодный пухлый портфель с тремя отделениями. И выложил на столик бесценные сокровища: это были самые первые номера «Зуава», о которых мечтал незадолго до смерти Некрасов; были ксерокопии других номеров их журнала, присланные Воловику Некрасовым из Парижа; были письма еще доэмигрантских времен и переписка самых последних месяцев; были фото разных годов. Короче говоря, глаза разбегались.
Но в первую очередь следовало расспросить гостя о нем самом, его военном прошлом и выудить какие-нибудь детали из совместного с Некрасовым детства. Однако Александр Борисович о себе рассказывать категорически не хотел, от самотемы увиливал гениально. Зато очень художественно рассказал, как выполнил предсмертную просьбу Виктора Платоновича и навестил могилу его матери на Байковом кладбище в Киеве. Найти могилу было трудно, ибо для этого следовало сперва найти какую-то киевскую письменницу, а застать ее дома никак не удавалось.
Затем он собственноручно нарисовал план могил – сделав это с инженерной четкостью, – оказался строителем мостов.
Бабушка – Мотовилова Алина Антоновна – родилась 7. 05. 1857 г., умерла 27. 03. 1943 г.
Тетя Соня – София Николаевна Некрасова умерла 28. 02. 1966 г.
Мама – Некрасова Зинаида Николаевна умерла 7. 10. 1970 г.
Все трое похоронены на Байковом кладбище в Киеве. На могиле бабушки – белый мраморный крест, на могилах Софии Николаевны и Зинаиды Николаевны – дерновые холмики. После смерти В. П. Некрасова на могилу его матери несколько дней киевляне приносили цветы.
Александр Борисович посетил могилы седьмого октября 1987 года – случайно вышло так, что он пришел к Зинаиде Николаевне в день годовщины ее смерти. Этот факт на Александра Борисовича очень большое произвел впечатление.
Практически, кроме кладбищенского рассказа и того, что Александр Борисович проработал в одном институте ровно пятьдесят лет, я от него ничего и не успел узнать.
Возможно, здесь сыграло роль то, что, как много раз уже объяснял, я не умею расспрашивать людей о них самих. И когда почувствовал под пиджаком Александра Борисовича пуленепробиваемый жилет, то отказался от всяких попыток.
Решили почитать письма Виктора Платоновича.
Здесь Воловик объяснил, что их переписка возникла всего год тому назад, ибо Некрасов, очевидно боясь принести неприятности своему дружку, упорно не сообщал ему свой парижский адрес. И узнал Александр Борисович адрес окольным путем, и сразу отписал.
12.12.86.
«Шура, Шурка, дорогой мой Воловичок! Вот уж не ждал! Вот обрадовал! Вынул из ящика конверт, вижу, что из Союза, решил, что от моих ленинградских „девушек“, и сунул в карман. Вечером, сидя в кафе за кружечкой пива, обнаружил его в этом самом кармане и… Ну, дальше сам можешь догадаться…
Значит, жив-здоров, естественно, на пенсии (а я-то, грешным делом, думал, что перебрасываешь по-прежнему мосты через Неву и всякие там Иртыши…), да к тому же встречаешься и с Капами, Лельками, Борьками и прочими… Этому завидую! Всем им привет, новогодние пожелания и… мой адрес. А Аня и Саша? Что, где и как они?
Я тоже, перешагнув некий юбилейный срок, жив-здоров, хотя не ношу очки, а во рту что-то искусственное. В отличие от тебя не пенсионер, вкалываю, что-то пишу, произношу, а в свободное время летаю вокруг земного шара. Япония, Австралия, Бразилия, естественно, США, включая Гавайи. Прилагается фотография, кстати, изображает меня в Токио. С еще большим удовольствием посетил бы ваш Питер или наш многострадальный Киев… Впрочем, судя по фотографиям и альбомам (а у меня их много), лучше и краше от всяких архитектурных и скульптурных излишеств он не стал…
Тронут твоим желанием посетить мамину могилку на Байковом кладбище. Но так ты ее не найдешь. Позвони в Киеве по телефону, там одна письменница проживает, она охотно будет твоим гидом.
За сим, дорогой мой Шура, объятия и поцелуи тебе и Гизе! Хотя у тебя и много всяких дел, пиши.
Вика».
21.01.87 (получено 2.02.87).
«Дорогой Шура! Посылаю тебе фотокопии нашего с тобой „Зуава“. (Куда делись „Ночные разбойники“ – ума не приложу). Сделал и цветные фотографии, но проявлять отдам, когда закончится пленка. Тоже пришлю. Всё же раритет… Если тебе удастся сделать нечто подобное с твоими номерами – радости моей не будет конца. Будете у Борьки – самый горячий ему привет. Пусть и он раскачается и черкнет несколько слов. Ведь нам вместе вроде уже крепко за двести!!!
А не загадываешь ли ты в период нынешних перестроек, демократизаций и либерализации – сигануть не только на Кавказ, а допустим, в славный наш город Париж, который действительно стоит обедни. Я, во всяком случае, хотя, в противоположность внуку, и не офранцузился, но парижанином стал. Знаю и люблю этот городишко…
О получении «Зуава» сразу же напиши. Твое письмо шло 5 дней – с 27.01. по 2.02. Прогресс!..»
На этом интересном месте раздался междугородный телефонный звонок. Звонила из Москвы Кацева – переводчица Кафки, Бёлля и Макса Фриша, с последним она познакомила меня в Ленинграде прошлой зимой. С Евгенией Александровной Кацевой мы придумали некую игру. В войну она была в морской пехоте в звании старшины II статьи. И когда звонит, представляется по всей форме: «Капитан, разрешите обратиться? Докладывает старшина второй статьи! Разрешите продолжать?…»
Звонила Евгения Александровна, ибо только что получила письмо от Фриша из Цюриха. Максу не работалось, он хандрил, пил свою швейцарскую водку, мечтал скорее приехать в Союз.
– Вы помните, что для Фриша значит, когда его покидает работа? Ну, из «Первого дневника»?
Я, конечно, не помнил, хотя Фриш мне чрезвычайно, даже до некоторого суеверного страха близок, иногда даже текстуальными совпадениями в своих вечно фрагментарных рассуждениях.
– Работа, – объяснила Женя, – это единственное, что избавляет Макса от ужаса, когда он внезапно, беззащитный в своей нейтральной Швейцарии, просыпается среди ночи или ранним утром. Сразу же посмотрите сто тридцатую страницу «Листков из вещевого мешка».
– Сейчас посмотрю, – сказал я. – А пока угадайте, кто сидит у меня в гостях?
Я знал, что Евгения Александровна была в приятельских отношениях с Некрасовым и никогда не пыталась забыть его, ибо нельзя работать над Бёллем или Фришем, не держа в уме, в воображении прозу Некрасова. И я знал, что старшина II статьи обрадуется, узнав, что у меня в гостях сидит жив-живехонек друг Виктора Платоновича. А передо мной на столе детские журналы Вики, фотографии, письма к Воловику.
Ну, она, конечно: «Ох и ах!» Затем рассказала о неизвестном мне факте. Оказывается, за двое суток до смерти Некрасову прочитали заключительные строки из выступления Вячеслава Кондратьева в «Московских новостях», где Кондратьев заявил на весь мир, что «Окопы» остаются нашей лучшей книгой о войне. И Некрасов – он был еще в сознании – просил дважды перечитать ему эти строки. Так что умер, зная, что Родина его помнит. Евгения Александровна попросила меня пересказать этот факт Александру Борисовичу, подчеркнув, что это не легенда, что знает она об этом из первоисточника.
Я, конечно, передал. Правда, ни о Бёлле, ни о Фрише Александр Борисович слыхом не слыхивал: технарь-строитель мостов через всякие разные знаменитые реки, но без знакомства с мировой литературой. А я-то сразу сунул ему «Листки из вещевого мешка», дабы похвастаться автографом Фриша, где он желает мне счастья на море, за письменным столом и повсюду. Но никакого впечатления на моего гостя автограф знаменитого прозаика не произвел, хотя в письме Некрасова, которое открытым лежало на столике между нами, Виктор Платонович отмечает, что в детстве Воловик подавал блестящие беллетристические надежды: «Помнишь твою захватывающую „Тайну бандитов“, которая заканчивается, на мой взгляд, динамично: „Геркулес“ догнал „Баторию“ и всадил ей в борт стальной таран, находившийся на носу корабля (продолжение следует)». Как видишь, ты, Шурка, определенно подавал надежды, – пишет Некрасов. – Но где же продолжение «Бандитской тайны»?
Присланные тобою фото возвращаю».
– Эти фото я ему посылал, – объяснял Александр Борисович. – В начале июня. Наши фото конца шестидесятых. А он вот вернул: оказывается, они у него есть. Ему, знаете, разрешили все-все с собой вывезти – удивительно… Простите, мне что-то дышать трудно. Я встану, пожалуй…
Он встал со стула, я продолжал читать очередное письмо Некрасова вслух:
– «Середина июня, а ходим все в кожаных куртках. Дожди. Говно. На юг не поехал. Пляжа нет. А что без пляжа там делать? Как там у вас теперь с водкой? Говорят, легче стало. Впрочем, я сим сейчас не интересуюсь…»
– Странное состояние, – прервал меня Александр Борисович. – Никогда такого не было. Дышать трудно, и чуть голова кружится.
Он сказал это со спокойным удивлением.
Чего особенного? Разволновался человек от воспоминаний.
Я открыл форточку. На улице было около нуля, из форточки потянуло ленинградской стылой сыростью.
– Гололед, – сказал Александр Борисович. – Ужасный гололед. И курю много. Вот и дышится…
За время нашей встречи он выкурил две полсигареты через мундштук.
– Виктор Платонович смолил почище вас, – сказал я.
– Гололед, – повторил Александр Борисович. – От метро пешком шел, и еще лифт у вас барахлит. Пешком поднимался…
Этот лифт угробил и мою мать, и еще трех пожилых людей на площадке, и я со своим инфарктом пешочком с шестого этажа шлепал в реанимацию: не дашь же санитаркам тащить себя на носилках через шесть пролетов…
– Как у вас сердце? – спросил я. Его лицо начинало мне не нравиться.
– Никаких плохих ощущений.
– А раньше что было с сердечком?
– Нет. И на пенсии недавно – четыре года как бездельничаю.
Я все-таки усадил его обратно на стул и посчитал пульс. Рука у Александра Борисовича была полная, но плотная, пульс я нашел без особого труда. Он показался мне нитевидным, хотя я толком не знаю, что за таким словом стоит. Удары считал по часам – тридцать секунд – сорок пульсаций.
– Оно у вас работает, как у космонавта, – сказал я, зная, как важны подобные комплименты, когда человеку становится плоховато.
– Да, это не сердце, – сказал он. – Дышать трудно. Странное ощущение…
– Идемте-ка в кухню. Посидите у дверей на балкон. Я балкон на зиму еще не забаррикадировал.
Мы пошли на кухню. Поддерживать себя за локоть Александр Борисович не дал и за стенку не придерживался, хотя шел неуверенно. Я открыл балконную дверь и посадил его перед ней на стул. Одной рукой он оперся на стол, но сидел прямо. А в меня потихоньку стал заползать страх: цвет лица не нравился. Я накапал кордиамин, валерианы и дал ему. Он выпил очень послушно. Это тоже не понравилось. Мужики часто отмахиваются от всяких разных капель.
– Нашатырь хотите?
– Не знаю, странно это… Вызовите такси, пожалуйста. Домой поеду.
До такси дозвонился быстро, но пообещали только в течение двух часов: «Не занимайте телефон – позвонят в любую минуту».
Какая сволочь, гнида и падла выдумали эти «два часа»? Какая гнусность вокруг! Вот вам: десять лет не работает на шестой этаж лифт… И – бейся башкой о стену, ори, задыхайся от бессильной ненависти… – называется мелочи жизни. И смерти – добавлю не ради красного словца.
– Попробуемте-ка лечь, – сказал я. – Здесь простудитесь.
Балкон был засыпан снегом, сильно сквозило сырым холодом.
– Вам ни капельки не лучше?
– Нет.
Я дал ему понюхать нашатырь. Довольно настойчиво это сделал.
– Дошло?
– Да, спасибо.
Я повел его назад в комнату. Но мою поддерживающую руку он вытерпел только пока я помогал ему встать со стула, затем пошел самостоятельно. У дивана сказал:
– Ботинки новые. Вы уж простите, сидят туго, снимать не буду.
Когда лег:
– Лежать хуже.
И попытался сесть. Я снял с него галстук и расстегнул ворот рубашки.
– Все-таки сердце болит или нет?
– Нет.
Вот положение: вызывать «неотложку» – придется говорить при нем, а он в полном сознании. Услышит – добавочная психическая нагрузка: 1) значит, с ним очень плохо, 2) он в чужом доме – неприятности незнакомому хозяину, 3) увезут в больницу, а жена?…
Но он мне слишком уже не нравился. Главное – никакого улучшения самочувствия и плохой цвет лица. Однако никаких жалоб на сердце и никакого заметного страха, а страх при всяком сердечном приступе сильно обостряется. Даже руку к сердцу и вообще к груди не тянет.
Шла двадцатая минута. Надо было решаться.
– Я вызываю «неотложную», – сказал я.
Он послушно промолчал. И это тоже было плохо.
«03» ответила сразу, но минут десять-пятнадцать расспрашивали обо мне, моем больном и чем он раньше болел с детства. А я пятнадцать минут объяснял, что первый раз человека вижу, что ему семьдесят семь лет и ему очень странно плохо. Наконец пообещали.
Тут только я сообразил, что еще нет 17-ти часов и внизу работает литфондовская поликлиника. Набрал регистратуру и попросил послать ко мне терапевта – бегом, ибо у меня стало плохо гостю, которому под восемьдесят лет.
– Сердце?
– На сердце он не жалуется.
– Сейчас скажу.
Александр Борисович про такси и дом напоминать перестал, мои разговоры выслушивал равнодушно. И это испугало уже до трясуна в руках. Я подсел к нему и гладил по колену, повторяя: «Сейчас будет доктор, сейчас будет доктор…»
– А лежать все-таки хуже, – сказал он довольно отчетливо. Но дыхание делалось хриплым.
Я стащил с него пиджак со знаком ветерана-строителя на лацкане. Врача не было. Так прошло пять минут. Я опять набрал номер нашей поликлиники.
– У терапевта пациент, – сказали из регистратуры. Тут я выругался по-некрасовски: «Пускай бросит все и бегом сюда! И сестру со шприцем!» И бросил трубку.
Полное бессилие. Говорить Александр Борисович перестал, но глаза были открыты. Взгляд спокойный и успокаивающий меня. Дыхание со все более заметным хрипом в конце выдоха. Цвет лица землистый, и губы начинают бледнеть. И проклятый лифт не работает. Но врачи-то об этом не знают. Если попробуют в него забраться, то застрянут.
И каждую минуту я бросал Александра Борисовича одного на диване и бежал на балкон, смотрел вниз во двор, затем бежал на лестничную площадку и орал в гулкую пустоту узкого пролета: «Лифт не работает! Сюда! Сюда, выше!»
Затем возвращался к Александру Борисовичу.
– Стран-н-о-е со-с-то-я-ни-е… Никогда так… Никогда так…
Наконец вбежала Гита Яковлевна – наша врачиха. Я сидел на диване у изголовья Александра Борисовича и гладил ему лоб. Глаза он закрыл.
– Все, – сказала Гита Яковлевна прямо с порога.
– Что «все»?
– Все, Виктор Викторович.
Вошла еще одна женщина в халате – я принял ее за сестру из поликлиники, – стала обламывать ампулы. Гита велела вызвать реанимационную бригаду:
– Дозвонитесь, а говорить я буду сама. Но все это пустое.
– А массаж? И прочие ваши штуки? Минуту назад он разговаривал.
– А я вам говорю: «Все!»
Я набрал «03» и передал ей трубку.
– Суньте ему нитроглицерин, есть у вас? – сказала Гита и властно распорядилась по телефону о реанимационной бригаде.
Зубы у Александра Борисовича были сжаты. Я сунул ему по одной таблетке под нижнюю и верхнюю губу.
Незнакомая женщина, которая оказалась врачом «неотложной помощи», накладывала жгут для укола, руки у нее тряслись.
– Кто у него родственники? – спросила Гита.
– Понятия не имею. Это детский друг Виктора Некрасова. Я вижу его первый раз в жизни.
– И последний, – сказала Гита. – Бедный вы, бедный, примите сами сердечное.
Через сколько времени приехали реаниматоры, я не засек. Он и она. В один голос спросили:
– Зачем нас вызвали, если тут все ясно?
– Для порядка, – хладнокровно сказала Гита.
– Кто он?
– Лучше познакомьтесь с хозяином квартиры, – сказала Гита. – А покойный – друг Виктора Некрасова, только вы про такого никогда не слышали.
– Нет, слышала, – сказала молодая женщина-реаниматор. – Некрасов был хороший писатель, хотя я его ничего не читала.
– Тогда простите, – сказала Гита.
Ну, что ж, Виктор Платонович, как видишь, тебя здесь знают и молодые, хотя и не читали ни одной твоей строки.
Реаниматоры уехали, дав мне успокаивающий коктейль; ушла в поликлинику продолжать прием Гита. Со мной и Александром Борисовичем осталась врач из «неотложки». Ее звали Мариной. Она вызвала милицию и принялась оформлять бумаги.
Александр Борисович лежал на диване – спокойный, с закрытыми глазами, челюсть стала отвисать. Я потрогал его руку. Тело едва заметно, но уже остывало.
– Надо бы подвязать, – сказал я врачихе. – И я, пожалуй, накрою его.
– Нельзя. До приезда милиции ничего нельзя трогать. Отсядьте. Какие у него документы?
Я обыскал пиджак. В бумажнике был паспорт и много разных удостоверений, включая участника Великой Отечественной войны. Была еще записная книжка и… нитроглицерин.
– От чего он умер?
– Острая сердечная недостаточность. Какие у вас красивые картинки висят. И вообще у вас очень уютно, – сказала врачиха.
Хорошенький уют, когда на твоем спальном месте лежит человек, который еще какие-то тридцать минут назад с тобой разговаривал о друге детства, эмигранте Вике Некрасове и подарил тебе фотографию, где оба они молодые, тридцатилетние наверное, сидят рядком и по какому-то поводу неистово хохочут.
Надписать фотографию Александр Борисович не успел. Это пришлось сделать мне: «А. Б. Воловик хотел подписать мне эту фотографию. Это было за 40 минут до его кончины. Пришел в 14. 30 25-го ноября 87 г. Умер в 17.00. (Хотел оставить мне „Зуавов“ и „Маяк“.) В. К.»
– Ох, писанины сколько… И вообще-то много, а случаи «смерть в чужой квартире» – особенно, – посетовала Марина.
Я закрыл форточку и сел читать «Зуава». Скажете: бесчувственный?
А я и сам не знаю, что со мной в данном случае было. Я не чувствовал рядом покойника. У меня даже малейшего страха или нежелания смотреть в лицо Александра Борисовича не было. Только как-то привычно и заученно мелькала и мелькала мысль о той неимоверно тонкой, прозрачной пленке, которая отделяет живое от неживого.
Впервые эта мысль с абсолютной ясностью пришла в реанимационном отделении больницы имени Ленина. В сущности, два этих состояния в каждом из нас сосуществуют с самого рождения. И болеть не надо. Выпал из колыбельки, стукнулся мягким еще мозжечком – и все, мат, аут. Или пуля-дура. Или кирпич с карниза охраняемого государством памятника…
Самым тягостным, даже ужасным было представить себе родственников: как, кому, когда сообщать о случившемся? А вдруг жена сама сердечница? И жахнуть ей такое по телефону? Ушел человек, улизнул под благовидным предлогом от домашних предъюбилейных забот и хлопот и…
Так вот, чтобы не мучиться этими пока неразрешимыми проблемами, я и отвлекал себя чтением «Зуава» № 1. А в нем сочинение двенадцатилетнего киевского школьника Шурки Воловика «Приключения и путешествия Фрикэ Мегира»:
«На большой пассажирской пристани большого французского города Бордо топталась масса народу, около большого корабля. Корабль был трехмачтовый голет под названием „Республика“, который должен был сейчас выйти в море по направлению к Южной Америке. На палубу голета взошел один мальчик, с двумя мужчинами. Фрикэ Мегире, так звали мальчика, был француз из Парижа, который страшно любил. Другой был его дядя Андрэ Варон из Орлеана. Он был военный инженер. Третий был провансалец, старый морской волк Пьер де Гал, колоссального роста и сильный, как бык. Корабль отчалил, и мои путешественники послали последнее прости родному городу. Фрикэ уже не в первый раз плавал по морю и поэтому очень любил море.
Он целыми днями стоял у борта и смотрел на волны, которые поднимались и с шумом падали вниз. Через несколько времени они пристали к островам Зеленого Мыса. Там с Фрикэ случилось маленькое происшествие. Он решил полезть на мачту, чтобы оттуда осмотреть окрестности. В одну минуту он влез на мачту, хотел схватить флюгер, как вдруг мачта под ним подломилась, и полетел стремглав вниз. Он бы наверно разбился о палубу, если бы не боцман Жан Белючи, схвативший его. Из-за сильного размаха он потерял сознание. Андрэ и Пьер очень испугались за рассудок Фрикэ.
Но Фрикэ, который был очень здоровый, через 1/4 часа уже гулял по палубе.
Постояв немного у берега, они поплыли к мысу Горн, который, как известно, находится на Огненной Земле. Во время этого путешествия ничего особенного не произошло. Там, в городе Утувия в Чили они высадились. Капитан попрощался с Фрикэ, Андрэ, Пьером и Белюшем, который не хотел расстаться с Фрикэ, которому спас жизнь. Жан Белюш был бретонец и был отважный мореплаватель. Через несколько дней они переехали Магелланов пролив и очутились в Аргентине. Они в дилижансе ехали в Пампасах и высадились в городе Патагонесе и пешком отправились к реке Колорадо, у которой и остановились и раскинули палатку. Оставив на хозяйство Пьера, Фрикэ, Белюш и Андрэ пошли на охоту. Долго они шли между высокой травой, как вдруг услышали рев, и откуда ни возьмись на них прыгнул громадный ягуар-людоед. Фрикэ не растерялся и выстрелил в ягуара, но промахнулся, и ягуар, еще больше освирепевший, кинулся на Фрикэ, но Фрикэ бросил в открытую пасть ягуара свою винтовку. Пока ягуар грыз винтовку, Белюш выстрелил и убил ягуара наповал. Вдруг из высокой травы выскочило несколько индейцев, растатуированные, размахивающие томагавками и ружьями, и связали трех охотников по рукам и по ногам (продолжение следует).
А. Воловик».
Здесь следует иллюстрация, на которой индейцы выскакивают из высокой травы, один из индейцев нацеливается кинжалом в зад стоящего на четвереньках француза. Подпись: «…из высокой травы выскочили индейцы… (рис. В. Некрасова)».
Закончив оформление «Случая смерти в чужой квартире», Марина – думаю, с благой целью развлечь меня – принялась рассказывать истории почище, нежели у Фрикэ Мегира. О том, например, как только что помер у нее сорокалетний мужчина, когда ему стало уже хорошо и блаженно после укола, а он тут взял да и помер. А вот еще у нее такой был случай… А вот еще этакий…