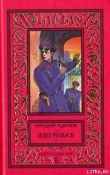Текст книги "Базальт идёт на Запад"
Автор книги: Виктор Делль
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц)
Европа отмечала рождество Христово. Уходил в прошлое еще один год. Черный барон, он же Клаус Лерк, один из способнейших учеников господина Масару Синдо, выпускник первой десятки, как нельзя лучше справлялся с поставленной задачей. Он не только успешно внедрился в Германии, но и окончил университет в Берлине, прекрасно разобрался в политической обстановке в этой стране, верно определил силы, которые вот-вот возьмут власть, сделал ставку на эти силы, считается одним из надежных людей у нации, руководит штурмовым отрядом. Господин Масару Синдо был доволен своим воспитанником. Если у Черного барона дела пойдут и дальше столь же успешно, он сделает хорошую карьеру. И потом… Клаус Лерк не мог ошибиться. Он спал рядом с этим русским. Их привезли почти одновременно. Они одногодки… Не в правилах у господина Масару Синдо делиться тайнами с кем бы то ни было, но и выхода он не видел. В Берлин ушла шифровка с приказом о ликвидации русского.
Из рассказа
И.3. Семушкина
«Произошла одна из тех случайностей, которые принято называть роковыми. Хотя какой там рок, в предопределения я не верю. Раньше у меня таких случайностей не было. Сказались усталость, то нервное напряжение, в котором жил я все годы, начиная с четырнадцатого. Что-то я упустил, расслабился, и вот результат. На выходе из порта Гамбург лицом к лицу встретился с Лерком. Его, впрочем, так же, как и меня, не враз можно было узнать, прошло много лет. Но в «сиротский дом» мы попали вместе, три года жили бок о бок. Так что узнали друг друга. Клаус изменился. Возмужал, окреп. Ему шла форма штурмовика. Ступал он твердо. По-хозяйски твердо, я бы сказал.
Мне надо было уходить из Гамбурга, уезжать из Германии. Но поступить так именно в тот момент я не мог. Начало тридцатых годов. В Индии, в стране, давшей мне приют, настоящих друзей, пославших меня на работу в Европу, наступили тревожные дни. Британские власти беспощадно расправились с моими друзьями. За «соляной поход», за восстание в Пешаваре и Шолапуре, за то, что рабочий класс Индии, крестьяне, все население поднялось на вооруженную борьбу против колонизаторов, войска англичан обрушили на страну террор и насилие. В Гамбурге была наша перевалочная база. В Европе мы добывали оружие, боеприпасы, переправляли его восставшим. Порт Гамбурга – основное звено в длинной цепочке долгого пути до Индии. Большая ответственность лежала на моих плечах. Я не мог бросить хорошо отлаженное дело, передать его мне было некому. Надеялся я на то, что Лерк не решится на самостоятельные действия, он свяжется с господином Синдо. На это надо время. Да и выхода, честно говоря, в тот момент я не видел. Для меня было ясно – я раскрыт. Господин Синдо не простит побега. Теперь он узнал, что я в Европе, а значит, «работаю». На кого? Это уже детали. У меня не было шансов бежать из Японии, я бежал. Выходит, я имел помощников, защитников, дело не в названии. Кто может помочь сироте? Такие же оборванцы? Да. К тому же я русский. В России произошла революция. Минуло столько лет. Не надо ломать голову, чтобы понять ситуацию. А господин Синдо кое-что понимал в этой жизни. Скрыться от него я тоже не мог. Где? И господин Синдо и Лерк в то же время могли действовать почти открыто во многих странах, кроме, разумеется, России. Но о России я тогда не думал. Россия для меня оставалась несбыточной мечтой. Несбыточной и недосягаемой. Я был рядовым представителем национально-освободительного движения Индии в Европе. Мысли мои шли тогда примерно в таком плане. Что я для России? Оказать помощь молодому государству рабочих и крестьян было честью, моей святой обязанностью. Я помогал. Подробно проинформировал русских о предприятии Масару Синдо. Но рассчитывать самому на помощь… Об этом я как раз и не думал. Как и о том, что Лерк решится на гласность, на использование власти. Он не станет меня арестовывать, сам связан по рукам, по ногам. Следовательно, он лично, после указаний господина Синдо, постарается убрать меня. А это уже поединок. К поединку я был готов».
Из рассказа
П.И. Григорьева
«…Снова Стамбул, наша встреча с Исламабадом в тысяча девятьсот тридцать втором году. И мы не те, и мир менялся. Назревали серьезные события в Германии, из которой только что выбрался Исламабад. Обстановка в этой стране складывалась таким образом, что большинство трудящихся шло за коммунистами. В то же время все более открыто действовали гитлеровские штурмовые отряды, нацисты все более откровенно пользовались поддержкой официальных властей. В этой обстановке Лерк, получив приказ Масару Синдо, вступил в поединок с Исламабадом. Началась слежка. В каждый час, в каждую минуту Исламабада ждал выстрел из-за угла, нож в спину, смертельная доза яда. Надо было иметь крепкие нервы, чтобы не упустить рокового мгновения.
Два месяца напряжения, два месяца борьбы. Даже когда Исламабад перебрался в Швейцарию, Лерк нашел его и там. Борьба продолжалась. И тут надо отдать должное Исламабаду – он выдержал. Клауса Лерка не стало. И произошло это в Берне. Исламабад победил.
В Стамбуле Исламабад понял, что охоту за ним повел господин Масару Синдо. Именно в этот момент мы встретились. Стамбул к тому времени мало изменился. Поубавилось эмигрантов из нашей страны, не было того напряжения, которое царило в двадцатые годы. Но по-прежнему здесь собирались разведчики всех мастей.
Господина Масару Синдо я узнал по описанию Исламабада. Крепыш без единого волоска на голове, кожа-пергамент и холодный, будто остановившийся взгляд. Нам удалось выяснить, что японец прибыл в Стамбул под видом коммерсанта. Осторожничает. На улице почти не появляется. Деловых встреч почти не имеет.
Исламабад скрывался в доме чайханщика Карима. Я принял решение выпустить его из укрытия, завлечь японца. Так мы и сделали. Исламабад открыто прошел пустынной улицей, скрылся в развалинах бывшего караван-сарая, где нашли в то время приют для себя разного рода бродяги и прочие, то есть те, у кого не было крыши над головой. Мы продолжали следить за японцем. Вскоре выяснилось, что хозяин «сиротского дома» действует один. Вывод был важным. Нам надо было скрыться из Стамбула».
Из рассказа
И.3. Семушкина
«…В Бендершахе, перед тем как уйти в море, я понял, что японец провел нас. Однажды я почувствовал на себе его взгляд. Вы знаете… Когда долго подвергаешься опасности, начинаешь видеть спиной, что ли. В Бендершахе… перед нашим последним броском нервы мои напряглись до предела. Появилось предчувствие опасности. В ту ночь…
Стояла подвально черная южная ночь. Григорьев ушел к яхте. В два часа, как и договаривались, я стал спускаться к берегу. Нервничал. Надо было предупредить Григорьева о предчувствии. Тем более что предчувствие разведчика не мелочь. Но я не предупредил. Один на один остался с господином Масару Синдо. Слышал его. Чувствовал, что ступает он шаг в шаг. Ждал удара. Осторожничал. Медленно двигался по ночной улице Бендершаха. Надо видеть эти улицы, чтобы представить себе ловушку, в которой я оказался. Справа, слева – стены. Ни одно окно не выходит на улицу, только глухие створки ворот.
Перекресток. Его скорее чувствуешь, нежели видишь. Миновал один, второй… Море было рядом, оставалось чуть-чуть. Я остановился. Почему – я и сейчас не могу объяснить. Что-то заставило меня остановиться. Стоял долго. Выжидал. Пошел. Затаив дыхание, едва ступая, приблизился к последнему перекрестку. Прыгнул из-за угла. В тот же миг отскочил вправо. Мимо меня пролетел, блеснув лезвием, нож. Тотчас же хлопнул выстрел. Я упал. Одновременно откатился. Замер…Ждал… Очень скоро до меня дошло колебание воздуха. Понял, что ко мне приближается что-то живое. Словно осторожный выдох до меня доходил. Именно в этот миг за спиной того, кто ко мне приближался, раздались шаги. Шел, как потом выяснилось, Григорьев. Я не упустил этот миг. Поднялся рывком, провел прием Ашбор. Тот самый, которому учил нас господин Масару Синдо. Осветил фонарем нападавшего. На земле лежал хозяин «сиротского дома».
Гораздо позже в мыслях своих я вновь и вновь возвращался к событиям той ночи. Оценивал эти события. Господин Синдо был слишком самоуверен, считал себя эталоном совершенства, исповедовал страх и культ силы. Агентов воспитывал по собственному подобию, готовил озлобленных одиночек. Но в том-то и дело, что сначала в Индии, а потом и в Европе я не чувствовал себя одиноким. Мне помогали рикши, грузчики, рыбаки. Даже когда, по мнению господина Синдо, я был обречен, когда он выследил меня, готов был расправиться со мной, ко мне на помощь пришли Григорьев, Карим-чайханщик, другие помощники. Господин Синдэ настолько был уверен в своей силе, в своем магическом воздействии на людей, что не обеспечил себе прикрытие в Бендершахе(и поплатился. Мы победили. Хотя мне эта пооеда далась нелегко».
Из истории болезни
И.3. Семушкина.
Сентябрь 1932 года
«Нервная система находится в стадии крайнего истощения. Больной подлежит госпитализации…»
Из рассказа
И. 3. Семушкина
«…После стольких лет борьбы оказаться в обстановке покоя. Я расслабился. Эта расслабленность могла мне дорого обойтись. Наступило безразличие. Не мог есть, спать. Врачи говорили, что мое состояние – результат тяжелого заболевания, советовали взять себя в руки. Они же и окружающие меня люди помогли преодолеть недуг. Не сразу, но здоровье мое пошло на поправку. Широко раскрытыми глазами смотрел я на новую для меня жизнь. Лучше всяких лекарств действовало внимание персонала, людей, меня окружающих, их ненавязчивое, от души доброжелательство. И то еще действовало, что очутился я среди своих. Это очень много».
Из давнего,
намеренно забытого
Было. День стоял пасмурный. Тучи плотно обложили небо. Ветер дул порывами. Казалось, он трясет деревья. Хмарь за окном переплеталась с душевным состоянием. Иван Захарович ощущал усталость. Но не ту, которую чувствуешь после хорошей физической нагрузки, когда хочется потянуться до хруста в суставах, другую, она мешала думать.
В палату вошла женщина. Невысокая, стройная, в белом халате. Очень милое лицо. В лице что-то восточное. Такое впечатление скорее всего от сужающихся к краю больших черных глаз. Ресницы густые и длинные. Сочные, без следов помады, правильной формы губы. Чуть вздернутый нос. Голубые прожилки на висках. Именно в этот момент выглянуло солнце. Оно отразилось в ручке графина на тумбочке, разбежалось по стенам веселыми зайчиками. Осветило женщину.
– Я ваш врач, – сказала женщина. – Зовут меня Нина Алексеевна.
Секунды еще удерживали солнце. Врач кивнула, Семушкин заметил небольшие серьги с крохотными камушками, отразившими солнце, розовость мочек ее ушей, которые сами, казалось, светились красноватым светом. От этого видения Иван Захарович почувствовал тревогу. Но не ту, которую он знал раньше, в минуты опасности, а другую, то ли неузнанную, то ли давно позабытую. Будто ждало Ивана Захаровича что-то радостное, но он опасался потерять эту радость и тревожился.
Набежала туча, погасли веселые солнечные зайчики. Но тревога ожидания осталась.
– Кто вы? – спросила Нина Алексеевна.
– Больной Семушкин, – ответил он и смутился, потому что понял нелепость подобной формы ответа. Он не в военном госпитале, где находился до этого. Недавно его перевезли в клинику известного невропатолога.
Нина Алексеевна улыбнулась.
– Вы окружены здесь таким вниманием, – сказала она, – что до вас страшно дотрагиваться.
Глаза у нее глубокие. В них чернота и чистота. И бездонность. Густые тяжелые волосы забраны в пучок на затылке. Шея длинная, матово-белая, голова чуть откинута назад.
– Разденьтесь, больной. Я хочу послушать ваше сердце.
Внезапно Иван Захарович ощутил легкую дрожь. Но не от прикосновения холодного стетоскопа, а чуть позже, когда она едва коснулась его своими пальцами.
– Вам холодно? – спросила Нина Алексеевна.
Впервые с тех пор, как навалилась на него эта апатия, ему захотелось возразить, сказать, что не от холода он вздрогнул, что-то с ним произошло, какой-то необычный весенний разлив захлестнул его, мешает говорить.
– Нет, – только и смог он вымолвить и потупился. Тут же поднял голову, стал смотреть на Нину Алексеевну неотрывно. Разглядел едва заметную сетку морщин в уголках глаз.
Нина Алексеевна продолжала спрашивать, заставила повернуться, дышать и не дышать, слушала сердце. Почему-то ей захотелось расположить к себе этого человека. Может быть, потому, что ее предупредили об особом внимании к вновь прибывшему пациенту, может быть, оттого, что профессор Берсеньев, ведущий психиатр страны, в клинической больнице которого она работала вот уже шесть лет, впервые изменил своему твердому правилу, что было связано, как она догадывалась, с появлением Ивана Захаровича. Дело в том, что профессор никогда не прерывал обход. А тут случилось такое… Прибежала нянечка, прошептала что-то на ухо Александру Евгеньевичу, и профессор засуетился, засеменил вслед за нянечкой к телефону. Скоро он вернулся, но был рассеян, ждал чего-то. Озабоченность профессора передалась врачам, которые присутствовали на обходе. Все чего-то ждали, хотя и продолжали обход. Настороженно обернулись к дверям палаты, когда вновь появилась нянечка. Берсеньев пошел ей навстречу. Вернулся минут через десять. Предупредил о том, что привезут больного, что к этому, больному надо отнестись с большим вниманием. Чуть позже Нина Алексеевна видела, как во двор клинической больницы въехал черный лимузин, как из автомашины вышли какие-то люди. Люди были в гражданской одежде, но эта одежда не скрывала их военной выправки. Приехавших встречал профессор Берсеньев, что тоже было необычным.
– Я буду приходить к вам два раза в день, загадочный человек, – улыбнулась Нина Алексеевна. Глаза ее улыбались. В них появились искорки. – Я буду слушать ваше сердце, – сказала она.
Нина Алексеевна задержалась в дверях, пристально посмотрела на Семушкина. Внутри у него пробежала непонятная, как и при осмотре, дрожь.
Она ушла, он сел к окну. Тучи заслоняли небо. Они торопились. Нижние обгоняли те, что были наверху. Ветер тряс и тряс деревья, обрывая последние листья. Впервые с тех пор, как заболел, Иван Захарович почувствовал голод. Хотелось почему-то картошки и лука. Так захотелось, что сил не было терпеть. Он вышел к дежурной сестре, сказал ей об этом. Сестра удивилась. Сказала, что принесут, чтобы он возвращался в палату. Едва он вернулся к себе, в палате появился старик профессор.
– Ну-с, батенька, признавайтесь, значит, картошки и лука? – спросил он.
– Да, доктор, так захотелось.
– Прекрасно, прекрасно, милостивый государь, – говорил профессор, а сам меж тем поднимал Ивану Захаровичу веки, разглядывал глаза, держал за руку, слушая пульс.
– Кризис миновал, молодой человек, – твердо заключил Берсеньев. – Теперь, батенька, на поправку пойдете.
Из истории болезни
И.3. Семушкина.
Май 1933 года.
«…Продолжить лечение по методу профессора Берсеньева».
Из давнего,
намеренно забытого
Было. Нина Алексеевна нашла его в госпитале. Он не знал, что она придет, однако накануне почувствовал беспокойство. Он и утром проснулся от ощущения предстоящей радости. Пытался понять, откуда такое предчувствие, и не понимал. Сидел спиной к двери, когда она вошла. Открылась дверь, его словно что толкнуло в спину. Обернулся. В тот же миг показалось, будто выглянуло солнце. Рубиново сверкнули крохотные камушки.
– Здравствуйте, больной.
Иван Захарович обернулся, растерялся.
– Вы не сердитесь, что я разыскала вас?
Растерянность сменилась весенним разливом. Тем самым, однажды испытанным.
– Нет, что вы… Я так рад.
– В ваше заведение очень трудно попасть, – говорила Нина Алексеевна. – Как вы себя чувствуете?
– Спасибо… Собираются отправить в санаторий.
– Вы разрешите сесть?
– Да, что же я… Извините.
Вновь искрились глаза. В них не было печали. Иван Захарович хотел было и сам сесть, бросился было в коридор за свободным стулом, но она сказала, что если ему не противопоказаны, она так и сказала «не противопоказаны прогулки», то она с удовольствием погуляет с ним в парке.
Последний месяц весны подходил к концу. В парке было по-летнему тепло, и это несмотря на то, что солнце едва проглядывало сквозь густые кроны деревьев, а заросли бузины, боярышника и черемухи, которая росла здесь в изобилии, создавали предвечерний сумрак на глухих, поросших травой дорожках. Все вокруг свеже зеленело, от зарослей веяло омытостью, как будто только что прошел дождь. Иван Захарович любил прогулки по парку. Каждое утро он вставал рано. До завтрака, до начала обхода отправлялся бродить по заросшим дорожкам. Болезнь его отступала. Появилось новое чувство, в котором он хотел разобраться. Странно, но то недавнее прошлое, все, чем он жил до этого, как бы сдвинулось, казалось нереальным, как будто он подсмотрел свою прошлую жизнь, но она принадлежала не ему, и это не он, а кто-то другой, близкий ему человек прошел путь, означенный опасностями, тем риском, что собственной тенью следовал за ним по пятам. Не было прошлого, и это казалось необычным. В голове постоянно вертелось слово – возродиться. Возродить себя. Заново появиться на свет. Тянуться к свету, как тянется все живое на земле. И эти деревья, кусты, каждая былинка заросшего парка. Во время прогулок думалось о том, как хорошо просто жить. Просыпаться, видеть солнце, бродить по земле. Жить без настороженности, без опасения нежелательных встреч, ошибок к провалов. Он возвращался в палату, на глаза попадалась газета, к нему возвращалось прошлое, все, что с ним было связано, он не мог не думать о будущем. Но стоило ему вновь опуститься в парк, на него снисходило ощущение покоя.
Они шли по парку, говорили о пустяках, и ему было хорошо. Так хорошо, как когда-то на берегу Босфора, в Стамбуле. Тогда он тоже болел. Потом, уже выздоравливающий, жил в доме вдовы, дочери эмигрантов из Азербайджана Лейлы Раджабовой. В один год она потеряла отца, мать, мужа, после которого не осталось даже детей. Ей исполнилось двадцать три года. Она была молода и здорова. По просьбе Карима-чайханщика Лейла приняла Ивана Захаровича, выхаживала его настоями из трав и кореньев. Стояло лето. Было жарко. Большую часть времени они проводили в саду возле небольшого бассейна, в котором хранилась вода для полива виноградника. Лейла знала о нем, что он англичанин, приехал на время, большой друг Карима. Ни о чем не расспрашивала. Любила, и он отвечал ей тем же. Была она стройна, порывиста. Густые черные волосы, когда она распускала косы, укрывали тело. Глаза отражали звезды. Может быть, ему так казалось, настолько они были большие и глубокие. Лоб высокий, открытый. Ресницы мохнатые и длинные. На матово-белой коже – острые брови. Как размашистый росчерк пера, как надломанные крылья альбатроса. Временами ее охватывала грусть. «Ты не останешься со мной, я знаю», – говорила Лейла, сжимаясь в комочек. Ее грусть передавалась ему, но он не мог ей обещать встреч даже в будущем. Лейла хорошо играла на киманьчже. Неплохо пела. Брала то высоко, то низко, и пела она только мугам, своеобразное народное пение, исполнители которого обладают редкостным даром передавать то, что видишь, чувствуешь. Складывать слова так, чтобы присутствовала рифма. У них свой определенный строй стихосложения. У Лейлы все это получалось красиво. Он любил ее и за эти песни, за понимание, за то, что она с ним. Вскоре он поправился и ушел. Он всегда уходил.
Нина Алексеевна напомнила ему Лейлу из Стамбула. Вероятно, в ней текла восточная кровь. Что-то у них было общее, у той азербайджанки и у этой русской женщины, пришедшей к нему на свидание. Она так и сказала ему в палате, спросив: «Я вам не кажусь слишком навязчивой, приглашая на свидание в парк?» – «Нет», – ответил он. «Значит, не слишком?» – улыбнулась она. «Я очень рад, что вы нашли меня, что вы пришли», – уточнил он, и они отправились в парк.
– Вы слышите, соловьи! – остановилась Нина Алексеевна. – Среди бела дня поют соловьи, это же чудо!
– Здесь такие заросли, – объяснил Иван Захарович, – что они путают время суток.
– А вот и нет, – отозвалась она. – Просто здесь старательные соловьи.
С ней было легко. Так легко, как давно уже не было. Все ему нравилось в этой женщине. Ее манера вести легкий непринужденный разговор, улыбка, то, как смешно она морщила свой аккуратный носик, ее длинные тонкие пальцы, когда она брала его за руку, стараясь подладиться под его широкий медленный шаг. Свидание продолжалось, Нина Алексеевна не собиралась уходить, а ему хотелось, чтобы она навещала его вновь и вновь, и он сказал ей об этом.
– Безумные поступки совершаются только раз, – улыбнулась она в ответ.
Ответила, насторожилась, ждала, что он скажет. С ее стороны было безумием искать его, приезжать к нему на свидание. Кто он? Что он? Она не знала о нем ничего. Увидела всего раз. Не находила себе места, когда его увезли. Подобное с ней произошло впервые. Была жизнь в благополучной семье, неудачное замужество, развод, учеба, работа. Все вместе – как что-то однообразное, как пробегающие мимо вагоны длинного состава, после которого остается только пыль. Но она верила. С девических лет верила в то, что однажды, как – этого она не знала, в ее жизнь ворвется ветер. Он раздует пламя такой любви, жара от которой хватит на все последующие годы.
– Я понимаю, что это глупо, но мне хочется, чтобы вы не уезжали отсюда, – сказал Иван Захарович.
– Тогда мне придется заболеть, – шутливо сказала она.
– Другого не дано? – спросил Иван Захарович.
– Говорят, что табличек с указанием выхода нет только на том свете, – ответила Нина Алексеевна. – Я найду выход. Буду приезжать к вам так часто, как позволит работа.
Она остановилась, вгляделась в него пристально, сказала, снизив голос до шепота: «Я люблю вас… Я ничего не могу поделать с собой».
Их встречи продолжались до осени. Болезнь не сдавалась. «Кризис миновал, но вам не так просто будет выбраться, – сказал старик профессор при очередном осмотре. – Забот о восстановлении здоровья, милостивый государь, вам хватит на долгие годы, да-с». Слова профессора подтверждались. После кризиса Иван Захарович почувствовал такую тягу к жизни, какой никогда не испытывал. Все ему было в удовольствие. И бег, и плавание, и встречи, и разговоры. Потом вдруг наступил спад. Не хотелось вставать с кровати. Временами накатывалась подозрительность. Казалось, что врачи скрывают от него что-то важное. Во времена спадов он настороженно относился к приходу Нины Алексеевны. Думал о том, что ее признание в любви, частые приезды – обязанность, которую ей вменили стараниями Григорьева, старика профессора, заурядный медицинский эксперимент. В такие минуты он замыкался в себе.
Нина Алексеевна понимала его состояние. Когда ему было хорошо, она старалась поддерживать тот легкий непринужденный разговор, который вела с самого начала, когда же видела его подавленность – затихала. Слова заменяла жестами. Легко дотрагивалась до его лица ладошкой, гладила по голове, перебирая своими чуткими пальцами волосы. К осени он воспрял духом.
Из заключения
медицинской комиссии.
Октябрь 1933 года
«…рекомендуется санаторное лечение».
* * *
Сборы были недолгими. В санаторий Иван Захарович увез пожелания скорейшего выздоровления, просьбу Нины Алексеевны писать чаще. Он наконец поверил в свое выздоровление. Прощаясь с Григорьевым, шутил: «Разве я могу не выздороветь после стольких затрат и усилий?» Сам же себе и отвечал: «Нет, дорогой Иван Захарович, деться тебе просто некуда, будешь здоров». Постоянно думал о будущем.
Когда-то давно, в Швейцарии, в шумной молодежной компании его познакомили с известным автогонщиком Гуго Вернером. Тот был в зените славы. Подвыпивший Гуго говорил, что не стремление к славе вывело его на дорогу скоростей. «Я с детства, понимаешь, с детства жил ожиданием движения, стремительного движения на самых высоких скоростях, чтобы в один прекрасный миг прорубить толщу воздуха, узнать, что там есть, за этой толщей. Ведь что-то должно там быть…» – «Наш друг Гуго хочет стать метеором, но он забывает, что метеоры сгорают», – заметил один из гостей. «Пусть, – повысил голос Гуго. – Пусть тихоходы катятся ко всем свиньям. Я пришел в этот мир для скорости!» Через год Вернер разбился. Еще через три года Иван Захарович встретил его. Вернера привезли на трассу. Состоялись очередные гонки, но без него. Ревели забрызганные грязью спортивные автомашины, кричали болельщики. Бывший автогонщик сидел в инвалидной коляске. Иван Захарович хотел подойти к нему и не смог. Он увидел глаза Вернера. В них было столько тоски, что ее хватило бы на всех там присутствующих людей.
Иван Захарович следил за событиями в мире, анализировал их. Понимал: Европа идет к войне. Когда это может начаться? Сколько лет мирной жизни отпущено людям? Где его место в будущей схватке? Скорее всего там, где вспыхнет огонь. Мысли цеплялись одна за другую. Он думал о том, сколько времени отпущено ему лично. Год? Три? Пять? Очень мало. Ничтожно мало даже в отрезке обычной человеческой жизни. Вернер говорил, что пришел в этот мир для скорости. Если развить его мысль, то и каждый человек рождается для чего-то. Один становится музыкантом, другой – хлеборобом. Ему, Семушкину, выпало иное. Он стал бойцом. Так уж сложились обстоятельства, но он принял на себя эту ношу. Здоровье вернется. И что потом? Для себя он знал, что не сможет стоять на обочине, смотреть, как мимо проносятся события. Он должен быть в гуще этих событий.
В санатории он вновь и вновь оценивал разговоры с Григорьевым. Было время разобраться в своих чувствах к Нине Алексеевне. Он любит нежданно встретившуюся ему женщину. Чувствовал, что и сам любим. Это обстоятельство заставляло отнестись к себе с повышенной требовательностью. Что дальше? Он не мог ей обещать самую малость – своего присутствия рядом с ней. Он может оставить ей воспоминание о себе, когда уйдет. Раньше или позже. Немного только за то, чтобы какое-то мгновение побыть вместе. Об этом он написал ей в единственном к ней письме из санатория.
Из рассказа
П.И. Григорьева
«…После санатория врачи настаивали на том, чтобы Иван занялся физическим трудом. Советовали устроить его подальше от города, где-нибудь в среднерусской полосе. Пришлось Ивану вспомнить свою первую профессию. Оставалось выбрать место потише. Чтобы природа соответствовала и прочее. Выбрали поселок Озерное под Тверью. Там он и поселился. Работать устроился в сапожной артели».
Из заключения
медицинской комиссии.
Май 1936 года
«…Здоров. Годен к военной службе».
Из рассказа
И. 3. Семушкина
«…За несколько лет здоровье восстановилось полностью. Даже крепче стал. Вроде как закалку прошел. И вовремя. Начались события в Испании. В Мадриде встретился с нашим советником Яном Карловичем Берзинем. Мне о нем много рассказывал Григорьев, а увидел его впервые. Он мне и предложил поработать в Пиль-дель-Вальосе, в центре по обучению республиканцев методам партизанской войны. Этот центр располагался недалеко от Барселоны. Работал, готовил людей. Позже воевал у стен Мадрида, в Каталонии. До конца… Выводил людей через Пиренеи… Много всего было. Многих друзей там приобрел. Война – не только потери.
В Москву вернулся, сразу укатил на Урал. Там и осел в учебном центре».
Выписка из личного дела
И.3. Семушкина
«…В октябре 1941 года направлен на выполнение особого задания в тылу врага в район Вязьмы».
* * *
Из гостиницы Семушкин ехал к Григорьеву. Интересное свойство города, думал он, глядя на немноголюдные в столь ранний час московские улицы. По утрам столица выглядит омытой. До войны он испытывал такое ощущение, и вот сейчас. Окна домов белеют крестами. Улицы перекрыты баррикадами. Проезды ощетинились противотанковыми ежами. Изменился город. Он готов к штурму, к обороне. Но вот наступило утро, и такое впечатление, будто медленный рассвет не прибавил к его возрасту, а отобрал сутки, на которые столица вновь помолодела.
Много лет назад, когда до Индии донеслась весть о революции в России, слово родина слилось для Семушкина с Петроградом. Он гордился тем, что русский, что именно в его стране рабочие и крестьяне взяли власть. Позже в его жизнь вошла Москва. К Москве обращали тогда взоры миллионы угнетенных. Россия, Петроград, ставший городом Ленина, Москва являлись примером, поднимали на борьбу с угнетателями.
Из рассказов отца Иван Захарович помнил название деревни, из которой ушел служить Захар Семушкин, то, что находится она на полпути от Петрограда до Москвы, в речном озерном краю. Прежде чем выбрать место для жительства после санатория, Иван Захарович побывал в родной деревне. Там жило так много Семушкиных, что трудно оказалось восстановить степень родства. В конце концов разобрались. Он побывал на кладбище. Ему показали могилы деда, бабки, многих близких по крови людей. Странно, но именно там, на кладбище, под кронами удивительно чистых берез, нежных какой-то особой птичьей грустью ив, вспомнил он девичью фамилию матери. Потому, может быть, что на кладбище не меньше Семушкиных лежало Афониных, а может быть, и оттого, что именно в тиши, среди могильных холмов, крестов и скромных надгробий отчетливо вспомнился отец, те слова его и рассказы, которые, казалось, забылись, но вот всплыли в памяти, а значит, жили в нем все годы. Еще он помнит, как тогда же слово родина приобрело для него конкретные черты деревни на крутом берегу реки, окруженной небольшими полями-делянками и лесом. Он и Озерное выбрал для жительства потому, что напоминало оно своим расположением деревню родителей.
В двадцатом веке многое оказалось рядом. Сначала Иван Захарович воевал в Испании. Прошло всего несколько лет, фашисты подошли к Москве. Снова надо брать оружие. Не только за свою маленькую деревню, где выросло большое дерево Семушкииых-Афониных, побегом от которого ответвился и он, но и за тысячи таких же деревень, сел, городов всех стран Европы, включая Испанию.
Из рассказа
П.И. Григорьева
«…Жизнь Ивана тесно переплелась с событиями исторического значения. Время такое было. Что ни шаг – история. Мы росли, мужали, становились, участвуя в тех событиях. Я бы мог подробно рассказать о том, какой вклад в революцию внес Иван, помогая нам в годы становления Советской власти. Или о его боевых делах в сражающейся Испании. Но разговор сегодня о начальном периоде войны. Вот я и показываю на примере Ивана Семушкина, какие люди уходили на выполнение особых заданий в тылу врага в том грозном сорок первом году. Отмечу, что Иван Захарович был один из многих. Шла война, были потери, жертвы. Не всегда оправданные. Сказывался недостаток опыта. Однако мы сумели организоваться. Были у нас люди, на которых мы могли положиться. Начни сейчас рассказ о каждом из них, невольно коснешься и революции, и всего того, что происходило со страной в последующие годы. Наши люди всегда находятся на переднем рубеже. В дни мира и в дни войны».