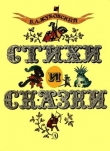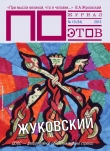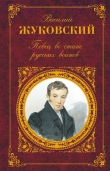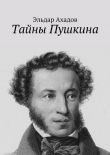Текст книги "Жуковский"
Автор книги: Виктор Афанасьев
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 29 страниц)
В самом конце года пришла из Москвы весть о кончине Александра Тургенева. «Он был старейшим из моих товарищей на этом свете», – писал Жуковский. «Мои пятидесятилетний товарищ жизни, мой добрый Тургенев переселился на родину и кончил свои земные странствования», – сообщает Жуковский Гоголю 24 декабря. «Я считаю великим для себя счастием, – писал он Булгакову, – что он в последнее время (ведя так давно кочевую жизнь по Европе) отдохнул (и два раза) под моею семейною кровлею... Я бы желал, чтобы бумаги, оставшиеся в Москве после Александра, не были тронуты... до моего прибытия... Надобно их сохранить и привести в порядок». Н. А. Мельгунов сообщал Жуковскому из Москвы, что Тургенев готовил к печати письма Карамзина со своими примечаниями. Когда он внезапно заболел, – его лечил его друг, известный врач и благотворитель Гааз. За неделю до смерти Тургенев собирал деньги для голодающих одной из провинций Лифляндии. Каждый день являлся он к пересыльному замку на Воробьевых горах, где беседовал с каторжниками, записывал, если думал кому помочь, наделял деньгами и одеждой. Там, на горах, он простудился, что и привело его к смерти.
Для Жуковского это была тяжкая потеря. Едва начав выздоравливать, он, поддавшись горю, вновь захворал, – все вернулось: «биение сердца, прерывчатый пульс, кровотечение, одышка, слабость и всякие другие неприятности», – как он сообщал в конце декабря 1845 года Гоголю... В январе 1846 года он записывает в дневнике: «Ослабление глаз. Надобно заранее готовиться к слепоте; помоги Бог переносить ее: это заживо смерть». И Гоголю: «Глаза слабеют и даже и с очками трудно становится читать. Я уже начинаю обдумывать средства, как облегчить бы себе занятия в таком случае, когда совсем ослепну. Состояние слепоты имеет и свои хорошие стороны; но сколько лишений!» Жуковский придумал себе для писания – на случай слепоты – картонную «машинку» с прорезями для строк, и туда закладывалась бумага. Можно было писать на ощупь... Он сообщал Бриггену, что у него «в беспорядке глаза (из коих правый получил уже бессрочный отпуск)». Елизавета Евграфовна пишет Елагиной в январе 1846 года, что у Жуковского «общий упадок сил», что, не имея возможности прогуливаться, «пользуется машиною, которая заменяет ему движение верховой езды», – еще одна «машина», нечто вроде деревянного коня. Жуковский не сдается. «Дети его очаровывают, – пишет Елизавета Евграфовна. – Их веселость развлекает его» (они играют на ковре в детской, гуляют в саду, утром и вечером приходят вместе с матерью в кабинет отца). Но если бы он перестал творить – болезни одолели бы его вконец...
В январе или феврале 1846 года Жуковский начал новый труд – поэму «Рустем и Зораб», свободный перевод из Рюккерта (а Рюккерт взял это из «Шах-Наме» Фирдоуси). Писал он поначалу по нескольку строк в день. Как всегда, он изменил стихотворный размер подлинника, он выбрал, а вернее, создал для этого произведения особый рисунок разностопного ямба, почти ритмизованную прозу. Строки, написанные больным Жуковским, дышат силой, он изображает могучего персидского богатыря, его подвиги... Он вводит в рассказ свои собственные эпизоды – ночное прощание Гурдаферид с убитым Зорабом и прощание с Зорабом его верного скакуна. «Мой перевод не только вольный, но своевольный, – писал Жуковский Зейдлицу, – я многое выбросил и многое прибавил... Это была для меня усладительная работа». Он говорит в одном из писем: «Пока еще вижу и могу писать, буду пользоваться этим благом, как могу». К середине апреля следующего года эта огромная вещь, была закончена. Но все-таки главной своей задачей он считал перевод «Одиссеи», а он пока не двигался вперед. Поэтому 19 марта 1846 года, в разгар работы над «Рустемом и Зорабом», он и писал Гоголю: «У меня поэтический запор все еще продолжается. Гомер спит сном богатырским. Авось пробудится».
В мае Жуковский выступает перед великим князем Александром Николаевичем (а через него и перед императором) с новым ходатайством за декабристов. «Если бы в эту минуту я находился близ государя, – пишет он, – я бы свободно сказал ему... я бы сказал ему: «Государь, дайте волю вашей благости... Двадцать лет изгнания удовлетворяют всякому правосудию»... Если же не могу говорить прямо царю, то говорю прямо его наследнику». И далее: «Я вспомнил теперь особенно о двух. Одного я видел в Кургане, другого хотел видеть в Ялуторовске, но это не удалось мне (вы помните эти обстоятельства нашего путешествия). Первый есть Бригген... Я получил от него перевод Кесаревых записок... Другой Якушкин... Скажу вам, что Бриггена я видел только один раз в жизни, в Кургане; Якушкина же я знал ребенком, когда еще он был в пансионе; после я с ним никогда не встречался; следовательно, говорю об обоих без личного пристрастия».
В июле Жуковский пил воды в Швальбахе. Здесь, 18 июля, он принялся за исполнение давно задуманного труда – «Повести о войне Троянской», планы которой были им уже тщательно разработаны. В ней должно было быть 17 глав, примерно около шести тысяч строк, написанных гекзаметром.
В Швальбахе Жуковский написал первую главу: «Сбор войска в Авлиде», где в полной мере отразились его глубокое знание материала и виртуозное владение гекзаметром. В следующие дни Жуковский правил написанное, но эту работу пришлось по каким-то причинам отложить, а 22 июля в Швальбах приехал Гоголь.
Они обсуждали приготовленную Гоголем еще в Риме первую тетрадь «Выбранных мест из переписки с друзьями». 30 июля, из Швальбаха, Гоголь отправил эту часть своей новой книги в Петербург, Плетневу, который взялся быть ее издателем. Жуковский одобрил самую идею такой книги – собрания писем, но отдельные места по его совету были убраны. Такую же избранную переписку задумал собрать и сам Жуковский. В октябре Гоголь приехал проститься, он отправлялся – через Италию – в Палестину. Жуковский подарил ему записную книжку в зеленом шагреневом переплете, с которой он с этих пор не расставался...
После Швальбаха жизнь Жуковского во Франкфурте стала еще тяжелее. «Последняя половина 1846 года была самая тяжелая не только из двух этих лет, но и из всей жизни! Бедная жена худа как скелет, и ее страданиям я помочь не в силах: против черных ее мыслей нет никакой противодействующей силы! Воля тут ничтожна, рассудок молчит... Расстройство нервическое, это чудовище, которого нет ужаснее, впилось в мою жену всеми своими когтями, грызет ее тело и еще более грызет ее душу. Эта моральная, несносная, все губящая нравственная грусть вытесняет из ее головы все ее прежние мысли и из ее сердца все прежние чувства, так что она никакой нравственной подпоры найти не может ни в чем и чувствует себя всеми покинутою... Это так мучительно и для меня, что иногда хотелось бы голову разбить об стену!»
Жуковский занимается с детьми. «Теперь они могут уже играть вместе с братом, – пишет он, – но игра часто обращается в драку и они часто так царапаются, что, наконец, дабы спасти их глаза, надобно было употреблять красноречие розги». Он рисует для них картинки и наклеивает их на картон – исподволь начинает их учить. В конце января заболели тифом Рейтерн, его младший сын и старшая, двадцатишестилетняя дочь. Рейтерн и сын его выздоровели... Дочь умерла. Это жестоко осложнило состояние жены Жуковского. «Нервы ее сильно расстроены, – пишет он Гоголю, – беспрестанная тоска физическая, выражающаяся в страхе смерти, и беспрестанная тоска душевная... Она почти ничем не может заниматься, и никто никакого развлечения ей дать не может. Чтение действует на ее нервы; разговор только о своей болезни». «Может быть, я на краю жизни, как при конце этой страницы», – оканчивает Жуковский свое письмо к Смирновой.
В феврале Плетнев прислал Жуковскому экземпляр «Выбранных мест из переписки с друзьями» Гоголя. «Твоя книга теперь в моих руках, – сообщает Жуковский Гоголю. – Я ее уже всю прочитал... Я все это прочитал с жадностью, часто с живым удовольствием, часто и с живою досадою на автора, который (вопреки своему прекрасному рассуждению о том, что такое слово) сам согрешил против слова, позволив некоторым местам из своей книги (от спеха выдать ее в свет) явиться в таком неопрятном виде... Я намерен ее перечитать медленно в другой раз и по мере чтения буду писать к автору все, что придет в голову о его мыслях или по поводу его мыслей... Итак, Гоголёк, жди от меня длинных писем; я дам волю перу своему и наперед не делаю никакого плана... Я часто замечал, что у меня наиболее светлых мыслей тогда, как их надобно импровизировать в выражение или в дополнение чужих мыслей. Мой ум, как огниво, которым надобно ударить об кремень, чтобы из него выскочила искра. Это вообще характер моего авторского творчества; у меня почти все или чужое, или по поводу чужого – и все, однако, мое. Ты наперед должен знать, что я на многое из твоей книги буду делать нападки... но эти нападки будут более на форму, нежели на содержание. Горе и досада берет, что ты так поспешил... Если б вместо того, чтобы скакать в Неаполь, ты месяца два провел со мною во Франкфурте, мы бы все вместе пережевали и книга была бы избавлена от многих пятен литературных и типографических».
Гоголь в письме к Жуковскому от 10 февраля оправдывался так: «Произошла совершенная бестолковщина. Больше половины писем остановлены цензурой... нужных писем... Вышла не то книга, не то брошюра. Лица и предметы, на которые я обращал внимание читателя, исчезнули, и выступил один я, своей собственной личной фигурой, точно как бы издавал книгу затем, чтобы показать себя». 6 марта Гоголь пишет Жуковскому: «Я размахнулся в моей книге таким Хлестаковым, что не имею духу заглянуть в нее... Признаюсь, радостней всего мне было услышать весть о благодатном замысле твоем писать письма по поводу моих писем. Я думаю, что появление их в свет может быть теперь самым приличным и нужным у нас явлением, потому что после моей книги все как-то напряжено... Появление твоих писем может теперь произвести благотворное и примиряющее действие. Но как мне стыдно за себя, как мне стыдно перед тобою, добрая душа! Стыдно, что возомнил о себе, будто мое школьное воспитание уже кончилось и могу я стать наравне с тобою... Ты кротко, без негодованья подаешь мне братскую руку свою». Гоголя поразило именно негодование, почти единодушное, с каким российская пресса, а также многие друзья его набросились на «Выбранные места...». Как быстро вспыхнул на месте любви и почитания гнев, заглушивший отдельные голоса одобрения... Получив письмо Белинского из Зальцбрунна, Гоголь написал обширное возражение, но, сочтя его все-таки ненужным, порвал; ответил коротко, сухо. «Тебе крепко досталось от наших строгих критиков, – писал Гоголю Жуковский. – Виню себя в том, что не присоветовал тебе уничтожить твое завещание и многое переправить в твоем предисловии».
Гоголь раздумывает в Неаполе, куда ехать: в Иерусалим, или, сначала в Швальбах, или в Остенде... Жуковский зовет его пожить «если не в одном доме, то в одном месте». Он сообщает Гоголю 12 марта, что еще не принимался за продолжение «Одиссеи»: «Надобно размахаться, прежде нежели начать снова полет. И я размахался тем, что кончил «Рустема и Зораба», которого (в этом я уверен) ты прочтешь с удовольствием, ибо в этом отрывке, составляющем целое, высокая поэзия не древней Греции, не образованного Запада, но пышного, пламенного Востока».
Рукопись поэмы Жуковский отправил в Петербург. Ему отвечали Вяземский и Плетнев. Вяземский: «Поздравляю тебя и себя и всех православных с Зорабом Рустемовичем. Славный молодец! Я плакал как ребенок, как баба или просто как поэт на слезах – читая последние главы. Бой отца с сыном, кончина сына – все это разительно, раздирательно хорошо... Удивительно, что за свежесть, за бойкость, за сила, за здоровенность в языке и в стихе твоем. Так и трещит он молодостью и богатырством». Плетнев: «Благодарю вас за то высокое наслаждение, которое вы доставили мне присылкою Рустема... Когда дошел до последних глав, то слезы текли у меня, и я так был счастлив, как давно этого не случалось со мною».
Осенью 1847 года Плетнев отдал в цензуру первую половину «Одиссеи» и «Рустема и Зораба», – они должны были войти во 2-й и 3-й тома «Новых стихотворений» Жуковского, которые он печатал в типографии В. Гаспера в Карлсруэ (одновременно эти книги составили 8-й и 9-й тома пятого издания полного собрания его сочинений). Для этого случая типография завела русский шрифт.
В июле 1847 года Гоголь и Жуковский съехались в Эмсе. К ним присоединился Хомяков, которому Жуковский был особенно рад. «Он мне всегда был по нутру, – писал Жуковский Вяземскому. – Теперь я впился в него, как паук голодный в муху: навалил на него чтение вслух моих стихов, это самое лучшее средство видеть их скрытые недостатки». Они читали «Одиссею». Хомяков предложил написать примечания к «Одиссее», но Жуковский счел их ненужными. Конечно, они – все трое – от души поговорили о России. «Я рад, что ты освежился русским духом в беседе с Хомяковым, замечательно умным и приятным человеком», – отвечал Вяземский Жуковскому. Вяземский, очевидно, как и Жуковский, с вниманием прислушивался к славянофильским идеям Хомякова и его соратников, но, сочувствуя их патриотизму вообще, многого не принимал. «В подробностях они большею частью правы, – писал он Жуковскому, – но подведите все это под одно заключение, к одному знаменателю, и все это рассеется, испарится. Во всяком случае тут одно очень нехорошее начало: враждебство ко всему чужеземному... Боже упаси раболепствовать нам перед Западом, жить одною жизнью его и действовать беспрекословно и необдуманно по одному его лозунгу. Но подавать ему руку, брать из руки его то, что нам подобает и пригодиться может, это дело благоразумия».
После отъезда из Эмса Гоголя и Хомякова прибыл сюда Федор Тютчев, – «нарочно для меня и для Одиссеи», – писал Хомякову Жуковский. Окончено было это новое чтение уже в доме Жуковского во Франкфурте. «Мне было с ним весьма по душе, – писал Жуковский. – Какой оживленный, острый, поэтический и привлекательный ум». Тютчев уехал в Россию. Для Жуковского же возвращение на родину – все еще только страстная мечта. «Мое долговременное отсутствие, – пишет он, – становится мне тошно: мне необходимо надобно освежить себя воздухом родины и взглянуть на стольких милых душе, с которыми я так давно розно».
Глава пятнадцатая (1848-1850)
В последние дни 1847 года Гоголь в Неаполе писал Жуковскому большое письмо, настоящую исповедь (письмо это он задумал поставить вместо «Завещания» при втором издании «Выбранных мест», дав ему название «Искусство есть примирение с жизнью»). «Хотелось бы поговорить о том, о чем с одним тобой могу говорить: о нашем милом искусстве, для которого живу и для которого учусь теперь как школьник, – писал Гоголь. – Так как теперь предстоит мне путешествие в Иерусалим, то хочу тебе исповедаться; кому же, как не тебе?.. Вот уже скоро двадцать лет с тех пор, как я, едва вступавший в свет юноша, пришел в первый раз к тебе, уже совершившему полдороги на этом поприще. Это было в Шепелевском дворце... Ты подал мне руку и так исполнился желанием помочь будущему сподвижнику! Как был благосклонно-любовен твой взор!.. Что нас свело, неравных годами? Искусство. Мы почувствовали родство, сильнейшее обыкновенного родства. От чего? От того, что чувствовали оба святыню искусства... И едва ли не со времени этого первого свиданья нашего оно уже стало главным и первым в моей жизни, а все прочее вторым».
Гоголь вспоминает, как начинал он писать, как совершенствовалась душа его, какие мучительные трудности вставали на его пути, – о «Ревизоре», «Мертвых душах». «Выпуск книги «Переписка с друзьями», – продолжает Гоголь, – с которою (от радости, что расписалось перо) я так поспешил, не подумавши, что прежде, чем принести какую-нибудь пользу, могу сбить ею с толку многих, пришелся в пользу мне самому... В самом деле, не мое дело поучать проповедью. Искусство и без того уже поученье. Мое дело говорить живыми образами, а не рассуждениями. Я должен выставить жизнь лицом, а не трактовать о жизни... Искусство есть водворение в душу стройности и порядка, а не смущения и расстройства... Искусство должно выставить нам все дурные наши народные качества и свойства таким образом, чтобы следы их каждый из нас отыскал прежде в себе самом и подумал бы о том, как прежде с самого себя сбросить все, омрачающее благородство природы нашей. Тогда только, и таким образом действуя, искусство исполнит свое назначение и внесет порядок и стройность в общество!» И в заключение: «Очень, очень бы хотелось, чтобы привел бог нам опять пожить вместе, в Москве, вблизи друг от друга. Перечитывать написанное и быть судьей друг другу теперь будет еще более нужно, чем прежде... Прощай, мой родной!»
Жуковский в конце января 1848 года написал обширный ответ Гоголю, но не отослал, так как не знал точно, где он сейчас – в Неаполе или едет в Иерусалим. В марте, отсылая письмо это к Елагиной в Москву, он пишет: «Приложенное письмо... я посылаю вам для сообщения его С. П. Шевыреву, издателю «Москвитянина»: если он найдет его годным для журнала своего, то пускай напечатает». Шевырев с радостью напечатал письмо (в No 4 за этот год). «Прекрасное, трогательное письмо твое застало меня за твоею книгою: я был занят прикреплением к бумаге некоторых мыслей, которые бродили в голове при чтении твоей статьи о том, что такое слово; твое письмо пришло кстати; оно дополняет печатную статью», – пишет Жуковский, обращаясь к Гоголю. Так начата была не осуществленная Жуковским книга писем к Гоголю. В начале письма Жуковский обозначает главную тему его: «Хочу длинным обходом придти с тобою к выражению Пушкина: слова поэта суть уже дела его».
Это письмо – выражение заветных мыслей Жуковского о поэзии. Среди них мысль о действии поэзии на душу: «Это действие не есть ни умственное, ни нравственное – оно просто власть, которой мы ни силою воли, ни силою рассудка отразить не можем. Поэзия, действуя на душу, не дает ей ничего определенного: это не есть ни приобретение какой-нибудь новой, логически обработанной идеи, ни возбуждение нравственного чувства, ни его утверждение положительным правилом; нет! это есть тайное, всеобъемлющее, глубокое действие откровенной красоты, которая всю душу обхватывает и в ней оставляет следы неизгладимые, благотворные или разрушительные, смотря по свойству художественного произведения, или, вернее, смотря по духу самого художника».
Это и мысль о недостижимости художественного совершенства: «Спросят: кто же из поэтов вполне осуществил идеал поэта? Ответ самый простой: никто. Еще ни один ангел не сходил с неба играть перед людьми на лире и печатать свои стихотворения у Дидота или Глазунова. Но здесь главное не в достижении, а в стремлении достигнуть». Жуковский разворачивает и свой поэтический тезис «Жизнь и поэзия – одно» (1824 года): «Поэт, свободный в выборе предмета, не свободен отделить от него самого себя: что скрыто внутри его души, то будет вложено тайно, безнамеренно и даже противунамеренио и в его создание; что он сам, то будет и его создание. Если он чист, то и мы не осквернимся, какие бы образы, нечистые или чудовищные, ни представлял он нам, как художник; но и самое святое подействует на нас как отрава, когда оно нам выльется из сосуда души отравленной». Среди чистых называет Жуковский Вальтера Скотта, Карамзина, Байрона. «Дух высокий, могучий, – пишет он о Байроне, – но дух отрицания, гордости и презрения... Байрон сколь ни тревожит ум, ни повергает в безнадежность сердце, ни волнует чувственность, – его гений все имеет высокость необычайную... Он прямодушен в своей всеобъемлющей ненависти – перед нами титан Прометей». Письмо заканчивалось стихами (немного измененными) из «Камоэнса».
Чуть ли не против воли Жуковского (как сам он и говорил выше) ворвалась в его письмо и буйная современность. «Теперь поэзия служит мелкому эгоизму; она покинула свой идеальный мир и, вмешавшись в толпу, потворствует ее страстям, льстит ее деспотическому буйству и, променяв таинственное святилище своего храма (к которому доступ бывал отворен только одним посвященным) на шумную торговую площадь, поет возмутительные песни толпящимся на ней партиям», – пишет он.
«Лава льется волнами, – пишет он в Петербург, – все опрокинуто, и чего еще ждать в Германии?.. И в каких благоприятных обстоятельствах родилось это новое чудовище революции!.. Более, нежели когда-нибудь утверждается в душе моей мысль, что Россия посреди этого потопа (и кто знает, как высоко подымутся волны его) есть ковчег спасения... Я не политик и не могу иметь доверенности к своим мыслям; но кажется мне, что нам в теперешних обстоятельствах надобно китайскою стеною отгородиться от всеобщей заразы... Ход Европы не наш ход; что мы у нее заняли, то наше; но мы должны обрабатывать его у себя, для себя, по-своему, не увлекаясь подражанием, не следуя движению Запада, но и не вмешиваясь в его преобразование. В этой отдельной самобытности вся сила России».
...Франкфурт клокотал. Толпы бедняков с оружием в руках запрудили улицы. Мясники с дубинами охраняли от них лестницу колокольни, где висел набатный колокол. Власти заседали в ратуше. Почти все жители были вооружены. Но порох пока не загорался... «Война может всякую минуту вспыхнуть, – пишет Жуковский Елагиной. – Если бы были крылья, сию же минуту мы перелетели бы в Россию... Если бы я был один, я давно бы уже был в России». Там, писал он, – «все покой, устройство, безопасность, все, что любишь, все, что сердцу свято; там защитное пристанище для всего, что мое драгоценнейшее в жизни».
Жуковский принял решение ехать в Россию. Но этого нельзя было сделать быстро: Елизавета Евграфовна снова заболела. Он повез ее в апреле в Ганау к Коппу. Копп предписал ей шестинедельное лечение в Эмсе. «Потом две недели отдыха, – пишет Жуковский Елагиной, – потом в дорогу – но какую дорогу выберем, этого теперь еще определить невозможно. Мы поедем прямо в Ригу, оттуда в Дерпт, где я намерен оставить жену на зиму, сам же поеду в Петербург и буду к вам». В Ганау Жуковский получил письмо от Гоголя из Иерусалима и отвечал ему: «Когда ты будешь читать в Полтаве это письмо, я буду уже, если Бог сохранит нас посреди этого землетрясения, на пути в Россию. Но прежде надобно жене полечиться в Эмсе... она несказанно страдает. Да и у меня третья неделя болят глаза, что принуждает меня не своеручно писать, а диктовать письмо мое к тебе». «Весьма может случиться, – прибавляет он, – что все мы сойдемся под отечественным небом».
В число всех входил и Вяземский. В июне 1848 года он пишет Жуковскому: «Ты бежишь от революций, а здесь мы встретим тебя холерою, которая губительною лавою разлилась по всей России и в Петербурге свирепствует с большим ожесточением. Более тысячи человек занемогает в день и наполовину умирает... Все бивакируют как могут и убежали из города как после пожаpa... У вас свирепствуют люди, а у нас свирепствует природа». Все лето и до глубокой осени гостила в Петербурге холера... Она открылась и в Лифляндии. Перед отъездом в Эмс Жуковский, как он писал Вяземскому в августе, «сдал свой дом во Франкфурте, все свои мебели продал или раздарил, все свое нужное уложил и отправил: оно теперь в Штеттине и скоро будет в Петербурге». В Эмсе узнал о холере... В августе поселился с женой в Кронтале близ Содена. «Уж увидимся ли когда-нибудь? – сетует он в письме к Елагиной. – Горе берет; горе от разлуки, горе от причины этой разлуки. Бедная моя жена! Бедная моя семейная жизнь!»
С начала сентября Жуковский живет в Баден-Бадене. Здесь тоже назревает восстание. Во Франкфурте-на-Майне 17 сентября произошла битва между защитниками франкфуртского парламента и прусскими войсками – все улицы были перегорожены баррикадами: к ночи их разнесли пушками... В Баден-Бадене нельзя было свободно выйти на улицу. Жуковский вынужден как-то устраивать семейный быт. Он нанял дом, из последних сил хлопотал об удобствах. И в то же время ему казалось, что вот-вот все обрушится, вспыхнет, – он был в самом мрачном расположении духа. Он пишет Плетневу, что «часто думает о смерти». Он почти не верит в свое возвращение на родину. «Вся моя жизнь разбита вдребезги, – пишет он в Петербург. – Если бы я не имел от природы счастливой легкости скоро переходить из темного в светлое, я впал бы в уныние... Тяжелый крест лежит на старых плечах моих; но всякий крест есть благо... Того, что называется земным счастием, у меня нет... Того, что называется обыкновенно счастием, семейная жизнь не дала мне; ибо вместе с теми радостями, которыми она так богата, она принесла с собою тяжкие, мною прежде не испытанные, тревоги, которых число едва ли не перевешивает число первых почти вдвое. Но эти-то тревоги и возвысили понятие о жизни; они дали ей совсем иную значительность».
В окрестностях Бадена было неспокойно; однако в самом городе к концу октября стало тихо. 27-го числа Жуковский взялся за Грасгофов манускрипт «Одиссеи», – перевод застрял некогда на конце XIII песни. То место, которое предстояло теперь перевести и которое перечитывал он много раз, вдруг потрясло его особенной какой-то близостью его измученному духу. Сонного Одиссея вместе с его сокровищами феакийцы вынесли с корабля на берег Итаки, покрытый туманом. Проснувшись, он не узнал своей родины, не понял, что это – конец долгого и трудного странствования... Афина рассеивает туман, —
...окрестность явилась;
В грудь Одиссея при виде таком пролилося веселье;
Бросился он целовать плододарную землю отчизны...
По воле Афины должен был Одиссей явиться в свой дом в виде нищего старика...
...богиня к нему прикоснулася тростью.
Разом на членах его, вдруг иссохшее, сморщилось тело,
Спали с его головы златотемные кудри, сухою
Кожею дряхлого старца дрожащие кости покрылись,
Оба столь прежде прекрасные глаза подернулись струпом,
Плечи оделись тряпицей, в лохмотья разорванным, старым
Рубищем, грязным, совсем почерневшим от смрадного дыма;
Сверх же одежды оленья широкая кожа повисла,
Голая, вовсе без шерсти; дав посох ему и котомку,
Всю в заплатах, висящую вместо ремня на веревке...
«О, если бы так вернуться на родину! О, если бы я был один!» – прошептал он, положив перо. О, волшебник Гомер! Никому и невдомек, что это он себя описал в образе нищего. Мимоходом бросил на полотно последней своей поэмы автопортрет... Нежданная встреча с Гомером пробудила Жуковского... 20 декабря 1848 года он закончил XVI песнь.
Между тем 8-й том его сочинений, где была помещена первая половина «Одиссеи», изданная Гаспером в Карлсруэ, достиг России и был там многими прочитан. «Это явление, несущее ободрение и освежение в наши души», – писал Гоголь Плетневу об «Одиссее» в ноябре 1848 года. Шевырев отметил в «Москвитянине», что в переводческой деятельности Жуковского любви к России «гораздо более, чем в возгласах театрального патриотизма, который хотя и на родине, но отдалился от нее и духом, и словом своим, и до того отказался от всего русского, что не в силах понимать прекрасного языка русской Одиссеи. Можно жить в Германии и носить в себе родину в убеждении своего ума и сердца и в языке, как носит ее Жуковский. Можно жить на родине – и все-таки быть иностранцем и по образу мыслей, и по языку своему».
Жуковский переводит «Одиссею» и особенно остро тоскует о далеком-родном. «Помогите мне, – пишет он Елагиной 1 января 1849 года, – загладить сколько возможно мой грех... Первое, я слишком забыл моего старика Максима... Если мой старик умер, то научите, что я могу сделать в пользу его близких... Вторая, более тяжкая вина моя, которую едва ли можно будет сколько-нибудь поправить, состоит в том, что я остался в долгу у честного Андрея Калмыка, который так усердно служил мне и обо мне заботился во время моего рыцарствования в 1812 году; с октября месяца до моего возвращения в конце кампании в Муратово он был со мною... Я обещался позаботиться о его дочери, дать ей приданое... Теперь как поправить?»
Он шлет письмо Анне Петровне Зонтаг в родное Мишенское, где она поселилась после Одессы: «Вы живете там, где каждая тропинка, каждый уголок имеет для вас знакомое лицо и родной голос». Советует ей писать мемуары: «Какое было бы это занятие, полное, животворное, воскресительное для прошедшего, живительное для настоящего... для вас, моя милая, для вас, живущих над нашею колыбелью, недалеко от гробниц наших прежних, в виду нашей церкви... недалеко от тех кучек, которые означают фундамент разломанного нашего дома». Советы тут же переходят в рассказ о работе над «Одиссеей»: «Я запрег тройку Пегасов в русскую телегу, посадил на козлы Гомера и скачу во всю Аполлоновскую с Одиссеею. Уж теперь подъехал к XX станции... Работа льется как по маслу; типография у меня сбоку; корректур могу делать сколько хочу, а в корректуре поправляется гораздо лучше, нежели в рукописи... Никогда я еще так свежо и живо не писал. Вторая часть, думаю, будет лучше первой; но для перевода она труднее... Дать России Гомера живьем великая радость. Меня не забудут... Жалею, что нет для меня суда Пушкина: в нем жило поэтическое откровение».
Жуковскому стукнуло, как он говорит, шестьдесят шесть лет. Отмечая день рождения (29 января 1849 года), он невольно задумался о «двойнике» этого дня – дне смерти... А в Петербурге в этот день, 29 января, Вяземский собрал у себя почитателей и друзей Жуковского. Как сообщал Плетнев Гроту – «Вяземский отпраздновал у себя юбилей в честь 50-летней музы Жуковского», соединив этот юбилей с днем рождения. Было около восьмидесяти гостей. Блудов читал стихи Вяземского, посвященные Жуковскому. Потом Михаил Виельгорский, аккомпанируя себе на фортепьяно, пропел «шуточные стихи» – Вяземского же, где выражались совсем не шуточные чувства.
Владимир Одоевский припомнил время своего учения в Московском университетском благородном пансионе (он учился там лет двадцать спустя после Жуковского): «Мы теснились вокруг дерновой скамейки, где каждый по очереди прочитывал Людмилу, Эолову арфу, Певца во стане русских воинов, Теона и Эсхина; в трепете, едва переводя дыхание, мы ловили каждое слово, заставляли повторять целые строфы, целые страницы, и новые ощущения нового мира возникали в юных душах... Стихи Жуковского были для нас не только стихами, но было что-то другое под звучною речью, они уверяли нас в человеческом достоинстве, чем-то невыразимым обдавали душу – и бодрее душа боролась с преткновениями науки, а впоследствии – с скорбями жизни. До сих пор стихами Жуковского обозначены все происшествия моей внутренней жизни, – до сих пор запах тополей напоминает мне Теона и Эсхина».