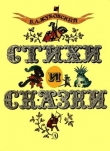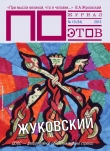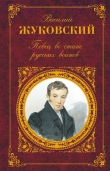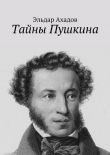Текст книги "Жуковский"
Автор книги: Виктор Афанасьев
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 29 страниц)
В Веймаре Жуковский навещает осиротевший дом Гёте («великий добрый человек», как называл Жуковский Гёте, скончался в прошлом, 1832 году). Побывал в доме Шиллера. Беседовал с канцлером Мюллером о «Фаусте». Посмотрел в театре «Жанну д'Арк» Шиллера. 28 августа он уже в Потсдаме, где беседует с принцем Вильгельмом, а на следующий день в Берлине, во дворце, встречает Сперанского. 29-го вечером – в гостях у Радовица («Жаркий разговор о Риме и абсолютизме», – записал Жуковский). В середине сентября он приехал в Дерпт и, остановившись в гостинице «Петербург», побывал прежде всего на могиле Маши, передал ей свои воспоминания о Ливорно – о «тихом гробе» ее сестры.
Пушкин встретил Жуковского у Карамзиных и записал 24 ноября в дневнике: «Он здоров и помолодел». 17 декабря в дневнике Пушкина запись: «Вечер у Жуковского. Немецкий amateur1515
Любитель (франц.).
[Закрыть], ученик Тиков, читал «Фауста» – неудачно, по моему мнению». В январе – феврале Жуковский в рукописи читал, как он шутливо называл ее – «Историю господина Пугачева» Пушкина. В одной из записок Жуковский зовет Пушкина к себе: «Порастреплем «Пугачева», – говорит он, имея в виду обсуждение рукописи. Пушкин теперь приглашаем во дворец – император сделал его камер-юнкером, он должен был теперь являться на придворные балы и всякие церемонии, когда его звали. Это ему надоело, он решил посвятить себя целиком литературе и подал в отставку. Ему было сообщено, что в случае отставки он лишится права работать в государственных архивах. Пришлось Жуковскому хлопотать, заглаживать его «неосмотрительный» поступок.
«Прошедший месяц был бурен, – отметил Пушкин в дневнике 22 июля 1834 года. – Чуть было не поссорился я со двором, – но все перемололось. Однако это мне не пройдет». Жуковский писал ему 2 июля: «Не понимаю, что могло тебя заставить сделать глупость»; и в другое раз о том же: «Глупость, досадная, эгоистическая, неизглаголанная глупость!» Пушкин отвечал ему: «Подал в отставку я в минуты хандры и досады на всех и на все... положение мое не весело; перемена жизни почти необходима». Пушкин пишет оправдательные письма к Бенкендорфу. Жуковский находит их слишком «сухими». «Да зачем же быть им сопливыми? – отвечает ему Пушкин. – Во глубине сердца своего я чувствую себя правым перед государем... Что мне делать? просить прощения? хорошо; да в чем?» Пушкин хотел покинуть столицу. Жуковский тогда не мог видеть его чернового стихотворения, а оно все бы раскрыло:
Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит —
Летят за днями дни, и каждый час уносит
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем
Предполагаем жить... И глядь – как раз – умрем.
На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля —
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальную трудов и чистых нег...
Если бы Жуковский прочитал это! «На свете счастья нет...» Как часто говорил Жуковский: «На свете много хорошего и без счастья». А «обитель дальная» – для Жуковского это вечные в его сердце Мишенское и Долбино... Но мечта Жуковского о такой «обители дальной трудов и чистых нег» разбилась с замужеством Маши. За стихами Пушкина следовал прозаический набросок – мысли к продолжению стихотворения, там говорится, в частности: «Блажен, кто находит подругу – тогда удались он домой... труды поэтические, семья, любовь...» Жуковский был одинок. Петергоф или Царское Село нисколько не походили на деревню...
Июнь – июль 1834 года Жуковский провел в Петергофе. В дневнике его много горьких слов по поводу ученика, которому он отдал столько лет жизни своей, столько забот: «Во время лекций... великий князь слушал с каким-то холодным недовольным невниманием... Мое влияние на него ничтожно... Я для него только представитель скуки... Посреди каких идей обыкновенно кружится бедная голова его и дремлет его сердце?» (4 июня); «Великий князь не дослушал чтения; это было неприлично... Не надобно привыкать употреблять других только для себя; надобно к ним иметь внимание. А ко мне и подавно. Избави бог от привычки видеть одного себя центром всего и считать других только принадлежностью, искать собственного удовольствия и собственной выгоды, не заботясь о том, что это стоит для других: в этом есть какое-то сибаритство, самовольство, эгоизм, весьма унизительный для души и весьма для нее вредный» (5 июня); «Он учится весьма небрежно... Ум его спит, и не знаю, что может пробудить его» (9 июня).
Конец лета Жуковский провел в Гатчине и Царском Селе. 30 августа он присутствовал при открытии Александровской колонны с венчающим ее Ангелом Мира, это гигантский – цельный – гранитный столп, самый высокий в мире. Жуковский не спал в ночь перед праздником, но не от ожидания торжеств, а просто от духоты. «Воздух давил как свинец; тучи шумели; Нева подымалась и был в волнах ее голос, – писал он. – Наконец запылала гроза; молния за молниями, зажигаясь в тысяче мест, как будто стояли над городом... иные широким пожаром зажигали целую массу облаков, и в этом беспрестанном, быстром переходе из мрака в блеск, чудесным образом являлись и пропадали здания, кровли и башни, и вырезывались на ярком свете шатающиеся мачты кораблей, и сверкала громада колонны, которая вдруг выходила вся из темноты, бросала минутую тень на озаренную кругом ее площадь, и вместе с нею пропадала, чтоб снова блеснуть и исчезнуть!» Собственно, эта гроза и открыла новый монумент Жуковскому. Празднество, начавшееся утром, при ярком солнце, уже не сверкало в небесах, а широко расползлось у подножия колонны, едва достигая верхней черты ее базиса... На деревянных помостах у Зимнего дворца толпилась знать; народ густо окружал площадь. По условному сигналу – три пушечных выстрела – начался парад стотысячной армии, проходившей мимо колонны... Вечером по всему городу пылала иллюминация...
В январе 1835 года Александр Тургенев снова уехал за границу – в Италию, Францию, Англию. Перед отъездом он много общался с Пушкиным, – эти беседы подогрели и без того живые исторические интересы Тургенева, – он с еще большим рвением собирает в архивах Европы материалы по истории России. Письма его на родину (к Вяземскому, Жуковскому) становятся все разнообразнее, содержательнее: вся европейская культурная и политическая жизнь отражается в них. Связи его умножаются, – нет в Европе известного писателя, какого-нибудь прославленного политика или ученого, с которым бы он не встречался, не беседовал, а часто и не подружился бы. Письма Тургенева, как правило, читаются целым кругом его друзей, передаются из рук в руки, – от Вяземского к Жуковскому, потом к Пушкину, Карамзиным, Козлову и т. д. В иных письмах – десятки страниц. Шлет Александр Иванович в Петербург и Москву иностранные книги, журналы, брошюры, рисунки, гравюры, альбомы, всякие памятные предметы, вроде черепаховых лир Жуковскому и Пушкину из Италии и т. п. Он неустанно едет из города в город, беспрестанно возвращается на прежние места, останавливается в гостинице, едет в университет, музеи, в парламент, в сиротские дома, тюрьмы, в библиотеки, в театр...
Письма Тургенева, адресованные «Вяземскому или Жуковскому», «Жуковскому и Вяземскому», читаются вслух на субботах Жуковского. Вяземский 29 декабря 1835 года сообщает Тургеневу, что он читал его письмо на этом «олимпическом чердаке»: «Тут Крылов, Пушкин, Одоевский, Плетнев, барон Розен etc., etc. Все в один голос закричали: «Жаль, что нет журнала, куда бы выливать весь этот кипяток, сочный бульон из животрепещущей утробы настоящего!» И в следующем письме от 19 января 1836 года: «Пушкину дано разрешение выдавать журнал, род «Quarterly Review»1616
Трехмесячное обозрение (англ.).
[Закрыть]. Прошу принять это не только к сведению, но и к исполнению и писать свои субботние письма почище и получше... мы намерены расходовать тебя на здоровье журналу и читателям. Пушкин надеется на тебя». Пушкин готовит первый том «Современника». Вместе с Вяземским редактирует письма Тургенева, дает им заглавие: «Париж (хроника русского)»...
На субботах Жуковского, уже как завсегдатай, Гоголь. «Вчера Гоголь читал нам новую комедию «Ревизор», – сообщает Вяземский Тургеневу в январе. – У нас он тем замечательнее, что, за исключением Фонвизина, никто из наших авторов не имел истинной веселости... Русская веселость... застывает под русским пером... Один Жуковский может хохотать на бумаге и обдавать смехом других, да и то в одних стенах Арзамаса». Он же Тургеневу в апреле: «Субботы Жуковского процветают... Гоголь, которого Жуковский называет Гоголёк... оживляет их своими рассказами. В последнюю субботу читал он нам повесть об носе, который пропал с лица неожиданно у какого-то коллежского асессора и очутился после в Казанском соборе в мундире министерства просвещения. Уморительно смешно!» В январе 1836 года бывал у Жуковского Виктор Тепляков, «Фракийские элегии» которого понравились Жуковскому и Пушкину (Жуковский читал их великому князю, а Пушкин отрецензировал их в «Современнике» с обширными цитатами).
И тогда же, в январе, у Жуковского появился впервые скромный воронежский прасол – Алексей Кольцов, поэт, «дитя природы» по выражению Вяземского. В начале года у Жуковского обсуждал замысел своей оперы «Иван Сусанин» Михаил Глинка, – в работе над либретто приняли участие Жуковский (в меньшей степени) и барон Розен. На эти «некоторые совещания» (по выражению Жуковского) приглашались также Одоевский и Пушкин. Вместе с Одоевским Жуковский подготовил русский текст «Гимна к Радости» для первого исполнения Девятой симфонии Бетховена, состоявшегося в Петербурге в доме Виельгорских. В марте 1836 года Глинка написал романс на стихи Жуковского «Ночной смотр» – он сам исполнил его перед своими гостями – Пушкиным и Жуковским. В марте же все посетители «чердака» Жуковского присутствовали на репетиции оперы «Иван Сусанин», происходившей в доме Виельгорских.
В апреле вышел первый номер «Современника». Среди авторов прежде всего сам Пушкин, затем Жуковский, Гоголь, Вяземский, Ал. Тургенев, князь Козловский, барон Розен и другие. Белинский в статье о «Современнике», напечатанной в 1836 году в московской «Молве», отметил, что помещенный в журнале Пушкина «Ночной смотр» Жуковского – «есть одно из тех стихотворений, которых у нас теперь в целый год является не больше одного или двух... Это истинное перло поэзии как по глубокой поэтической мысли, так и по простоте, благородству и высокости выражения».
В июне Вяземский получил через И. С. Гагарина большой цикл стихотворений Федора Тютчева, служившего тогда при русской миссии в Мюнхене. «Через несколько дней захожу к нему невзначай около полуночи, – пишет Гагарин Тютчеву, – и застаю его вдвоем с Жуковским за чтением ваших стихов и вполне увлеченных поэтическим чувством, которым они проникнуты. Я был в восхищении, в восторге, и каждое слово, каждое замечание – Жуковского в особенности – все более убеждало меня в том, что он верно понял все оттенки и всю прелесть этой простой и глубокой мысли. Тут же решено было, что пять или шесть стихотворений будут напечатаны в одной из книжек пушкинского журнала... а затем будет приложена работа к выпуску их в свет отдельным небольшим томом. Через день ознакомился с ними и Пушкин. «Пушкин отобрал для журнала не «пять или шесть» стихотворений Тютчева, как наметили Вяземский с Жуковским, а двадцать четыре (они были помещены в третьем и четвертом номерах «Современника» за 1836 год). Пушкин, как вспоминает современник, взял у Вяземского стихи Тютчева и «носился с ними целую неделю...».
На одной из суббот в июле 1836 года Жуковский прочитал письмо Гоголя из Гамбурга, – Гоголь при содействии и материальной поддержке Жуковского выехал за границу – на воды в Германию и Швейцарию, работать над «Мертвыми душами» и лечиться. «Отсутствие мое, – писал Гоголь Жуковскому, – вероятно, продолжится на несколько лет... Разлуки между нами не может и не должно быть, и где бы я ни был, в каком бы отдаленном уголке ни трудился, я всегда буду возле вас. Каждую субботу я буду в вашем кабинете,– вместе со всеми близкими вам... Какое участие, какое заботливо-родственное участие видел я в глазах ваших!..» И в конце лета из Парижа: «Я принялся за «Мертвые души»... Какой огромный, какой оригинальный сюжет!.. Вся Русь явится в нем! Это будет первая моя порядочная вещь... Хотелось бы мне страшно вычерпать этот сюжет со всех сторон».
11 июня Жуковский присутствовал в Академии художеств на торжестве, посвященном возвращению художника Карла Брюллова из-за границы; обеденный стол на семьдесят человек был расположен в зале, где помещалась его картина «Последний день Помпеи». 20-го числа того же месяца был прощальный вечер у Вяземского – провожали Жуковского, уезжавшего до конца июля в Дерпт. Пушкин, Крылов, Брюллов, Вяземский, французский писатель Леве-Веймар и «еще кое-кто» (как пишет Вяземский жене). Пили за здоровье Жуковского. Он ехал не только отдыхать, но и по делам. Желая обеспечить детей Воейковой, а также дочь Маши, он покупал возле Дерпта два имения – Мейерсгоф и Уннипихт. На мызе Мейерсгоф был и большой господский дом, каменный, но сильно запущенный и почти разрушившийся. Часть июня и июль 1836 года он прожил на мызе Эллистфер вместе с Екатериной Афанасьевной, Мойером и Катенькой Мойер.
Здесь он рисовал не только с натуры, но и по памяти. «Я нарисовал на память всю нашу сторону, как она была во время оно», – писал он Анне Петровне Зонтаг в августе. Он послал ей все эти рисунки – тут были виды Белёва, Мишенского (с еще не разрушенной усадьбой), Муратова. В Эллистфере Жуковский закончил «Ундину». 26 июля он написал маленькое прозаическое предисловие к ней. В Дерпте заказал художнику Майделю рисунки для будущего издания (рукопись уже ожидал Смирдин). К осени Дерпт совершенно опустел для Жуковского – Мойер вышел в отставку и переехал на житье вместе с дочерью в Орловскую губернию, в село Бунино (неподалеку от Муратова). Сюда же перебралась и Екатерина Афанасьевна Протасова. Безнадежные мечты о «родной стороне» возникают в душе Жуковского; не гаснут, но уходят в грустную глубину, где живет все утраченное... В Петербурге получил письмо от Гоголя из Веве. «Я... завладел местами ваших прогулок, – пишет он, – мерил расстояние по назначенным вами верстам, нацарапал даже свое имя русскими буквами в Шильонском подземелье... Все начатое переделал я вновь... Это будет первая моя порядочная вещь, вещь, которая вынесет мое имя». К зиме Гоголь снова уехал в Париж.
1 ноября Жуковский был у Вяземского – Пушкин читал свою новую вещь: роман «Капитанская дочка». «Много интереса, движения и простоты», – пишет о нем Вяземский. Жуковского также восхищала «простота» прозы Пушкина, ее художественная «наивность», он находил в этом приближение к эпическому стилю, к высшей красоте речи (то же он находил и в «Истории Пугачева», говоря о ней в доме Строгановых, Жуковский «откровенно восхищался этим простодушием»).
В конце ноября из Москвы приехал Александр Тургенев. 27-го он обедал у Вяземского вместе с Жуковским и Пушкиным; вечером того же дня был на премьере «Ивана Сусанина». «Я нашел Жуковского в хорошем состоянии; он всегда такой же для всех и для всего, и мы говорили обо мне, – писал Тургенев брату. – Пушкин озабочен семейными делами». Тургенев часто встречается с Пушкиным – у него дома, у Пашкова, у Карамзиных, у Ростопчиной, во французском театре, у Жуковского. Пушкин читал ему «Памятник», непосланное письмо к Чаадаеву, примечания к изданию «Слова о полку Игореве», которое он готовил. Они все больше тянулись друг к другу. Тургенев с болью видит, что Пушкину очень тяжело стало в обществе, особенно с тех пор, как некий Дантес начал ухаживать за его женой, разыгрывать «интригу» на французский манер. «О Пушкине, – записывает он. – Все нападают на него за жену, я заступался».
Пушкин принимает всерьез то, над чем свет только улыбается. Свету это кажется забавным. Даже Софья Николаевна Карамзина, дочь историографа, женщина, далекая от всякой пошлости, умная, пишет, что Пушкин «своей тоской и на меня тоску наводит». «Жалко было смотреть на лицо Пушкина, – описывает она один из балов, – который стоял в дверях напротив молчаливый, бледный, угрожающий. Боже мой, до чего все это глупо!» И в другом письме: «Это было ужасно смешно...»
Жуковский был очень встревожен сложившимся положением – назревала дуэль между Пушкиным и Дантесом. Он взялся быть посредником между Пушкиным и приемным отцом Дантеса – бароном Геккерном, нидерландским посланником в Петербурге. Геккерн хотел, чтобы Дантес и Пушкин встретились для переговоров. 9 ноября днем Жуковский пришел к Пушкину и сообщил ему об этом предложении. Пушкин твердо отказался от встречи с Дантесом. Тем не менее Жуковский вечером прислал ему записку: «Я не могу еще решиться почитать наше дело конченным. Еще я не дал никакого ответа старому Геккерну... Ради Бога, одумайся. Дай мне счастие избавить тебя от безумного злодейства, а жену твою от совершенного посрамления». Жуковский понимал, конечно, что Пушкин не может дать Геккерну другого ответа, но мысль о дуэли приводит его в ужас, – может быть, не только литературная и придворная жизнь поэта под угрозой, но и его существование вообще! Жуковский, однако, знал, что Пушкин – великолепный стрелок, он уверен был, что жертвой в случае дуэли падет Дантес. Поэтому и писал: «Дай мне счастие избавить тебя от безумного злодейства», т. е. от убийства человека.
Жуковский добивается от Пушкина – и от Геккерна с Дантесом – прекращения дела и молчания обо всем, что случилось (вызов Пушкиным Дантеса, хлопоты Геккерна и т. д.). Но Пушкин не сохраняет тайны. Не хочет следовать советам Жуковского. В конце концов Жуковский пишет: «Хотя ты и рассердил и даже обидел меня, но меня все к тебе тянет – не брюхом, которое имею уже весьма порядочное, но сердцем, которое живо разделяет то, что делается в твоем... Обещаюсь не говорить более о том, о чем говорил до сих пор... Но ведь тебе, может быть, самому будет нужно что-нибудь сказать мне. Итак, приду... И выскажи мне все, что тебе надобно: от этого будет добро нам обоим». Жуковский, увидев, что все его усилия «погасить» воинственное («угрожающее») состояние Пушкина не удаются, перестал говорить о «злодействе» и прочем, хлопотать, и высказал то настоящее, что было у него на сердце, – он дал понять Пушкину, что оно «разделяет то, что делается» в его сердце (именно «разделяет», то есть сочувствует).
26 января 1837 года Пушкин написал «ругательное» (по определению Александра Тургенева) письмо к Геккерну, где он говорил: «Я заставил вашего сына играть роль столь жалкую, что моя жена, удивленная такой трусостью и пошлостью, не могла удержаться от смеха... Я не могу позволить, чтобы ваш сын, после своего мерзкого поведения, смел разговаривать с моей женой и – еще того менее – чтобы он отпускал ей казарменные каламбуры и разыгрывал преданность и несчастную любовь, тогда как он просто трус и подлец».
27 января вечером Жуковский приехал к Вяземским на Моховую. Их не оказалось дома. Он зашел в соседнюю квартиру, к Валуеву, зятю Вяземского. «Получили ли вы записку княгини? – спросил Валуев. – К вам давно послали. Поезжайте к Пушкину: он умирает; он смертельно ранен».
Жуковский, потрясенный этим известием, побежал с лестницы вниз, сел в коляску и велел гнать на Мойку. Но потом решил заехать в Михайловский дворец – он вызвал Виельгорского, находившегося там, и сообщил ему о случившемся. В квартире Пушкина увидел он Вяземского, Валуева, Мещерского и двух докторов – Спасского и Арендта. «Каков он?» – быстро спросил Жуковский. «Очень плох, он умрет непременно», – прямо ответил Арендт. Жуковскому рассказали о том, как произошло случившееся. Как Пушкин утром, встретив Данзаса на улице, отвез его к д'Аршиаку. Пока секунданты совещались, Пушкин спокойно сидел дома и занимался делами «Современника». За час до отбытия на дуэль написал он письмо к сочинительнице Ишимовой. «Это письмо есть памятник удивительной силы духа, – пишет Жуковский, – нельзя читать его без умиления, какой-то благоговейной грусти: ясный, простосердечный слог его глубоко трогает, когда вспоминаешь при чтении, что писавший это письмо с такою беззаботностию через час уже лежал умирающий от раны...»
Когда Пушкина привезли, его осмотрел доктор Шольц. «Не желаете ли видеть кого из ваших ближних приятелей?» – спросил он. Пушкин, глядя на свои книжные полки, сказал задумчиво: «Прощайте, друзья!» Потом выразил желание видеть Жуковского. Явился Арендт... Вскоре приехал и Жуковский. Почти вслед за ним появился Александр Тургенев. Состояние жены Пушкина, как пишет Жуковский, – «было невыразимо; как привидение, иногда прокрадывалась она в ту горницу, где лежал ее умирающий муж; он не мог ее видеть... но он боялся, чтобы она к нему подходила, ибо не хотел, чтобы она могла приметить его страдания, кои с удивительным мужеством пересиливал... «Что делает жена? – спросил он однажды у Спасского. – Она, бедная, безвинно терпит! в свете ее заедят». Вообще с начала до конца своих страданий (кроме двух или трех часов первой ночи, в которые они превзошли всякую меру человеческого терпения) он был удивительно тверд. «Я был в тридцати сражениях, – говорил доктор Арендт, – я видел много умирающих, но мало видел подобного...»
На другой день Пушкин прощался с женой, детьми, друзьями. «Я подошел, – пишет Жуковский, – взял его похолодевшую, протянутую ко мне руку, поцеловал ее: сказать ему ничего я не мог, он махнул рукою, я отошел». Жуковский поехал во дворец...
Он отстоял Данзаса и оградил (как он думал) от жандармов бумаги Пушкина – это было огромной важности дело, от которого зависела судьба еще не изданных трудов Пушкина и, может быть, вообще всех его сочинений. В эту ночь с Пушкиным сидел Даль. Жуковский, Вяземский и Виельгорский находились в соседней комнате. «С утра 28-го числа, – пишет Жуковский, – в которое разнеслась по городу весть, что Пушкин умирает, передняя была полна приходящих. Одни осведомлялись о нем через посланных спрашивать об нем, другие – и люди всех состояний, знакомые и незнакомые – приходили сами. Трогательное чувство национальной, общей скорби выражалось в этом движении, произвольном, ничем не приготовленном. Число приходящих сделалось наконец так велико, что дверь прихожей (которая была подле кабинета, где лежал умирающий) беспрестанно отворялась и затворялась; это беспокоило страждущего; мы придумали запереть дверь из прихожей в сени, задвинули ее залавком и отворили другую, узенькую, прямо с лестницы в буфет, а гостиную от столовой отгородить ширмами... С этой минуты буфет был набит народом; в столовую входили только знакомые, на лицах выражалось простодушное участие, очень многие плакали».
Пушкин умирал. «Я стоял вместе с графом Виельгорским у постели его, в головах; сбоку стоял Тургенев, – описывает Жуковский последние часы Пушкина 29 января. – Даль шепнул мне: «Отходит». Но мысли его были светлы... Даль, по просьбе его, взял его под мышки и приподнял повыше; и вдруг, как будто проснувшись, он быстро раскрыл глаза, лицо его прояснилось, и он сказал: «Кончена жизнь». Даль, не расслышав, отвечал: «Да, кончено; мы тебя положили». – «Жизнь кончена!» – повторил он внятно и положительно. «Тяжело дышать, давит!» – были последние слова его. В эту минуту я не сводил с него глаз и заметил, что движение груди, доселе тихое, сделалось прерывистым. Оно скоро прекратилось. Я смотрел внимательно, ждал последнего вздоха; но я его не приметил. Тишина, его объявшая, казалась мне успокоением. Все над ним молчали. Минуты через две я спросил: «Что он?» – «Кончилось», – отвечал мне Даль. Так тихо, так таинственно удалилась душа его. Мы долго стояли над ним молча, не шевелясь, не смея нарушить великого таинства смерти, которое совершилось перед нами во всей умилительной святыне своей. Когда все ушли, я сел перед ним и долго один смотрел ему в лицо. Никогда на этом лице я не видал ничего подобного тому, что было на нем в эту первую минуту смерти. Голова его несколько наклонилась: руки, в которых было за несколько минут какое-то судорожное движение, были спокойно протянуты, как будто упавшие для отдыха после тяжелого труда. Но что выражалось на его лице, я сказать словами не умею. Оно было для меня так ново и в то же время так знакомо! Это был не сон и не покой! Это не было выражение ума, столь прежде свойственное этому лицу; это не было также и выражение поэтическое! Нет! какая-то глубокая, удивительная мысль на нем развивалась, что-то похожее на видение, на какое-то полное, глубокое, удовольствованное знание. Всматриваясь в него, мне все хотелось у него спросить: «Что видишь, друг?..» Таков был конец нашего Пушкина».
Когда тело Пушкина вынесли в соседнюю комнату, Жуковский запечатал двери кабинета своей печатью. Он поехал к Виельгорскому; еще до дуэли к Виельгорскому приглашен был и Пушкин, так как должен был отмечаться день рождения Жуковского. «29 января. День рождения Жуковского и смерти Пушкина», – записал в дневнике Александр Тургенев.
«На другой день – пишет Жуковский, – мы, друзья, положили Пушкина своими руками в гроб; на следующий день, к вечеру, перенесли его в Конюшенную церковь. И в эти оба дни та горница, где он лежал в гробе, была беспрестанно полна народом. Конечно, более десяти тысяч человек приходило взглянуть на него: многие плакали; иные долго останавливались и как будто хотели всмотреться в лицо его». 1 февраля было совершено отпевание. 2 февраля Тургенев пишет: «Жуковский приехал ко мне с известием, что государь назначает меня провожать тело Пушкина до последнего жилища его... Вместо Данзаса назначен я, в качестве старого друга, отдать ему последний долг. Я решился принять... Я сказал, что поеду на свой счет и с особой подорожной». (В этот же день в руки Тургеневу попал список стихотворения Лермонтова «Смерть поэта». «Стихи Лермонтова прекрасные», – отметил он в дневнике. Он читал это стихотворение Жуковскому и Козлову, – пока еще неполное, без последней строфы.)
3 февраля в десять часов вечера была отпета последняя панихида. «Ящик с гробом поставили на сани, – пишет Жуковский, – сани тронулись; при свете месяца несколько времени я следовал за ними; скоро они поворотили за угол дома; и все, что было земной Пушкин, навсегда пропало из глаз моих». Был приказ Николая I псковскому губернатору (специальный чиновник обогнал Тургенева) распорядиться, чтоб похороны прошли как можно тише, при совершении лишь необходимых церковных обрядов. «6 февраля, в 6 часов утра, отправились мы – я и жандарм!!, все еще рыли могилу; мы отслужили панихиду в церкви и вынесли на плечах крестьян и дядьки гроб в могилу... Я бросил горсть земли в могилу, выронил несколько слез – вспомнил о Сереже, – и возвратился в Тригорское».
7 февраля Тургенев послал письмо с адресом: «В. Жуковскому или князю Вяземскому»: «Мы предали земле земное вчера на рассвете... Везу вам сырой земли, сухих ветвей – и только... Нет, и несколько неизвестных вам стихов П.». В тот же день, 7 февраля, Жуковский перевез рукописи для разборки к себе на квартиру – там они были «приняты на сохранение» представителем III отделения Дубельтом, помещены в отдельной комнате и запечатаны двумя печатями – Жуковского и Дубельта.
Данное Николаем Жуковскому право сжечь все то из бумаг покойного, что могло бы «повредить» его памяти, было отменено. Все эти меры Жуковский считал оскорбительными для себя, но надо было терпеть, чтобы сделать все возможное. При нем Дубельт читал письма из архива Пушкина. Жуковский по этому поводу писал в неотправленном письме к Николаю: «Хотя я сам и не читал ни одного из писем, а предоставил это исключительно моему товарищу генералу Дубельту, но все было мне прискорбно, как сказать, присутствием своим принимать участие в нарушении семейственной тайны; передо мной раскрывались письма моих знакомых; я мог бояться, что писанное в разное время и в разные лета, в разных противоположностях духа людьми, еще существующими, в своей совокупности, произвело впечатление, совершенно ложное на счет их, – к счастью, этого не случилось».
К 25 февраля бумаги были разобраны, а 8 марта Александр Тургенев записал в дневнике: «Жуковский читал нам свое письмо к Бенкендорфу о Пушкине и о поведении с ним государя и Бенкендорфа. Критическое расследование действий жандармства; и он закатал Бенкендорфу, что Пушкин погиб оттого, что его не пустили ни в чужие край, ни в деревню, где бы ни он, ни жена его не встретили Дантеса». Вот что писал Жуковский шефу жандармов и начальнику III отделения собственной его императорского величества канцелярии: «Генерал Дубельт донес, и я, с своей стороны, почитаю обязанностию также донести вашему сиятельству, что мы кончили дело, на нас возложенное, и что бумаги Пушкина все разобраны. Письма партикулярные прочтены одним генералом Дубельтом и отданы мне для рассылки по принадлежности; рукописные сочинения, оставшиеся по смерти Пушкина, по возможности приведены в порядок; некоторые рукописи были сшиты в тетради, занумерены и скреплены печатью; переплетенные книги с черновыми сочинениями и отдельные листки, из коих нельзя было сделать тетрадей, просто занумерены. Казенных бумаг не нашлось никаких... Приступая к напечатанию полного собрания сочинений Пушкина и взяв на себя обязанность издать на нынешний год в пользу его семейства четыре книги «Современника», я должен иметь пред глазами манускрипты Пушкина и прошу позволения их у себя оставить с обязательством не выпускать их из своих рук... На меня уже был сделан самый нелепый донос. Было сказано, что три пакета были вынесены мною из горницы Пушкина. При малейшем рассмотрении обстоятельств такое обвинение должно бы было оказаться невероятным... Это, во-первых, было бы не нужно; ибо все вверено было мне, и я имел позволение сжечь все то, что нашел бы предосудительным: на что же похищать то, что уже мне отдано... Буду говорить о самом Пушкине. Смерть его все обнаружила... Годы проходили; Пушкин созревал; ум его остепенялся. А прежнее против него предубеждение... было то же и то же... в 36-летнем Пушкине видели все 22-летнего... В ваших письмах нахожу выговоры за то, что Пушкин поехал в Москву, что Пушкин поехал в Арзрум. Но какое же это преступление? Пушкин хотел поехать в деревню на житье, чтобы заняться на покое литературой, ему было в том отказано под тем видом, что он служил, а действительно потому, что не верили. Но в чем же была его служба? В том единственно, что он был причислен к иностранной коллегии. Какое могло быть ему дело до иностранной коллегии? Его служба была его перо... Для такой службы нужно свободное уединение. Какое спокойствие мог он иметь с своею пылкою, огорченною душой, с своими стесненными домашними обстоятельствами, посреди того света, где все тревожило его суетность, где было столько раздражительного для его самолюбия, где, наконец, тысячи презрительных сплетней, из сети которых не имел он возможности вырваться, погубили его. Государь император назвал себя его цензором. Милость великая... Но, скажу откровенно, эта милость поставила Пушкина в самое затруднительное положение... На многое, замеченное государем, не имел он возможности делать объяснений; до того ли государю, чтобы их выслушивать?.. А если какие-нибудь мелкие стихи его являлись напечатанными в альманахе (разумеется, с ведома цензуры), это ставилось ему в вину, в этом виделись непослушание и буйство, ваше сиятельство делали ему словесные или письменные выговоры... Наконец, в одном из писем вашего сиятельства нахожу выговор за то, что Пушкин в некоторых обществах читал свою трагедию прежде, нежели она была одобрена. Да что же это за преступление? Кто из писателей не сообщает своим друзьям своих произведений для того, чтобы слышать их критику? Неужели же он должен по тех пор, пока его произведение еще не позволено официально, сам считать его не позволенным?.. Такого рода запрещения вредны потому именно, что они бесполезны, раздражительны и никогда исполнены быть не могут. Каково же было положение Пушкина под гнетом подобных запрещений? Не должен ли был он необходимо, с тою пылкостью, которая дана была ему от природы и без которой он не мог бы быть поэтом, наконец прийти в отчаяние, видя, что ни годы, ни самый изменившийся дух его произведений ничего не изменили в том предубеждении, которое раз навсегда на него упало и, так сказать, уничтожило все его будущее?.. Он просто русский национальный поэт, выразивший в лучших стихах наилучшим образом все, что дорого русскому сердцу... Ему нельзя было тронуться с места свободно, он лишен был наслаждения видеть Европу, ему нельзя было произвольно ездить и по России... Многие благоразумные люди не шутя уверены, что было намерение воспользоваться смертию Пушкина для взволнования умов... Пушкин умирает, убитый на дуэли, и убийца его француз, принятый в нашу службу с отличием; этот француз преследовал жену Пушкина и за тот стыд, который нанес его чести, еще убил его на дуэли. Вот обстоятельства, поразившие вдруг все общество и сделавшиеся известными во всех классах народа, от Гостиного двора до петербургских салонов... Жертвою иноземного развратника сделался первый поэт России, известный по сочинениям своим большому и малому обществу... Нужно ли было кому-нибудь особенно заботиться о том, чтобы произвести в обществе то впечатление, которое неминуемо в нем произойти долженствовало?.. Разве погиб на дуэли не Пушкин? Чему же дивиться, что все ужаснулись, что все были опечалены и все оскорбились? Какие же тайные агенты могли быть нужны для произведения сего неизбежного впечатления?.. Здесь полиция перешла за границы своей бдительности. Из толков, не имевших между собой никакой связи, она сделала заговор с политическою целию и в заговорщики произвела друзей Пушкина, которые окружали его страдальческую постель... В минуту выноса, на которой собралось не более десяти ближайших друзей Пушкина, жандармы наполнили ту горницу, где молились о умершем, нас оцепили, и мы, так сказать, под стражею проводили тело до церкви. Какое намерение могли в нас предполагать? Чего могли от нас бояться? Этого я изъяснить не берусь. И, признаться, будучи наполнен главным своим чувством, печалью о конце Пушкина, я в минуту выноса и не заметил того, что вокруг нас происходило; уже после это пришло мне в голову и жестоко меня обидело».