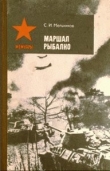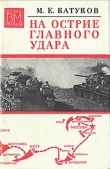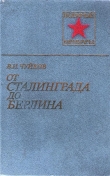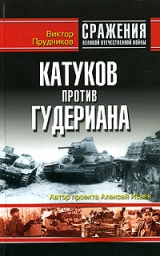
Текст книги "Катуков против Гудериана"
Автор книги: Виктор Прудников
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Увидев начальство, капитан приказал своим слушателям встать, подошел с рапортом:
– Товарищ полковник, капитан Дынер проводит очередное занятие с механиками—водителями!
– Здравствуйте, капитан! Ваше имя и отчество? – вежливо спросил Катуков.
– Павел Григорьевич.
– В армии давно? Кадровик? – продолжал допытываться комбриг.
– До войны работал на одном из киевских заводов инженером, в действующей армии с 22 июня. Как видите, военная биография небогатая. Можно сказать, ее совсем нет.
У многих командиров того времени не было фронтовой биографии. Еще совсем недавно каждый занимался мирным трудом, но в трудную годину, когда позвала Родина, они взвалили на свои плечи всю тяжесть войны и несли ее до Победы. Дынер не исключение. Потом Катуков был бесконечно благодарен этому грамотному инженеру, возглавляемой им службе, быстро ставившей в строй подбитые танки на протяжении всей войны.
Приятное впечатление оставил и начальник оперативного отделения бригады капитан М.Т. Никитин. Матвей Тимофеевич – прирожденный штабист, прекрасно разбирался в оперативной обстановке. Тоже прошел с Катуковым до Берлина, стал позже крупным военачальником.
В течение последующих дней комбриг познакомился со всем командным и политическим составом, понял, что работа здесь проведена основательная, дело теперь за учебой и подготовкой танковых экипажей. Приятно было сознавать, что среди командного состава есть фронтовики, понюхавшие пороху во многих боях. Среди них выделялись старшие лейтенанты К.М. Самохин, В.И. Раков, лейтенанты Г.М. Луговой, П.П. Воробьев. Командир роты Евгений Луппов, например, был на финском фронте, получил звание Героя Советского Союза. Столь же успешно сражался с немецкими захватчиками старший лейтенант П.А. Заскалько. В 15–й танковой дивизии он был командиром танкового батальона. Когда ему предложили командовать ротой, заявил, что готов командовать танком, только бы быстрее направили на фронт.
Катуков решил собрать весь личный состав бригады, чтобы не только представиться самому, но и встретиться с бойцами, поговорить о предстоящей учебе, решить назревшие вопросы, касающиеся их работы, быта и отдыха. Но где собрать людей? Здесь, на станции, вряд ли найдется такое помещение, которое вместило хотя бы основную массу бойцов.
Выход из затруднительного положения подсказал Рябов.
– Искать ничего не надо, – указал он рукой в степь. – Тут мы проводим все свои мероприятия. Потребуется лишь стол да несколько стульев. Я предупрежу нашего хозяйственника майора Михайловского – пусть побеспокоится.
Так и собрался в приволжской степи личный состав 4–й танковой бригады. Бойцы стояли полукругом, некоторые сидели и полулежали на траве, кому как удобно было. Разрешалось курить. Слух о том, что прибыл новый комбриг, облетел все подразделения, и теперь все ждали с ним встречи.
Катуков испытывал на себе сотни взглядов, оценивающих, любопытных. Представляясь танкистам, Михаил Ефимович сказал, что согласно приказу Главного автобронетанкового управления он назначен командиром 4–й танковой бригады. Поведал коротко о своем боевом опыте. Потом заговорил о самом наболевшем:
– Командование поручило мне сформировать бригаду в самые короткие сроки, обстоятельства торопят. Вы знаете, как складывается обстановка на фронте. Она пока не в нашу пользу. Скоро получим новые машины. Это будут, видимо, танки «Т–34» и «КВ». Рабочие Сталинграда сутками не покидают цехи, чтобы обеспечить нас новейшей техникой. Нам ее предстоит осваивать, а затем и применять в бою. Тот, кто сталкивался с немецкими танковыми частями, почувствовал на себе, что они неплохо организованны и дисциплинированны. Но бить их можно, и мы это делали. Сил у нас пока маловато. Вот и стоит перед нами задача – как этими силами противостоять противнику? Противнику наглому и коварному. Мы должны уметь хорошо водить наши машины, знать их боевые качества, применять новую тактику боя. По отзывам специалистов наши машины «Т–34» и «KB» лучше, чем немецкие «Т—III» и «T—IV». Так что в успехе можно не сомневаться!
Как только поступила в бригаду первая партия «тридцатьчетверок», началась учеба. Вождение такой боевой машины требовало определенных навыков. Экипажи должны были научиться преодолевать на полном ходу рвы и балки, противотанковые препятствия – эскарпы и надолбы. По ходу велась подготовка технического персонала. Времени, отпущенного на овладение материально—технической частью танков, было так мало, что пришлось часть бойцов из роты технического обеспечения направить на завод, где они вместе с рабочими собирали машины, изучая попутно их устройство.
Во второй половине сентября подразделения – взводы, роты и батальоны – начали проработку тактических приемов в учебных боях. Тяжелый труд по 12–14 часов в сутки изнурял бойцов и командиров. Но жалоб не было, люди понимали, что их труд даром не пропадет. От этого будет зависеть успех в бою, их собственная жизнь.
Часами просиживал Катуков со своими помощниками начальником штаба Кульвинским и комиссаром Бойко над разработкой своеобразной схемы боевой учебы в полевых условиях. Бои на Украине заставляли комбрига вновь обратиться к тактике оборонительных боев с использованием танков в засадах. Иного выхода он не видел. Противник по—прежнему обладал преимуществом в танках и авиации. Видимо, так будет и на тот момент, когда бригада пойдет в бой.
– У меня есть некоторые соображения, – комбриг разложил на столе несколько листов ватмана. – Хочу с вами ими поделиться, поскольку нам на первоначальном этапе придется вести исключительно оборонительные бои, успеха не добиться без взаимодействия всех подразделений – танковых, артиллерийских, мотострелковых. Только взаимодействие – еще не все. Противника надо обмануть, ввести в заблуждение. Но как? Настоящим и ложным передним краем.
– Вы предлагаете бутафорию? – Начальник штаба Кульвинский с удивлением посмотрел на комбрига.
– Верно, Павел Васильевич, – улыбнулся Катуков. – Бутафорию, только не театральную, но чем—то напоминающую ее. На занимаемой оборонительной полосе мы отрываем окопы настоящие и ложные. В ложных окопах ставятся макеты пушек и пулеметов. Противник атакует. Его встречает из ложных окопов небольшая группа бойцов – «актеров» с пулеметами. Их задача – инсценировать передний край, затем они уходят в настоящие окопы, потому что может последовать бомбардировка переднего края. И пусть. Бомбы упадут на ложные окопы, где уже никого не будет. И вот противник бросает танки, они подходят на 200–300 метров. Наступает самый, пожалуй, критический момент боя. Стрелки, минометчики и артиллеристы расстреливают пехоту в упор, а из засад выходят наши танки и бьют в борта вражеских машин. Огонь с разных позиций будет косоприцельный, губительный.
Бойко, слушая комбрига, заходил то с одной, то с другой стороны стола, всматривался в условные обозначения на ватмане, кивал головой, соглашался. И Кульвинскому идея понравилась. Он сказал:
– Если все продумать до мелочей, причем продумать в каждом конкретном случае, можно надеяться на успех.
Дни шли за днями, не похожими один на другой. Сегодня, например, отрабатывался учебный бой между танковыми ротами, завтра – уже с участием мотострелковых подразделений и артиллерии, послезавтра – новое усложненное задание.
По вечерам у палаточного городка подводились итоги учений. Не все пока получалось. Экипажи в отдельных случаях действовали разрозненно, не используя выгодных условий местности, командиры допускали тактическую безграмотность.
– Война не прощает никому ошибок и нерадивости, – говорил комбриг, разбирая действия в учебном бою каждого командира. – Погибнете сами и погубите свои экипажи. Я понимаю, что в танковом училище вам говорили: наступление – главный вид боевых действий. Ведь только наступление в конечном итоге приводит к победе над противником. Но на первом этапе нам придется вести оборонительные бои, и лишь при создании благоприятных условий – наступать. Постарайтесь запомнить это!
Жаркий сентябрь в приволжских степях был на исходе. Все чаще небо заволакивало тучами, иногда накрапывал мелкий дождик. Оставались последние дни учебы танкистов, и Катуков старался использовать их с полной нагрузкой. Намечался очередной выход в поле, на этот раз побатальонно. Садясь в машину, комбриг приказал Кондратенко:
– В батальон Рафтопулло!
Полтора часа тому назад к месту учений уехал начальник штаба Кульвинский, чтобы проверить готовность подразделений. Михаил Ефимович вытащил пачку «Беломора». Протянул папиросу рядом сидящему Бойко:
– Закуришь, комиссар?
– Благодарю, не хочется с утра.
– Что—то беспокоит?
– В общем, да. Десятки людей обращаются ко мне с просьбой направить на фронт. Жалуются: «Круто берет комбриг». Среди них есть и командиры.
Катуков изменился в лице. Выбросив в степь недокуренную папиросу, спросил:
– На что же жалуются командиры?
– Все на то же, дескать, достаточно уже подготовлены, их место на фронте, а они ползают с утра до ночи по балкам, жгут горючее, впустую расходуют снаряды.
– У петуха тоже есть крылья, а летать не может. – Комбриг натянул на глаза фуражку и попросил шофера прибавить газу. – Нам сейчас представится возможность убедиться, чему научились наши командиры.
Машина резко остановилась у балки, дальше Катуков и Бойко пошли пешком. В батальоне Рафтопулло царило оживление: танковые экипажи заканчивали последние приготовления к учебному бою. Худощавый, черный от загара и пыли комбат подбежал с рапортом…
Что дальше произошло, вспоминает сам Рафтопулло:
«Мой батальон занял оборону на рубеже возле небольшой речушки. Докладываю комбригу:
– К бою готов!
– Давайте посмотрим, так ли это, – сказал полковник и вывел всех командиров на передний край оборонительных позиций.
Признаться, мне было даже неловко. Мы увидели как на ладошке расположение наших огневых средств… Легко раскрывались система огня, построение боевого порядка, стыки подразделений, словом, весь замысел предстоящего боя.
– Вот здесь, как нам доложил комбат, приготовлен огневой мешок для врага, – заметил Катуков, – но разве противник дурак? Разве он полезет в этот мешок? Нет, он изберет для наступления другое направление и всего скорее нанесет удар в стыке ротных опорных пунктов, которые мы только что легко обнаружили.
Стало ясно, что сокрушить такую оборону – нетрудное дело даже при равенстве противоборствующих сил, а ведь она должна была по своей идее сдержать противника, имещего тройное превосходство в силах и средствах».[22]22
Рафтопулло А.А. В атаке «тридцатьчетверки». Саратов, 1973. С. 15–16.
[Закрыть]
Все, что можно было устранить перед началом учебного боя, командиры устранили, приняли к сведению замечания комбрига. Делалось все без каких бы то ни было условностей.
Покидая батальон Рафтопулло, Катуков сказал бойцам:
– Скоро на полях сражений мы должны показать, что учились не зря. Наши гимнастерки и мы сами пропитаны потом. Но смею всех заверить: наш труд не пропадет даром!
Предвидения его оправдались. Когда начались ожесточенные бои под Орлом и Мценском, а затем и под Москвой, многие бойцы и командиры с благодарностью вспоминали «степную академию Катукова».
Положение на фронте не улучшалось, сводки Совинформбюро были по—прежнему тревожные. Красная Армия вела тяжелые оборонительные бои на огромном пространстве от Баренцева до Черного моря. Оставлены многие города Украины, в том числе и Киев.
Противник добился успеха и на западном направлении. С немалыми для себя потерями он все же занял Минск, Смоленск, Вязьму. В связи с этим Гитлер отдал приказ войскам, в котором говорилось: «Создана наконец предпосылка к последнему огромному удару, который еще до наступления зимы должен привести к уничтожению врага».[23]23
Яковлев Н. Маршал Жуков. Роман—газета, № 1, 1986. С. 26.
[Закрыть]
Прорвав оборону Брянского фронта, танковая группа Гудериана 30 сентября рванулась к Орлу, чтобы с юга начать наступление на советскую столицу.
Ставка Верховного Главнокомандования стягивала к Москве сформированные в тылу новые дивизии. В бой вводится и 4–я танковая бригада. Катуков получил приказ срочно погрузить свои части в эшелоны и перебросить в Подмосковье, на станцию Кубинка. Собрав командный состав, комбриг объявил:
– Учеба наша закончилась. Через неделю, а может быть, и раньше идем в бой. Будем защищать столицу. Нам предстоит иметь дело с опытным и сильным врагом – бронированными колоннами генерала Гудериана. Задача у нас чрезвычайно сложная – задержать немецкие танки, отбросить их от Москвы.
Речь комбрига была короткой, но заставила каждого подумать над тем, как все же придется выполнять задачу, какими средствами?
Посыпались вопросы. Начальника политотдела Деревянкина беспокоило такое положение: бригада не укомплектована танками, за исключением одного батальона, бросать ее в бой равносильно самоубийству.
Все эти вопросы беспокоили каждого командира, и в первую очередь комбрига. Михаил Ефимович сказал:
– Мы – боевая единица, соединение, на которое командование возлагает немало надежд. В бой, надо полагать, нас безоружными не пошлют. Танки получим на станции Кубинка. Это все, что могу вам сообщить. Готовьтесь к погрузке!
Не прошло и суток, как первые эшелоны с частями 4–й танковой бригады двинулись к Москве.
ВПЕРЕД, К КАТАСТРОФЕ!
Проба сил на Западе прошла для Гудериана вполне успешно. Он приобрел опыт командования танковыми и моторизованными соединениями, научился с ходу форсировать водные преграды, брать города и крепости. Перемирием с Францией остался недоволен, считал, что Германия имела полное право заключить другой мирный договор, потребовать полной оккупации страны и разоружения армии, отказа от военного флота и колоний.
Его уже называли «отцом блицкрига», а это не только льстило, но и постоянно щекотало самолюбие. Он понимал, что Гитлер не остановится на достигнутом, будет продолжать завоевательную политику не только на Западе, но и на Востоке, непременно ринется на Балканы – в Румынию, Грецию, Югославию, возможно, даже очень скоро, обратит свой взор к Советскому Союзу.
Автором разработки планов нападения на Советский Союз считают способного генштабиста, по иронии судьбы носившего фамилию Маркс, Эриха Маркса, начальника штаба 18–й армии, который начал работу в конце июля 1940 года и вскоре представил ее в генштаб. Идея его плана была такова: германские войска наносят главный удар из Румынии, Галиции и Южной Польши в направлении на Донбасс, разбивают находящиеся на Украине советские армии и маршируют через Киев на Москву.
Прежде чем появилась директива № 21 «плана Барбароссы», подписанная Гитлером в декабре 1940 года, в нее вносилось много корректив. Но, пожалуй, наиболее полное представление о замыслах Гитлера говорит «Директива по стратегическому сосредоточению и развертыванию войск» главного командования сухопутных войск от 31 января 1941 года. Основной замысел «плана Барбароссы» заключался в том, чтобы быстрыми и глубокими ударами подвижных армейских группировок уничтожить основные силы Красной Армии западнее линии Днепр – Западная Двина, не допустить их отхода в глубь страны, овладеть важнейшими стратегическими центрами Советской России – Москвой, Ленинградом, центральным районом, Донбассом с тем, чтобы выйти на линию Волга – Архангельск. Сроки предельно сжатые. Кампания должна быть закончена до начала зимы, если быть более точным, то до «осеннего листопада».
14 июня 1941 года Гитлер собрал в Берлине командующих группами армий, армиями и танковыми группами, чтобы поставить их перед фактом окончательного принятия им решения о нападении на Советский Союз, а также для того, чтобы выслушать доклады о подготовке войск. Он заявил, что не может разгромить Англию, прежде чем не разгромит Россию.
Итак, жребий брошен, война неизбежна. Гитлер подтянул к советской границе три крупные группы армий – «Север» (командующий фельдмаршал фон Лееб), «Центр» (командующий фельдмаршал фон Бок) и «Юг» (командующий фельдмаршал фон Рунштедт). В составе групп армий должны были действовать четыре танковые группы войск – Клейста, Гудериана, Готта и Гепнера.
Нас безусловно будет интересовать Гудериан и его танковая группа. Что она представляла собой перед наступлением? Сила довольно—таки внушительная: 5 танковых, 5 моторизованных дивизий, 1 кавалерийская дивизия и пехотный полк «Великая Германия». Кроме того, ее обеспечивала авиагруппа бомбардировщиков ближнего действия и истребители прикрытия, зенитный артиллерийский полк «Герман Геринг», артиллерийские полки, полк связи, разведывательная авиация и инженерные войска.
Какие силы Красной Армии противостояли Гудериану в первые дни войны, установить сложно. Большинство частей и соединений, оказавшихся на границе, были разбиты, штабные документы либо уничтожены, либо попали в руки противника.
Однако, если судить по темпам продвижения танковых колонн Гудериана, можно сказать, что оборона наша была поставлена куда как скверно, а если принять во внимание предположение Виктора Суворова (Владимира Богдановича Резуна), бывшего советского дипломата и разведчика ГРУ, о том, что Сталин готовил свои войска не для обороны, а для наступления, то можно сказать с немалой долей уверенности: при такой подготовке оно закончилось бы так же трагически, как и оборона.
Перед Гудерианом поставлена задача: в первый день наступления форсировать реку Западный Буг по обе стороны Бреста, прорвать фронт советских войск, используя первоначальный успех, быстро выйти в район Рославля, Ельни, Смоленска. Он должен был помешать советскому командованию создать новый фронт обороны, тем самым обеспечить предпосылки для решающего успеха военной кампании уже в 1941 году.
Штаб 2–й танковой группы находился в Варшаве, но командующего вряд ли можно было застать на месте, он – на исходных позициях, проводит рекогносцировку местности, проверяет готовность войск, согласовывает вопросы взаимодействия.
Раннее утро 22 июня 1941 года. На границе с советской стороны – полная тишина. В 3 часа 15 минут эту тишину разрывают первые артиллерийские залпы, через 25 минут на Брест обрушивают удары пикирующие бомбардировщики. Буквально через час танки Гудериана форсировали Буг: советское командование преподнесло ему на блюдечке с голубой каемочкой целехонькие мосты через реку.
Как бы отчаянно ни сопротивлялись остатки гарнизона крепости, судьба его была решена. А танковая группа Гудериана широкой рекой катилась к намеченной цели – Смоленску, правда, 26 июня генералу было приказано повернуть 47–й танковый корпус на Минск, через Барановичи, а 24–й танковый корпус – на Бобруйск, чтобы помочь группе Готта быстрее овладеть столицей Белоруссии. Минск пал через день.
Еще на совещании генералитета 14 июня 1941 года Гитлер спросил Гудериана – сколько дней ему понадобится, чтобы достичь Минска. Он ответил: «5–6 дней». На практике эти сроки выдерживались, даже были перекрыты.
Нельзя сказать, что советские войска не оказывали немцам сопротивления. Оно росло с каждым днем, особенно усилилось у Днепра, когда враг стал захватывать переправы у Рогачева, Могилева и Орши, а также на Березине у Витебска и Полоцка. Недаром Гальдер записывает в своем дневнике: «Противник еще вчера подтянул с юга пехоту и сосредоточил ее на широком фронте против 11–й танковой дивизии. Создается впечатление, что противник подтягивает свежие силы с запада и с юга против продвигающихся с тяжелыми боями на восток 4–го армейского корпуса и против корпуса Бризена (52–й ак), видимо, с целью поддержки своих разбитых соединений и создания нового фронта…»[24]24
Гальдер Ф. Указ. соч. С. 42.
[Закрыть]
Эта запись была сделана на четвертый день войны. А на девятый день войны в его дневнике уже сквозят тревожные нотки: «Фюрер считает, что в случае достижения Смоленска в середине июля пехотные соединения могут взять Москву только в августе. Одних танковых соединений для этого недостаточно».[25]25
Там же. С. 66.
[Закрыть]
На полных парах гнал Гудериан свои танковые и моторизованные дивизии к Днепру, стремясь как можно быстрее форсировать реку, однако еще на Березине одна из его дивизий впервые столкнулась с русскими танками «Т–34», против которых, отмечал генерал, «наши пушки в то время были слишком слабы». Но он знал, что советские войска еще не успели закрепиться на водных рубежах и их легко можно было разгромить. Предстояло принять ответственное решение – двигаться ли дальше к намеченной оперативной цели или приостановить наступление до подхода полевых армий.
В пользу продолжения наступления говорила его уверенность в своих силах: войска боеспособны, со снабжением горючим и боеприпасами пока все обстояло нормально. Учитывал он и то, что после форсирования Днепра и дальнейшего продвижения фланги будут практически открыты для нанесения по ним ударов противником. Тут уж, как говорится, только поворачивайся. И он решился на форсирование Днепра.
Участок был выбран между Могилевом и Оршей, туда в ночное время, в целях маскировки, подходили его войска. Все шло по намеченному плану, как неожиданно 9 июля на плацдарм прибыл фельдмаршал фон Клюге. Он категорически запретил переправу до подхода главных сил армии. Гудериан убеждал фельдмаршала, что остановить движение войск уже невозможно, а их большое скопление на берегу – притягательная мишень для авиации противника. Если он нанесет удар, последствия будут непредсказуемы.
Тот понял, что командующий танковой группой прав, сдался, бросив при этом: «Успех ваших операций всегда висит на волоске».
Импульсивного, не всегда предсказуемого Гудериана фельдмаршал Клюге недолюбливал и при первой возможности ставил ему палки в колеса. Генерал—полковник платил ему тем же. Как отмечает Сэмюэл Митчем, в тот момент, когда шло наступление на Смоленск, Гудериан резко критиковал фон Клюге за неумелое использование пяти танковых корпусов. И тут же автор добавляет: «Замечаниям Гудериана не стоит полностью доверять, поскольку этот военачальник отличался гиперкритичностью по отношению к тем людям, которые ему не нравились, а отношения с Клюге вообще были у него отвратительными. (Был момент, когда они даже собирались драться на дуэли, но вмешались менее горячие головы и не позволили им довести дело до конца.[26]26
Митчем С. Указ. соч. С. 411.
[Закрыть])
Фельдмаршал фон Клюге еще не раз навещал переправу войск Гудериана в местечке Копысь, раздраженно отдавал совершенно ненужные приказы, что многих выводило из себя. Советская авиация пыталась помешать переправе, бомбила наводимые немцами мосты, но это были удары, относящиеся к разряду беспокоящих, но не решающих исхода боевых действий.
Те дивизии, которые уже переправились на восточный берег Днепра, Гудериан сразу же старался бросить в бой, «чтобы использовать элемент внезапности». Внезапность у Гудериана была всегда залогом победы, ей он придавал особое значение во всех военных кампаниях, в которых участвовал. В своих записках он оставил такие строки:
«Необходимо использовать фактор внезапности, если такая возможность представится. Если же такая возможность исключается, то лучше занять исходное положение на большом удалении от противника или перед началом атаки сделать короткую остановку, чтобы развернуться в боевые порядки».[27]27
Гудериан Г. Танки, вперед! М., 1957. С. 108.
[Закрыть]
На восточном берегу Днепра немцы захватили плацдарм, что давало им возможность переправлять большое количество войск и техники, причем Гудериан, ничуть не тревожась, перенес свой КП на левый берег в местечко Заходы, недалеко от Шклова.
Передовые части танковых и моторизованных дивизий подошли к Смоленску и на расстоянии 18–20 километров от города завязали бои с советскими войсками. Атакам подверглась также и Орша. 15 июля фельдмаршал Клюге вновь прибыл на КП Гудериана и потребовал усилить нажим на Смоленск.
Торопил Гудериана и Гитлер. Торопил и поощрял. В эти дни он получил дубовые листья к Рыцарскому кресту. Гордость распирала генерала, он писал: «Я был пятнадцатым человеком в сухопутных войсках и двадцать четвертым в вооруженных силах, награжденным этим орденом».
Награду предстояло отрабатывать.
А Смоленск упорно защищался. Древний русский город всегда стоял на пути многих завоевателей – литовцев, поляков, монголов, шведов, французов, немцев. История знает немало имен защитников Смоленска. Боярин М.Б. Шеин в течение двадцати месяцев (с сентября 1609 по июнь 1611 года) оборонял город—крепость от поляков. В 1812 году под Смоленском соединились главные силы русских армий Барклая—де—Толли и Багратиона, которые потом разгромили армию Наполеона. 20 тысяч своих солдат потерял французский император. А М.И. Кутузову за победу над французскими войсками был присвоен титул князя Смоленского.
И вот теперь у стен города появился новый завоеватель – Гудериан, который обосновал свой командный пункт в Толочине, где в 1812 году была штаб—квартира Наполеона. Наблюдая в бинокль за ходом переправы своих войск через Днепр, он надеялся, что теперь его вряд ли смогут остановить.
В невероятно тяжелых условиях оказались войска Западного фронта. Под Смоленском их совсем немного – остатки 19–й армии генерала Конева, 22–й – генерала Ершокова, 20–й – генерала Курочкина и 16–й – генерала Лукина.
Вначале Ставка приказала командующему Западным фронтом маршалу Тимошенко, собрав все силы в кулак, отбросить германские войска от Витебска и восстановить положение. Сделать это не удалось: противник вбивал танковые клинья на стыках 16–й и 20–й армий, пытаясь окружить их и уничтожить.
В середине июля поступил новый приказ Ставки – удерживать Смоленск. Удерживать любой ценой. Но какими силами? Их практически не было. По сути, основная тяжесть обороны города легла на 16–ю армию генерала Лукина и гарнизон города. У Лукина было всего две неполные дивизии, смоленский гарнизон полковника Малышева насчитывал не более 2 тысяч бойцов, 19–я армия Конева и подошедший 34–й стрелковый корпус генерала Хмельницкого сражались севернее Смоленска.
15 июля немцы прорвались в южную часть города – Заднепровье. Стало ясно, что Смоленск не удержать. На следующий день немецкие танки и мотопехота вытеснили защитников города на берега Днепра, где бои продолжались еще несколько дней.
В конце июля противник перешел в наступление по всему фронту и замкнул кольцо окружения советских армий. Положение складывалось угрожающее. Надо было уводить на восток оставшиеся после жарких боев войска, чтобы сохранить их от неминуемого разгрома.
Смоленское сражение на этом и закончилось. Для обеих воюющих сторон оно значило слишком много. Для германской армии захват Смоленска – это короткий путь на Москву, хотя бои здесь и спутали планы гитлеровского командования. Ведь Гудериан увяз под Смоленском почти на целый месяц. Спустя годы командующий 3–й танковой группой генерал Готт упрекал своего товарища по оружию за то, что тот после форсирования Днепра у Копыси не двинулся на Ельню и Дорогобуж, а ввязался в бессмысленные кровопролитные бои за Смоленск.
Заняв Смоленск, Гудериан сразу же взялся перегруппировывать свои силы, чтобы приготовиться к броску на Рославль, тоже старинный русский город, расположенный в 122 километрах от областного центра на реке Остер.
В ходе дальнейшего наступления Гудериан переместил свой КП из села Хохлово под Смоленском поближе к Рославлю, в село Прудки, куда с боями продвинулась 18–я танковая дивизия. Село расположено примерно в 50 километрах от областного центра, рядом проходит шоссе Смоленск – Рославль. Видимо, это и определило выбор места для командного пункта. Следует заметить, что после бомбардировки французского города Буйон Гудериан предпочитал устраивать свой КП подальше от крупных городов, чтобы не привлекать внимание авиации противника.
Для отдыха генералу всегда подбирали какое—нибудь общественное здание, например, сельскую школу, больницу, детский дом. Там было больше бытовых удобств, к тому же можно разместить и обслуживающий персонал.
Наступление пока откладывалось: советские войска продолжали оказывать сопротивление у Смоленска, Ельни, Дорогобужа и Рославля. Командование 4–й немецкой армии считало, что наиболее угрожаемым участком по—прежнему является Смоленск, поэтому старалось придержать здесь и танковые дивизии Гудериана.
27 июля фон Бок вызвал всех командующих армиями и группами армий в Борисов, чтобы согласовать дальнейшие действия со своими подчиненными и услышать доклады о положении войск. Гудериан ожидал, что после захвата Рославля он получит приказ о наступлении на Москву или хотя бы на Брянск, но был разочарован: Гитлер ориентировал 2–ю полевую армию и 2–ю танковую группу наступать на Гомель.
Такая ориентировка была непонятна многим генералам, им по сути предлагалось заниматься ликвидацией живой силы окруженных русских армий, а не двигаться вперед к намеченной цели. В таком случае русские выигрывали время, создавали в тылу новые линии обороны, что отодвигало сроки завершения военной кампании.
Но какие бы решения ни принимал Гитлер, какие бы приказы ни писало командование сухопутных сил, Гудериан стремился завершить оперативную цель № 1 – захватить Рославль, важный стратегический пункт, узел железных и шоссейных дорог. Стараясь убедить в этом фон Бока, он настаивал подчинить ему дополнительно два моторизованных корпуса – 7–й и 9–й, а соединениями 20–го моторизованного корпуса предлагал заменить нуждающиеся в отдыхе свои дивизии.
Фельдмаршал фон Бок согласился с доводами генерала, разрешил укрепить его войска, даже способствовал созданию из 2–й танковой группы «армейской группы Гудериана».
Наступление на Рославль началось 1 августа. Прежде чем начать штурм города, немцы обрушили на него бомбовые удары. Один за другим поднимались самолеты с Шанталовского аэродрома, захваченного накануне. Затем начался артиллерийский налет, с его прекращением в бой пошла пехота, поддерживаемая большим количеством танков.
Почти три дня город сопротивлялся. Однако гитлеровцам удалось захватить неразрушенными мосты через Остер. Почему их не взорвали? Видимо, все так же, как и в Смоленске, действовал приказ командования Западного фронта не взрывать мосты до последней минуты. Эти минуты и стали роковыми для защитников.
3 августа фашистские танки нанесли удар по войскам 28–й армии генерал—лейтенанта В.Я. Качалова. Остатки 145–й стрелковой дивизии генерал—майора А.А. Вольхина, бывшего в это время комендантом Рославля, вынуждены были оставить город.
О Рославльском сражении написано немало. Богатый материал собран и в историко—краеведческих музеях Рославля, Починка, Стодолища, других городов и поселков. В отдельных местных изданиях опубликованы документы и о действиях группы под командованием генерала Качалова: «Под его командованием 104–я танковая, 145–я и 149–я стрелковые дивизии в июле—августе 1941 года вели героические бои в районе деревень Новины, Печкуры, Старинка, Заболотовка, Борисковичи Починковского района против моторизованных и танковых дивизий фашистского генерала Гудериана. Эти деревни находятся в районе реки Стометь, недалеко от станции Васьково. 4 августа 1941 года в одном из боев у деревни Старинки В.Я. Качалов пал смертью храбрых. На его могиле в поселке Стодолище установлен бюст. А на Рославльском шоссе, вблизи поселка, на высоком постаменте стоит танк «Т–34» в память о подвигах группы генерала В.Я. Качалова».[28]28
На земле смоленской. М., 1971. С. 99.
[Закрыть]