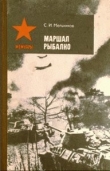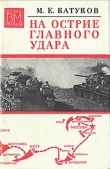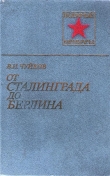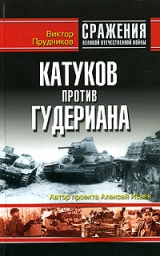
Текст книги "Катуков против Гудериана"
Автор книги: Виктор Прудников
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
В БОЯХ И ПОХОДАХ
Красная Армия создавалась усиленными темпами. На 1 апреля 1918 года в ее рядах насчитывалось 155 тыс. человек. Ильич выдвинул задачу к весне 1919 года иметь 3 млн. бойцов. И имел их. На 1 ноября 1920 года в рядах Красной Армии было уже 5,5 млн. человек.
В начале действовал добровольный принцип организации армии и классовый подход, 5–й съезд Советов в июле 1918 года установил всеобщую повинность трудящихся в возрасте от 18 до 40 лет. И пошли мобилизации.
Одна из мобилизаций захватила Михаила Катукова (призван Коломенским РВК 11 марта 1919 года), хотя в своих мемуарах написал, что «я, как и многие мои сверстники, попросился добровольцем в Красную Армию».
Мобилизованный Катуков мечтал попасть в Петроград, город своей юности, но был отправлен на юг. Красноармеец Катуков воевал в составе разных частей и соединений, которые часто перебрасывались с одного фронта на другой. На какое—то время судьба забросила его в 33–й полк 4–й стрелковой дивизии. Но тут неожиданно заболел сыпным тифом. Долго валялся в горячечном бреду на больничной койке, а когда подлечился, настоял, чтобы направили в 507–й полк 57–й стрелковой дивизии.
Полк стал родным и близким, там осталось много товарищей, боевых друзей, он был на хорошем счету в дивизии. Запомнился и начдив Николай Худяков, яркая и одаренная личность. Он водил в бой полки на Царицынском фронте, на Дону и Днепре, о нем слагали легенды.
Вскоре Катуков сделал первый шаг к тому, чтобы стать профессиональным военным. 1 января 1921 года он был направлен на учебу на командирские курсы. Могилевские курсы стали первой и весьма важной ступенькой в жизни Михаила Ефимовича Катукова, в становлении его как командира Красной Армии. Учиться было нелегко: знаний маловато, а требования высокие. Приходилось просиживать ночами над школьной программой, чтобы потом успешно разобраться в лекционном материале. Полученные знания, как правило, закреплялись на практике – на полигоне, но случалось, что и в бою. Звучал сигнал, и курсанты, захватив оружие, покидали казарму по тревоге.
По окончании курсов молодой краском Михаил Катуков получил предписание для дальнейшего прохождения службы в 27–й Омской стрелковой дивизии в должности помощника командира взвода. В помощниках командира взвода Михаил Катуков долго не задержался. В мае 1922 года его переводят в 81–й стрелковый полк и назначают командиром взвода.
После Гражданской войны страна располагала скудными средствами, и все же Красная Армия получала тот минимум, чтобы поддержать свою боеспособность. Засуха и недород 1921–1922 годов усугубили продовольственное положение, и красноармейцы вынуждены были делиться своим скромным пайком с голодающими.
К концу октября 1922 года Гражданская война на территории Советской России, за исключением Туркменистана, практически закончилась. Войска Дальневосточной республики вступили во Владивосток. Выход в Тихий океан стал свободным. Нэп позволил оживить экономику, были пущены многие заводы и фабрики, заметные изменения произошли на транспорте, в торговле.
В августе 1923 года Михаила Ефимовича назначили помощником командира 2–й роты. Дел прибавилось. Теперь у него в подчинении находилось не два десятка красноармейцев, а более сотни. О каждом надо было позаботиться, главное, обучить.
Конечно, надо было и самому учиться, перенимать опыт старших командиров и военачальников. Была еще одна цель у Катукова – сдать экстерном экзамены по программе средней школы. Довольно часто после напряженного дня, когда все засыпали, он садился за учебники. Для сна оставалось три—четыре часа.
Жизнь армии, как собственно и вся жизнь, не стоит на месте. Она изменяется в соответствии с изменением политической и экономической обстановки в стране. 12 января 1923 года РВС СССР принял решение о переводе нескольких дивизий Красной Армии на территориально—милиционную систему комплектования. Это делалось в порядке подготовки к военной реформе. Экономические трудности в те годы не позволяли содержать кадровую армию, но при необходимости в короткие сроки вокруг кадрового ядра дивизии можно было развернуть достаточно подготовленный боевой состав милиционных частей.
27–я Омская стрелковая дивизия оставалась по—прежнему кадровой. Каждый ее день был насыщен боевой подготовкой и учебой. В августе дивизия отметила свое пятилетие.
СУДЬБА ЕГО – ТАНКИ
Первые пятилетки… О них всегда красочно и звучно писали. Пятилетки – это гигантские стройки по всей стране – на Урале и в Сибири, на Кавказе и в Средней Азии, в центральных районах и на Украине. Рапорты о досрочном выполнении и перевыполнении. На самом же деле все было весьма скромно, если отбросить идеологическую мишуру. Да, запущенные предприятия выпускали металл, станки, машины, что давало возможность в какой—то мере произвести техническое переоснащение промышленности и укрепить обороноспособность страны. 15 июля 1929 года ЦК ВКП (б) принял постановление «О состоянии обороны СССР», которым обязывал РВС СССР и Народный комиссариат по военным и морским делам «наряду с модернизацией существующего вооружения добиться в течение ближайших двух лет получения опытных образцов, а затем и внедрения их в армию, современных типов артиллерии, всех современных типов танков, бронемашин…»[2]2
КПСС в резолюциях и решениях… Т. 4. С. 282.
[Закрыть]
27–я Омская стрелковая дивизия все еще стояла у западных границ. Как и все кадровые дивизии, она перевооружалась, ее огневая мощь значительно возросла. Изменился и командный состав. Бывшие взводные командовали теперь ротами и батальонами, а батальонные командиры стояли во главе полков. Поднялся по служебной лестнице и М.Е. Катуков. Он стал начальником штаба 80–го стрелкового полка. Работа начштаба, как известно, хлопотная, но она давала возможность вникать в оперативно—тактические, боевые и хозяйственные вопросы, позволяла чувствовать пульс всех подразделений.
В апреле 1932 года полк был переброшен из Витебска в Борисов. Пришлось в спешном порядке обживать новые места, оборудовать казармы для красноармейцев, строить жилье для командного состава. А тут новый приказ: 80–й стрелковый полк переформировать в 5–ю легкотанковую бригаду. Переформировать – это значит получить технику, танки, переучить красноармейцев, совершенно по—новому вести все хозяйство части. Эта работа легла на Катукова, исполнявшего тогда обязанности командира полка.
Он с нетерпением ждал поступления первой партии танков: из Москвы, из бронетанкового управления, уже пришла разнарядка. Заканчивалось лето. Наконец в августе 1932 года прибыли первые машины. Это были легкие танки Т–26 и БТ. На них смотрели как на чудо, с любовью и надеждой. Предстояло не только научиться ими управлять, но и вести бой в любых условиях.
Осенью прибыл командир бригады Альфред Матисович Тылтынь, латыш по национальности, человек незаурядных способностей, много лет проработавший на автомобильных заводах за рубежом, прекрасно знавший военную технику. Тот, кому довелось потом соприкасаться с комбригом, называл его не иначе как «профессор».
Тылтынь зашел в штаб, представился:
– Я – ваш комбриг. – Это прозвучало слишком уж не по—уставному. – А вы, если не ошибаюсь, начальник штаба Катуков?
– Так точно! Я – Катуков! – Михаил Ефимович смерил его пристальным взглядом.
Альфред Матисович прошелся по штабу, снял фуражку, положил на стол. Катукову понравилось его простое, волевое лицо, крутой лоб с высокими залысинами, умение держать себя свободно и независимо. Он был выше среднего роста, широкоплеч, военная форма сидела на нем ладно, красиво. Несколько позже о комбриге знали уже многое. Собственно, он и сам не скрывал свое прошлое. Сын безземельного латышского крестьянина Матиса Тылтыня. Как и отец, с восьмилетнего возраста батрачил в имении немца—помещика в Миттельхофе.
Матис Тылтынь мечтал о том, чтобы дети, особенно мальчики, получили образование. Альфред и его младший брат Пауль (Поль) посещали начальную, затем и среднюю школу.
Когда началась Первая мировая война, Альфреда призвали в армию. Так он оказался в Петрограде, стал свидетелем революционных потрясений в России. Революционный поток понес его по фронтам Гражданской войны. Он командовал ротой Курземского латышского полка, потом полком.
С утра до вечера комбриг возился с танками, выясняя у техников состояние машин, комплектовал экипажи, разрабатывал планы предстоящей учебы – в классах и на полигоне. Естественно, возник вопрос о начальнике штаба. Катуков, не имея специального образования, не мог занимать эту должность. Ему предложили либо принять стрелковый полк, либо остаться в штабе бригады и возглавить разведывательный отдел.
Обдумав все, Михаил Ефимович дал согласие на разведотдел: неудержимо тянуло к технике, к танкам, которые стали впоследствии его судьбой.
Тылтынь одобрил его решение:
– Ну что ж, выбор правильный. Об этом жалеть не придется. Танки – это же ударная сила армии. В будущей войне они сыграют решающую роль, особенно при прорыве обороны противника и в наступлении.
Комбриг был не только опытным специалистом, но и человеком весьма дальновидным. Война с Германией показала правоту его слов.
Начались дни напряженной учебы. Учились все – и красноармейцы и командиры. Занятия в классах продолжались по 8–10 часов. Для Катукова отведенного времени было мало, прихватывал за счет сна и отдыха. Жена, Ксения Емельяновна, постоянно тревожилась:
– Ты бы, Михаил, поберег здоровье, оно у тебя не железное.
Катуков успокаивал ее:
– Ничего, Ксюша, выдержу, я двужильный. Расшибусь в лепешку, а танк буду водить!
Бригада в Борисове формировалась около полугода. Срок достаточно большой, чтобы изучить материальную часть танков, пройти практическую школу танкиста. Осенью начались учебные занятия по вождению боевых машин. Катуков старательно отрабатывал каждый элемент: плавно трогался с места, переключал передачи, увеличивал скорость. Душа радовалась: танк был послушен его рукам. Стрельбы из танковой пушки прошли тоже хорошо. Мишени были поражены с первых выстрелов.
Весной 1933 года из автобронетанкового управления пришла приятная весть: 5–я легкотанковая бригада должна готовиться к участию в первомайском параде. Начался отбор танковых экипажей. Катуков завидовал тем, кому предстояло отправиться в Москву на парад. Его учебный батальон оставался в Борисове, а честь представлять бригаду на празднике выпала батальону Поля Тылтыня, брату комбрига. На общем фоне его батальон выглядел гораздо предпочтительнее, чем батальон Катукова.
Много потом разговоров было об этом параде. Возвратившийся из Москвы Поль делился своими впечатлениями:
– Танки с открытыми люками стояли ровными рядами на Ильинке, Никольской, на площадях Революции и Свердлова. Работала радиостанция. Все внимание обращено к Красной площади. Вот раздался цокот копыт. Из Спасских ворот выехал командующий парадом Корк. Он отдал рапорт наркому Ворошилову. Объехав войска и поздравив их с праздником Первомая, нарком поднялся на трибуну Мавзолея, откуда произнес речь. Дальше все было как во сне. Звучал «Интернационал», гремел салют. Но вот и нам подали сигнал, и машины пошли по брусчатке Красной площади…
О первомайском параде газета «Правда» писала: «В площадь вливаются потоки танкеток, броневиков, танков—амфибий, средних танков, двух– и однобашенных, пулеметных, орудийных, зенитных. За ними мчатся многоколесные «кристи»… с площади Революции показывается цепь серо—стальных чудовищ – широких, приземистых… Всеобщее внимание приковывает к себе светло—серый «сухопутный броненосец» – многопушечный танк». Читая газетный отчет, Катуков гордился тем, что через учебный батальон, которым он командовал, прошли многие экипажи, достойно показавшие себя на параде, и его работа, как говорил Поль Тылтынь, видна была в Москве.
В годы Великой Отечественной войны судьба бросала Катукова и Поля Тылтыня по разным дорогам и фронтам, но связи между ними не прерывались. Забегая вперед, хочется отметить два интересных момента. В 1942 году, в самый разгар войны, бои, как известно, были очень тяжелыми. Катуков сражался на Брянском фронте, Поль – на Волховском, потом на Ленинградском. Танковый корпус Катукова нес потери. Связи нарушились.
Поль, обеспокоенный судьбой товарища, узнав, что он жив, пишет 20 сентября 1942 года письмо жене Елене Николаевне Федоровской: «У меня большая радость. Прошел нелепый слух, что Катуков убит, а сегодня встретился с Богомоловым (он теперь мой сосед), который видел на днях Катукова живым и здравствующим…»
После войны вышла книга генерала С.М. Кривошеина «Междубурье». М.Е. Катуков написал к ней послесловие. Отдавая должное Полю Тылтыню (Арману), другу и товарищу (Поль погиб 7 августа 1943 года под Ленинградом), он отмечал: «Запоминается образ талантливого танкового начальника, командира батальона советских добровольцев—танкистов Армана (Поля Матисовича Тылтыня). Человек, влюбленный в свое дело… он всей своей большой душой сочувствует правому делу испанского народа, не щадя сил и жизни, в сложных условиях горной Испании беззаветно храбро сражался с численно превосходящим врагом и всегда выходил победителем. Грамотный танковый командир, умный и чуткий товарищ – таким встает Арман со страниц «Междубурья».[3]3
Кривошеин С.М. Междубурье. Воронеж, 1968. С. 253.
[Закрыть]
Осенью 1934 года Катукова переводят в 134–ю танковую бригаду и назначают начальником оперативного отделения. Бригада стояла в Киеве. Сборы были недолгими, документы уже на руках. Оставалось проститься с товарищами и комбригом.
Тылтынь протянул руку:
– Видите, как все складывается хорошо. Я желаю вам успехов на Академических курсах!
– Как на курсах? – не понял Михаил Ефимович. – Я еду в Киев на должность начальника оперативного отделения.
– Совершенно верно. Но есть еще один приказ: вы сдаете должность своему заместителю – и прямехонько в Москву.
Вот так получается в жизни: человек предполагает, а начальство располагает. Около года учился Катуков на Академических курсах тактико—технического усовершенствования (АКТУС) при Военной академии механизации и моторизации. За короткий срок предстояло пройти напряженный курс. Обширные знания давались здесь по материальной части танков, находящихся на вооружении Красной Армии, и радиоделу. Особое внимание уделялось и тактике – учению об использовании бронетанковых войск в бою. Теоретические знания закреплялись на танкодроме, что также было немаловажно в командирской практике.
Летом 1935 года учеба закончилась, и Катуков вернулся в 134–ю танковую бригаду. Командовал бригадой С.И. Богданов, впоследствии маршал бронетанковых войск, дважды Герой Советского Союза. Семен Ильич обрадовался возвращению Катукова:
– Поздравляю с окончанием курсов! Где намерены использовать полученные знания?
– Как и предписывалось раньше, на оперативной работе.
Штабная работа полностью захватила Катукова. Он был доволен: в оперативном отделении сложился спаянный, творческий коллектив, способный решать сложные оперативно—тактические задачи – быстро, умело, со знанием дела. Свое умение люди показывали на практике во время командно—штабных учений, которые проходили, как правило, южнее Киева. В сентябре 1935 года состоялись большие Киевские маневры – важное событие в жизни Красной Армии. В них участвовали различные рода войск: пехота, конница, воздушно—десантные, артиллерийские, танковые, авиационные части и соединения. В ходе учений на практике отрабатывалась теория глубокой операции, разработанная в конце 20–х – начале 30–х годов. Ее разработчиками были известные военачальники – М.Н. Тухачевский, А.И. Егоров, К.Б. Калиновский, В.К. Триандафиллов, Г.С. Иссерсон, Н.Е. Варфоломеев и другие.
Войска одной из сторон – «синих» должны были прорвать оборону противника – «красных», затем, сочетая удары с фронта с ударами в глубине, устремлялись вперед, чтобы окружить и уничтожить силы противоборствующей группировки.
Прорыв осуществлялся стрелковым корпусом, усиленным танковыми батальонами и артиллерией РГК, и развивался кавалерийским корпусом при поддержке крупного воздушного десанта.
В маневрах задействованы были войска Харьковского и Киевского военных округов. «Синими» – наступающей стороной – руководил командующий войсками Харьковского военного округа Иван Дубовой, «красными» – обороняющейся стороной – Семен Туровский, заместитель Дубового. Учения проходили на территории Киевского военного округа под общим руководством его командующего Ионы Якира.
12 сентября разыгралось невиданное доселе «сражение». Все попытки «синих» занять переправы на Днепре и захватить Киев успешно отбивались «красными». Через два дня «синие» под прикрытием истребительной авиации выбрасывают воздушный десант, крупнейший в истории мировых армий, в районе Бровары, Требухово, Княжичи.
Четвертый день учений был особенно напряженным. 45–й механизированный корпус, в который входила 134–я танковая бригада Богданова, переправившись через реку Ирпень, стремительно выдвинулся в район Мотыжинского леса, создавая угрозу 17–му стрелковому корпусу и выходя в тыл 24–й и 44–й стрелковым дивизиям. «Синие» вынуждены были приостановить наступление на Киев.
Во время учений Катуков во всей полноте почувствовал важность и ответственность оперативной работы, от быстроты и качества которой зависело очень многое. Изрядно пришлось потрудиться в тот момент, когда наступающая сторона, перегруппировав свои силы, готовилась к атаке на Киев, обороняющаяся – к ее отражению.
В районе Гуровщины 45–й механизированный корпус был неожиданно атакован стрелковыми подразделениями и конницей. Завязались затяжные бои. Командир корпуса Антон Борисенко приказал 134–й танковой бригаде оказать поддержку 24–й и 44–й стрелковым дивизиям, попавшим в окружение на реке Ирпень. Дивизии заняли круговую оборону, а с наступлением ночи готовились прорвать кольцо окружения.
Бои продолжались с нарастающей силой. Стало очевидно, что они будут носить затяжной характер. И тут последовал отбой военным маневрам.
После разбора учений были сделаны определенные выводы, которые нашли свое отражение в приказе наркома обороны К.Е. Ворошилова от 22 сентября 1935 года: «Маневры Киевского военного округа текущего года, насыщенные массовым применением всех новейших средств боевой техники, полностью носили характер современного боя. Обстановка этих маневров постоянно ставила все рода войск в самое сложное положение и предъявляла очень высокие требования ко всем участникам от рядового бойца до высшего командира».[4]4
Черушев Н.С. Командарм Дубовой. Киев, 1986. С. 197.
[Закрыть]
Руководя оперативным отделением 134–й танковой бригады на протяжении нескольких лет, Катуков вырос в опытного специалиста, знающего и любящего свое дело. Не случайно в 1937 году его назначили начальником штаба 45–го механизированного корпуса. Комкор Н.Д. Веденеев был уверен: Катуков не подведет не только на учениях, но и в реальном бою.
Штаб корпуса четко и слаженно действовал во время летних маневров. Михаил Ефимович внимательно следил за ходом «боя», поразительно точно чувствовал, когда и где нужно ввести в прорыв основные силы, чтобы добиться успеха – прорвать фронт «противника», нанести удар на глубину десятков километров.
КТО ВЫ, ГЕЙНЦ ГУДЕРИАН?
Визави Катукова Гейнц Гудериан – полная противоположность. Если Катуков по своему происхождению, как говаривали в прошлом, – пролетарская косточка, то Гудериан – военная. В своем роду он представлял второе поколение военных…
Родился будущий танковый генерал в семье кадрового офицера Фридриха Гудериана 17 июня 1888 года. Место рождения – небольшой городок Кульме (Хельмно) на Висле. Отец служил во 2–м Померанском егерском полку. Чин имел небольшой – обер—лейтенант. Гейнц весьма сдержанно писал о своем отце, хотя и считал его «образцом человека и солдата», так же, как и о матери Кларе Киргоф. Дальние родственники как по отцовской, так и по материнской линии были либо помещиками, либо юристами, проживали в области Варта, в Восточной или Западной Пруссии.
Фридрих Гудериан, как человек военный, часто менял место службы. В 1900 году его перевели из Эльзаса в Лотарингию. Тогда еще эти районы принадлежали Германии. Дети – Гейнц и Фриц – учились сначала в школе, затем были отданы в кадетский корпус в Карлсруэ. Семья жила на скромные средства. Фридрих Гудериан считал, что сыновья, получив военное образование, будут в дальнейшем обеспечены за счет государства. К тому же кадетский корпус давал неплохое образование, которое соответствовало любому гражданскому учебному заведению.
Сдав экзамены на аттестат зрелости, Гейнц поступил в военное училище в городе Мец, которое окончил в конце января 1908 года. Блистал ли он в учебе, неизвестно. В короткой автобиографической хронике, составленной генералом в конце жизни, об этом не говорится, однако в том же 1908 году ему было присвоено звание лейтенанта.
Так и жил Гудериан «счастливой жизнью лейтенанта» в течение нескольких лет, опекаемый родителями, в первую очередь отцом, под началом которого проходила его безоблачная служба, пока в октябре 1913 года не женился на Маргарите Герне. Жена шла с ним бок о бок «по извилистому и не всегда легкому пути солдата», к ней он относился с нежностью и благоговением, о чем свидетельствуют его письма, на которые автор будет ссылаться в отдельных случаях.
Вскоре родилось двое сыновей, ставшие впоследствии, как и отец, офицерами.
Первая мировая воина нарушила мирное течение жизни в Германии, равным образом как и жизнь каждой семьи. Если судить по автобиографической хронике Гудериана, можно сказать, что в боевых действиях он не принимал участия – ни на Западе, ни на Востоке. В основном занимался штабной работой. После десятимесячной учебы в военной академии в Берлине и присвоения звания обер—лейтенанта, а через год и капитана его постоянно переводили с одной штабной должности на другую: то он помощник начальника связи в штабе 4–й армии, то занимает должность офицера генерального штаба 52–й резервной дивизии, то на такой же должности в штабе 10–го резервного корпуса.
Своего отношения к войне Гудериан пока не высказывает, сдержанно относится и к Версальскому мирному договору, заключенному 28 июля 1919 года, в соответствии с которым Германия потеряла значительную часть своей территории – Эльзас и Лотарингию передавали Франции (в границах 1870 года), два округа – Мальмеди и Эйпен – Бельгии. Познань – Польше, город Данциг (Гданьск) объявлялся вольным городом, г. Мемель (Клайпеда) передавался в ведение держав—победительниц, а в 1923 году присоединен к Литве.
Германия лишалась колоний, но главное – ее вооруженные силы сводились к общей численности в 100 тыс. человек, она не имела права создавать военно—морской флот, авиацию и бронетанковые войска.
С конца 1916 года Гудериан начинает службу в добровольческом корпусе пограничной охраны, опять же на штабных должностях, и лишь в начале 1920 года становится командиром роты егерского батальона в Госларе, зато уже участвует в подавлении беспорядков в Рурской области и центральной части Германии, приобретая опыт борьбы с местным населением.
Служба в пограничной охране продолжалась до начала 1922 года. Служба как служба, но уже в эти годы Гудериан знакомится с радиоделом, а это уже шаг в направлении технического творчества. О своей послевоенной карьере Гейнц Гудериан написал так: «После окончания войны, начиная с 1918 года, я служил в войсках, охранявших восточные границы, – сначала в Силезии, а затем в Прибалтике… До 1922 года я служил в основном в штабе округа и в министерстве рейхсвера, специализируясь преимущественно по пехоте, однако служба в 3–м телеграфном батальоне в Кобленце, а также служба в различных радиотелеграфных подразделениях в начале Первой мировой войны дала мне возможность приобрести некоторые знания, весьма пригодившиеся в дальнейшем, при создании нового рода войск».[5]5
Гудериан Г. Воспоминания солдата. Смоленск, 1998. С. 13.
[Закрыть]
Сделать военную карьеру в небольшом по численности рейхсвере было сложно и проблематично, но Гудериану повезло: как штабного офицера его переводят в инспекцию военных сообщений, в отдел автомобильных войск. Инспекцию возглавлял тогда генерал фон Чишвитц, под руководством которого разрабатывались планы использования автомобильных войск в условиях боевых действий.
В годы Первой мировой войны уже осуществлялась переброска войск к местам боевых действий. Но такие операции проводились в условиях позиционной обороны. Теперь же задача усложнялась, переброски предстояло производить в условиях маневренной войны.
Во всех организационных вопросах, касающихся поставленной задачи, Гудериан находил непосредственную поддержку командира батальона майора Лутца, с которым он проработал много лет и которому был во многом обязан своим продвижением по службе.
При разработке планов использования автомобильных войск возникало немало чисто технических проблем. Например, бензосклады. Сколько их надо было иметь? Ответ напрашивался сам – исходить следует от количества имеющейся техники. За бензоскладами потянулась целая цепь специальных сооружений для транспорта – гаражи, автомастерские, заправки. И все это должно обслуживаться подготовленным техническим персоналом.
Однако техническое обслуживание моторизованных войск в условиях маневренной войны – это еще не решение всей проблемы. Войска еще надо было охранять. И наиболее эффективным средством охранения могли быть лишь бронетанковые силы.
Для Гудериана этот род войск был новый, совершенно не знакомый ему. По ходу составления планов надо было изучать устройство танков и бронемашин. Новая техника пришлась ему по душе, в ней он увидел большое будущее. Изучая возможности использования бронетанковой техники для охранения моторизованных войск, перебрасываемых на достаточно большие расстояния, Гудериан пришел к мысли, что танки и броневики можно использовать и для других целей – нанесения удара по противнику.
Обратился к практике мировой войны. Она хотя и была, но у немцев оказалась незначительной. Гораздо больший опыт в этой области имели французские и английские войска. И Гудериан взялся изучать историю развития бронетанковой техники, которая в дальнейшем стала не просто навязчивой идеей, а смыслом его жизни.
Материала по использованию германских бронетанковых подразделений в Первой мировой войне в отделе перевозок было так мало, что они практически ничего не давали, зато статьи и книги английских специалистов танкового дела Фуллера, Гарта и Мартеля открывали новый мир, обогащали фантазию Гудериана. Уже в начале 20–х годов военные специалисты ставили вопрос о превращении бронетанковых войск из рода вспомогательного в основной. «Они (зарубежные специалисты. – В.П.) ставили танк в центр начинающейся моторизации нашей эпохи и являлись, таким образом, крупными новаторами в области разработки современных методов ведения войны»,[6]6
Гудериан Г. Указ. соч. С. 18.
[Закрыть] – писал Гудериан.
В рейхсвере Гудериан приобретает известность как военный специалист, теоретик в вопросах использования бронетанковых сил в наступательных и оборонительных операциях. Он читает лекции строевым и штабным офицерам, упорно изучает историю военной кампании Наполеона, находя в ней много поучительного, в первую очередь таких моментов, как проведение наполеоновскими маршалами маневренных операций в Европе и России.
Особую заинтересованность проявлял Гудериан к опыту германской армии периода Первой мировой войны. К командующему Восточным фронтом Гинденбургу и его начальнику штаба Людендорфу относился с особым почтением, считая генералов «образцом германского солдата».
Несмотря на жесткие условия Версальского договора, рейхсвер жил и укреплялся. Его командование придавало особое значение развитию автобронетанковых войск. И конечно же, теоретические разработки Гудериана по использованию танков в целях охраны военных перевозок, а уж тем более использованию их в решении тактических задач не могли не оказаться в центре внимания высшего военного руководства.
Гудериан утверждал, что придание танков пехоте не может иметь решающего значения, наиболее эффективно они могут быть использованы как самостоятельные объединения войск, скажем, дивизии, с приданием им артиллерии, пехоты и кавалерии. Такую точку зрения разделяли не все высокие армейские чины, в том числе и инспектор военных сообщений генерал Отто фон Штюльпнагель. Танковые дивизии, считал он, утопия, можно было вести речь лишь о танковых полках.
Самую идею танковых соединений надо было отстаивать, эффективность использования танков с приданием им других родов войск – доказывать на практике. Вполне осознавая трудности, Гудериан все же решился и отстаивать, и доказывать. В этом ему оказывал содействие начальник штаба инспекции автомобильных войск полковник Лутц, давний покровитель, а после ухода в отставку Штюльпнагеля занявший его пост.
Практическая работа в этом направлении началась с того момента, когда майор Гейнц Гудериан принял под свое командование автомобильный батальон четырехротного состава. Одна из рот была вооружена старыми бронемашинами, которые не запрещалось иметь по Версальскому договору, в двух других – лишь макеты танков. Настоящее вооружение – пулеметы имела лишь мотоциклетная рота. Батальон стал своего рода экспериментальной базой, где отрабатывалась модель будущих танковых соединений.
Теория хороша только тогда, когда подкрепляется практикой, а практиковать на жестяных макетах танков не только несподручно, но и неэффективно. Требовалась не бутафорская, а настоящая техника – более современные танки и бронеавтомобили. И тут на помощь германскому рейхсверу приходит недавний противник – Красная Армия. Ранее уже говорилось о подписании ряда договоров Германии и СССР, в которых были секретные статьи, касающиеся развития германских вооруженных сил в обход международного Версальского договора. В частности, одна из статей касалась создания танковой школы в Казани под кодовым названием «Кама». Школа, как стало известно недавно, работала под вывеской «Технические курсы Осоавиахима», прототипа более известного нам ДОСААФа.
Есть предположение, что в этой школе учился и отец танковых войск Германии Гейнц Гудериан, хотя он никогда не упоминал об этом в своих мемуарах. Лишь в книге «Воспоминания солдата» краешком обмолвился: «С 1926 года за границей работала опытная станция, где производились испытания немецких танков».[7]7
Гудериан Г. Указ. соч. С. 27.
[Закрыть]
Тут же он говорит и о заказе различным фирмам на производство двух типов средних и трех типов легких танков. Скорее всего, эти танки изготовлялись тоже на советских заводах.
В 30–е годы в Германии уже началось производство своих легких танков, вооруженных 37–мм пушкой и пулеметом, и средних танков, вооруженных пушкой калибром 75 мм и пулеметом. Общий вес танка не превышал 24 тонн, такова была в то время грузоподъемность мостов на дорогах Германии. Но скорость машин конструкторы увеличили с 20 до 40 километров.