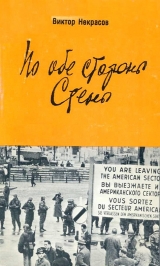
Текст книги "По обе стороны Стены"
Автор книги: Виктор Некрасов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
11
Ночной зефир
Струит эфир.
Шумит, бежит
Гвадалквивир…
А. Пушкин
Всегда путал, кто что струит – зефир эфир или эфир зефир. И вообще одно напоминало розовое, пухлое пирожное, а другое – (бр-р!) зубоврачебное кресло. А Гвадалквивир? Вовсе, оказалось, не шумит и никуда не бежит, а так, что-то очень спокойное, застоявшееся. Разочарование. Как и мадридская Мансанарес – помним еще по гражданской войне, линия фронта, – ничтожная, как киевская Лыбедь или так же разочаровавший два года тому назад Иордан…
Гвадалквивир, Испания…
В самом начале, во вступительном слове, я упоминал уже об Испании как о чем-то очень далеком, несбыточном, красивом и недосягаемом. Испания – мечта, сказка… И никогда ты туда не попадешь.
«А что ты, живя еще на своем Крещатике, хотел бы узнать от друга, оказавшегося вдруг в Париже или Испании?»
И вот я опять оказался в ней.
Испания…
Для моего поколения Испания – это не только корриды, Дон-Кихот, Веласкезы, Эскуриалы и тайны мадридского двора, это и Гвадалахара, Герника, та самая Мансанарес, Университетский городок, Карабанчель, «альто» и «бахо» в героическом – No pasaran! – Мадриде, интернациональные бригады, Пассионария, Хемингуэй… Франко – сволочь и враг, прислужник Гитлера и Муссолини, фалангисты и марокканцы – звери и головорезы, республиканцы – смелые и отчаянные ребята, дерутся, как львы. Все мы мечтали в Испанию…
Вместо этого я, с нарисованными углем усиками, изображал франкистского офицера, ведущего на казнь Гарсия Лорку. Во всеми забытой пьесе Г. Мдивани «Альказар». Играли мы ее на гастролях в Днепропетровске летом 1937 г. (Помню, как обомлели мы, прочитав в висевшей на стене «Правде» сообщение о Тухачевском, Якире, Уборевиче и других изменниках.) Содержания пьесы я, конечно, не помню, помню только, что всё сводилось к героизму республиканцев и жестокости франкистов. История этой войны – репетиции Второй мировой, – очевидно, ждет еще, как говорится, своего историка. Объективного и бесстрастного, как Фемида. Возможно, что-то уже появляется в нынешней Испании – не знаю, – но кое с чем, не совсем совпадающим с тем, как мы представляли себе эту войну, я столкнулся.
Вряд ли кто заподозрит меня в особой симпатии к Франко – диктатор есть диктатор, со всеми им присущими жёсткостями и слабостями – но, ей-Богу ж, его режим – это детский сад по сравнению с режимом другого генералиссимуса (Господи, разучился уже писать это слово, запутался в «с»…) Габриэль Амиама, гостеприимный мадридский наш хозяин, в шестилетнем возрасте вывезенный в Советский Союз и вернувшийся в Испанию в 1959 году, рассказывал, что регулярно получал по подписке в Мадриде «Правду», ни один номер не пропал. Само собой разумеется, и заграничные поездки никому не возбранялись – езжай, куда хочешь! И все же фашизм! Без лагерей и Освенцима, но фашизм. В ООН не приняли. Не могут забыть «Голубую дивизию», которую, кстати, кое-кто из русских тоже вспоминает, как одесситы – румын, украинские села – итальянцев.
Но я вспомнил об Альказаре. Вернемся ж к нему, не к пьесе, к другому. Тяжелым, массивным кубом с башнями по углам возвышается он над Толедо, над путаницей его улочек, над прилипшими друг к другу двух-трехстолетними домами, над извилистой, окружающей весь стоящий на холме-утесе город, на этот раз шумящей и бегущей рекой Тахо. Построен был он как замок, как крепость, еще при Карле I. К началу гражданской войны в толстых стенах его находилась военная академия – пехотная и кавалерийская.
В пьесе Мдивани осада Альказара представлена как некая героическая страница в истории республиканской армии. Насколько я мог понять, это не совсем соответствует действительности. Сама осада длилась недолго – 70 дней – с 21 июня по 28 сентября 1936 года, в самые первые дни войны. В крепости засели франкисты, город был в руках республиканцев.
Как ни странно, но в продающемся в каждом киоске альбоме «Всё Толедо» в самом тексте ни слова не сказано об обороне Альказара, только под одной фотографией – командного пункта полковника Москардо, коменданта крепости, – несколько строчек об этом полуразрушенном кабинете, сохраненном в нетронутом виде, «печальным свидетелем героической обороны».
В малюсенькой брошюре «Эпопея Альказара в Толедо» – в киосках ее нет, только в самом Альказаре – всё изложено подробно.
Защитников было 1200 человек, не считая более чем пятьсот женщин и детей (семьи защитников), упрятанных в подвалы. Осаждавших во много раз больше, поддержанных полевой и 105– и 155-миллиметровой артиллерией, к тому же и авиацией. За два с лишним месяца крепость была почти полностью разрушена. Около половины защитников было ранено, 105 человек убито. Но выстояли. 28 сентября подоспевшие войска генерала Варела осаду сняли. Республиканцы отступили за Тахо.
Один из эпизодов обороны. На второй день после начала осады – 23 июля. Телефонный разговор между осаждающими и осажденными. На одном конце начальник милиции республиканцев, на другом полковник Москардо.
Нач. милиции – На вас лежит ответственность за дальнейшие жертвы и преступления. Я требую сдачи Альказара в течение десяти минут. В противном случае будет расстрелян ваш сын Луис, который здесь, в наших руках.
Полк. Москардо – Не сомневаюсь в этом.
Нач. милиции – В доказательство того, что я говорю, ваш сын возьмет сейчас трубку.
Луис Москардо – Папа!
Полк. Москардо – Что происходит, сын мой?
Луис Москардо – Ничего. Они сказали, что расстреляют меня, если ты не сдашь Альказар.
Полк. Москардо – Тогда вручи душу свою Всевышнему, воскликни «Да здравствует Испания!» и умри как патриот.
Луис Москардо — Крепко целую тебя, папа.
Полк. Москардо – Я тоже крепко тебя целую, мой сын. (Нач-ку милиции): Ваш ультиматум бесполезен, Альказар не будет сдан никогда.
Луис Москардо был расстрелян. Ему было 23 года.
Мне, в свое время воевавшему против фашизма, олицетворявшего всё самое бесчеловечное и жестокое, было как-то не по себе, когда я стоял в Альказаре перед портретами двух фашистов – отца и сына – двух героев… Разве могут у фашистов быть герои? Героическая оборона?
Альказар полностью восстановлен. Перед ним памятник. Женщина. Испания… В воздетых к небу руках меч. Такая же женщина, как в Ленинграде на Пискаревском кладбище, торжественная, величавая, спокойно глядящая в будущее – только у этой в руках меч, а у той цветы – а на Мамаевом кургане у такой же, уверенной в победе, но экзальтированной, тоже меч, да еще занесенный.
Мамаев курган…
Казалось бы уже столько о нем сказано, написано, вспомянуто, а я вот опять к нему. Да. Но не к тому, изрытому лопатами и бомбами, исползанному на брюхе вдоль и поперек, усеянному скрюченными, замерзшими трупами, и нашими, и вражескими, нет, не к нему, а к сегодняшнему, где не найти уже следов окопов, где всё подметено и подстрижено, где лестницы и бассейны, устрашающие скульптуры голых и полуголых защитников и над всем этим та самая Мать-Родина с мечом в руке – стометровая, самая большая в мире, больше статуи Свободы…
Я думал, вспоминал о Мамаевом кургане, подъезжая по длинной, вьющейся среди низкорослого сосняка, пустынной аллее, ведущей к Долине Павших.
Valle de los Caidos – Долина Павших – мемориал в честь павших в гражданскую войну. В шестидесяти километрах от Мадрида, недалеко от Эскуриала, на высокой скале, среди лесов, холмов, озер.
Режимы, основанные на силе, не могут без грандиозного. Мощь, величие, циклопические размеры, Нюрнбергский стадион, стадион «Олимпико» в Риме, мемориал в Бресте, Мамаев курган, к счастью, неродившийся Дворец Советов с теряющимся в облаках Ленином.
Памятник, который открылся нам после последнего витка дороги, тоже грандиозен. Скала. На ней крест, видный за десятки километров. 150-метровый. В скале, в самой скале, храм. Перед ним эспланада. Вокруг, насколько хватает глаз, леса, долины, озера, вдали снега Сьерра-Гвадаррамы, над нами небо, жаворонки.
Впечатление сильное – ничего не скажешь. Особенно, когда, пройдя сквозь бронзовые врата, вступаешь в прохладную, гулкую базилику, теряющуюся далеко где-то вдали. Полумрак, с трудом можешь различить гобелены на стенах. Сцены из Апокалипсиса. XVI век. Предполагается, что соткано по эскизам Дюрера. Впереди распятие, сияющее среди сумрака. Ты идешь долго, очень долго. В нишах рельефные изображения Мадонны. Мадонн Кармель и Лоретт – покровительниц вооруженных сил на суше, на море и в воздухе, Мадонны Африки – покровительницы пленных, и четвертой – Пилар. Одна галерея сменяет другую. Крипта… Четыре бронзовых архангела. Михаил – вождь небесной рати, Гавриил – вестник Бога, Рафаил – целитель, и ангел смерти – Азраил с поникшей головой. У Гавриила, возвестившего Деве Марии о рождении Христа, в руках почему-то меч, кажется, единственный во всем этом храме жертвам войны. Посередине алтарь полированного гранита. На нем распятие. Из можжевельника, полихромное – в Испании во всех церквах деревянная скульптура раскрашена. Над головой, на сорокаметровой высоте, купол. Мозаичный – души возносятся к престолу Христа.
У подножья алтаря, с одной и другой стороны, две плиты. Франсиско Франко и Хосе-Антонио Примо-де-Ривера. Цветы.
Идея памятника – идея Франко. Он задумал, при его царствовании и воздвигли. Памятник всем павшим на войне. И тем, и другим. Церковь благословляет всех проливших кровь испанцев. Она не делает различия. Крест на скале осеняет Испанию, всю, всех ее сынов.
А всех ли? – слышу я голоса. Учтены ли две тысячи испанцев, погибших уже после войны по воле этого маленького властолюбивого генерала, лежащего под плитой у подножия распятого Спасителя? Кто ответит на это? Азраил – ангел смерти?
…На кладбище это мы натолкнулись совсем случайно. Искали Усть-Камчатский рыбокомбинат. Нам сказали, что он в конце длинной пыльной улицы, именуемой «Комсомольской», возле кинотеатра «Родина». Мы пошли по длинной пыльной улице и натолкнулись на кладбище. В самом центре площади – громадной, бесформенной, песчаной. Возле самого комбината, напротив «Родины».
Я видел много кладбищ в своей жизни. Разных. Тихие ухоженные рижские, где за оградами на волнообразно причесанном песке лежат как бы невзначай брошенные хризантемы. Заросшие деревенские погосты с черными, покосившимися крестами. Новодевичье с часовенкой над могилой Чехова и двумя холмиками рядом – большим и маленьким – Станиславского и Лилиной. Видел Арлингтонское в Вашингтоне, где похоронен сейчас Кеннеди. Там холмиков нет, только маленькие плитки бесконечными, уходящими вдаль рядами. Средневековое пражское, в самом центре города, где древние каменные плиты с полустертыми надписями подпирают и выталкивают друг друга. Видел по ранжиру построившиеся белые кресты «айзенкрейцтрегеров» – кавалеров Железного креста – у развалин универмага в Сталинграде. И старое, разрушенное еврейское в Киеве, у Бабьего Яра. Видел Трептов-парк в Берлине, Вечной славы в Киеве, одинокие крестики на Мамаевом кургане, поставленные окрестными жителями, Марсово поле в Ленинграде и десятки, сотни маленьких кладбищ на околицах сел и деревень со стандартными фигурами печально склонившихся воинов.
Кладбище, на которое мы натолкнулись, не имело ни тропинок, ни дорожек. Десятка два воткнутых в землю железных труб, колючая проволока. Внутри с полсотни почти сравнявшихся с землей холмиков, кресты из тех же ржавых труб, полусгнившие деревянные пирамидки. Здесь давно не хоронят. С трудом можно разобрать надписи на табличках. Их почти не видно – ветер, дождь, снег, годы…
В. С. Пекарский
р. 1933, ум. 1940
(Погиб в пургу в своем дворе)
Семилетний мальчишка вышел, очевидно, по нужде во двор и не вернулся. Пурга. На Камчатке снегом заносит дома иногда по самые трубы…
Рыжков А. И.
р. 1912 Погиб I/IX-40 от удара лошади
Кому-то показалось необходимым сообщить нам, – отчего умер двадцативосьмилетний Рыжков.
Вот мрачный, некладбищенский юмор:
Здесь покоится прах умерщвленного Бахусом
моряка р.р. «Юпитер» Михайлова С. К. 1902–1954
Написал друг и собутыльник. И крепко выпил, когда заказывал табличку. И очевидно, так же кончил…
На кресте спасательный круг. Внутри круга табличка, сохранившаяся почему-то лучше других. Может, круг и спас от непогоды. Надпись:
Погибли в барах 27/1–36
Туманов, Степаненко
Спасая товарищей, погибли вместе с ними,
Спасая Андреева, Сидоркина, Зиновьева, Слюняева, Кочергина.
Бары – это подводные наносы песка у устья реки. Это очень опасные места, рыбаки это знают. И все же гибнут. Вот так же и эти ребята погибли.
Кто они? Никто не знает. Никто не помнит. Это было так давно, почти тридцать лет назад.
Еще одну надпись удалось разобрать. Тоже погибли в барах.
Моряки к/р «Исследователь» —
Куртин Д. Р. 1912, Воскресенский И. П. 1915 г.
Тоже тридцать лет назад – 9/Х—1935.
Об остальных ничего не известно – остались только холмики, заросшие жалкой травой, размытые дождями; на одном из них – пустая поллитровка и недоеденная банка болгарского перца…
И быльем поросло… Какое меткое, какое грустное, страшное слово.
Стоит себе кладбище, обнесенное проволокой, в самом центре площади, против кинотеатра «Родина». И никто его не замечает. Стоит, ну и пусть стоит. Привести в порядок? А средства? А кому? Дел и без того хватает. Вот с планом, например. Должны были к 1 июня… И тебе начинают говорить о плане, нехватке оборудования, ремонте цехов, прогнозе погоды. И телефон надрывается, и кто-то что-то требует, кто-то в чем-то отказывает, и опять что-то срывается или может сорваться. А ты о каком-то кладбище…
Я позволил себе привести этот маленький, давно мною написанный рассказик о далеких камчатских могилах, так как часто вспоминаю о них. И на Мамаевом кургане, попадая туда, и бродя среди поверженных плит разрушенного по чьему-то высочайшему повелению еврейского кладбища в Киеве, и здесь, у ног гигантского распятия на скале. Вспоминаю и в горестные дни, когда хороню друзей.
Мы хоронили Сашу Галича. Неожиданная, нелепая смерть, в которую как-то и поверить было трудно. Он лежал на полу, большой, грузный, а над ним его убийца – сияющий никелем «Грундиг» – именно о таком он мечтал, большом, ультра-стерео, с бархатным звуком. Он любил музыку… Потом пришли полицейские. Тихо, беззвучно, точно боясь причинить ему боль, уложили в гроб. Сняли и отдали мне крестик. И ушли. Унесли, тихо прикрыв за собой дверь.
Потом мы его хоронили.
Хоронили на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. И в этом было тоже что-то непонятное, несуразное. Не в Москве, где его знали, любили, слушали собравшись у друзей, не в России, поющей его песни везде – в глухой тайге, на Курилах, в знатных домах, в общежитиях, в тюрьмах и лагерях, – а здесь, в Париже, на тихом кладбище Сент-Женевьев-де-Буа…
Какое красивое, задумчивое, какое нефранцузское кладбище. Там камень, мрамор, гранит, плиты, склепы, мавзолеи. Здесь березы. Много, много берез. И под ними кресты… Бунин… Ремизов… Зиновий Пешков, французский генерал, приемный сын Горького… Вика Оболенская – героиня Сопротивления… Теперь и Саша Галич.
Здесь похоронена эмиграция. Здесь «свалка истории». Та самая, где и мы, грешные, окажемся. И лежать нам рядом с Буниным, Ремизовым, Сашей Галичем… И рядом с дроздовцами, корниловцами, хорунжими Войска Донского, атаманом Улагаем.
Все смешалось в доме… Нашем доме. Разметало живых и мертвых по всему свету. Живые, и тут и там, тянут (одни пешком, другие на машинах) свою неодинаковой тяжести лямку. Ушедшие, кто на Новодевичьем, кто в Сент-Женевьев-де-Буа, кто в Бабьем Яру, кто просто в яме с биркой на ноге.
Хозяева России… Одного пристрелили, сожгли со всеми близкими, развеяли по ветру. Другой покоится еще в хрустальном гробу, и миллионы, миллионы выстраиваются в очередь, чтоб посмотреть на мумию (кто-то пророчески сказал – пока будет существовать эта очередь, будет существовать и советская власть). Третий – царь царей – какое-то время пролежал рядышком, потом выдворили – тайно, ночью, без свидетелей, – и на могиле его у кремлевской стены три, включенные в какую-нибудь ЦКовскую ведомость, цветочка, как у какой-нибудь Крупской (у Гагарина до сих пор горы цветов, без всяких ведомостей). Ближайшему другу и соратнику царя пустили пулю в лоб или в затылок другие его соратники. В кремлевскую стену запихивают каких-то Кулаковых, а основные кандидаты туда доживают свой век, копаясь в огородах и гадая, куда их бренные останки денут. Куда, например, девать «Вячека-Каменную Задницу», тов. Молотова В. М. когда он отдаст, наконец, душу Богу или дьяволу? На Новодевичьем, рядом с Никитой? Или можно все-таки на центральную аллею – в деятельности Никиты Сергеевича, как-никак, «проявился волюнтаризм и субъективизм» (БСЭ, том 28), а у Вячеслав Михайловича ничего не проявилось – «с 1962 года на пенсии» (БСЭ, том 16) – грехов не было. Ни крови на руках, ни отклонений от линии. (Тов. Тов. Кагановича и Маленкова в БСЭ и вовсе не найдешь – не было таких, и точка).
Смешалось, смешалось, всё смешалось…
Хожу по аллеям тихого, зеленого кладбища. Почти как киевское, Байково, где за одной решеткой покоятся мама, бабушка, тетя Соня. Передо мной на столе фотография – скромный памятник, крест. У ограды пожилая, седая дама. Я с ней никогда не встречался, она эту фотографию, снятую в Киеве два года тому назад, прислала из далекой Австралии. И несколько засушенных цветочков с могилы. Вера Павловна Тоцкая… Авось, мы когда-нибудь встретимся, и я смогу сказать ей всё, что в данных случаях хочется сказать.
Брожу по дорожкам среди берез и плакучих ив, ослепительно ярких, пушистых елей… Иван Шмелев. Константин Сомов. Мережковский и Зинаида Гиппиус. Художница Серебрякова. Я с ней когда-то переписывался – послал ей фотографию с портрета ее няни. Забытый ею, висевший у меня на стенке. Борис Зайцев…
И рядом много-много действительных статских советников, членов Государственного совета, корнетов лейб-гвардии кирасирского Его Величества полка, прапорщиков, поручиков, капитанов. Гофмейстерина Высочайшего Двора Е. А. Нарышкина, урожденная княжна Куракина. Маркиз А. А. Андро де Ланжерон… Монумент памяти генерала Деникина, барона Врангеля, адмирала Колчака, всех тех, с бородками и в папахах, теряя оружие, на костылях, в панике бегущих от красного штыка в мозолистых руках, какими мы знали их по карикатурам Бориса Ефимова, Дени, Кукрыниксов…
Вот мои будущие соседи…
И среди них один только Саша Галич – близкий, свой, так рано и нелепо ушедший.
Кружу по аллеям. Кресты, кресты, кресты. Мраморные, гранитные, металлические, простенькие деревянные.
Умер, скончался, мир праху твоему… Памяти 15 тысяч убитых в боях дроздовцев… Памяти Вики Оболенской, кавалера ордена Почетного легиона, расстрелянной немцами под Берлином 4 августа 1944 года.
В. С. Пекарский – погиб в пургу в своем дворе…
Погибли в барах, спасая товарищей – Туманов, Степаненко – погибли вместе с ними.
И стоит себе кладбище, обнесенное проволокой, в самом центре площади, против кинотеатра «Родина». И никто его не замечает. Стоит, ну и пусть стоит…
Немцы… Не те, «айзенкрейцтрегеры» у сталинградского универмага, которые в нас стреляли, а другие, у берлинской Стены. Вдоль всей Стены кресты. На них венки, у подножья цветы. Преступники, изменники! Хотели убежать из тюрьмы. При попытке к бегству. Пулю в спину…
12
Бог ты мой, как далеко увела меня могила чужого, маленького (а кто из них был выше? Кажется, один под стать другому) генералиссимуса?
Вернемся ж с печальных кладбищ Камчатки и Франции на раскаленный, плавящий сорокаградусной июльской жарой мозги, Иберийский полуостров. Поговорим о чем-нибудь менее грустном, о красивом, о старине. Всего этого хватает в нынешнем королевстве Бурбонов.
Удивительное все-таки королевство – не привык я к этому в нашей федерации свободных республик – единственный портрет короля Испании (кроме марок) мы увидели за день до нашего отъезда, в маленьком городишке Фигерос, в… музее Сальвадора Дали. Прославленный художник, подаривший родному городу этот музей, отъявленный монархист и друг нынешнего короля Хуана-Карлоса – портрет его, во весь рост, вполне официальный фотопортрет, в адмиральском, если не ошибаюсь, мундире, на самом почетном месте. И без всяких штучек-мучек и выкрутас, столь любимых мастером. Нет – тут пиетет более чем неожиданный.
Но это было в конце путешествия, до него еще пять тысяч с лишним километров, начнем же с начала, как в старое доброе время.
Выехали мы из дому в субботу, восьмого июля, в семь часов утра. Не на «Симке» или «Рено», а на терракотового цвета «Ауди», купленной Витей за 13 тысяч франков (одни считают, что дорого, другие, что дьявольски повезло) и проехавшей у прежнего своего владельца за четыре года 58 тысяч километров. Ехало нас трое – мы с Витей спереди, перетянувшись предохранительными ремнями, Мила, его жена, сзади, где иной раз можно и всхрапнуть, устроившись вдоль сиденья. Тогда на какое-то время прекращались указания насчет светофоров или уменьшения скорости до 90 км/ч, выше которой начинающему водителю (наш, Витя, получил права два месяца тому назад) развивать нельзя.
Маршрут – через Андорру до Барселоны, дальше, по побережью, до Альмерии – это самая южная точка – затем на север – Гранада, Севилья, Кордова, Толедо, Мадрид – и, предполагалось, через Бильбао – Сан-Себастьян назад, домой. Длительность поездки – три недели.
Время для туризма выбрано было не лучшее – нас стращали сверхчеловеческой жарой (была-таки) и тридцатью семью миллионами туристов, которыми пугал зачем-то других туристов испанский министр туризма и информации (не так оказалось и страшно – страшно на Коста-Браво, на модных пляжах севернее Барселоны). Пугали нас и отсутствием гостиниц, вернее, забитостью их все теми же тридцатью семью миллионами. И мы взяли палатку.
Ах, палатка, милая ты наша палатка… Три минуты, и она разбита. Где-нибудь среди агав и камышей, у самого синего моря. Надуваются матрацы. Разжигается примус, вернее, голубая газовая плитка-горелка. Готовится ужин. Потом, насытившись и развалившись в складных наших креслицах (купили по дороге вместе со столиком, захотелось комфорта), покуриваем, любуясь закатом и первой на чистом-чистом небе звездочкой. Подводим итоги дня…
Буду откровенен – упомянув выше об агавах и камышах, я картину несколько приукрасил. Они украшали наш быт только однажды, под Таррагоной, в основном же, окружавшее нас напоминало скорей свалку. Мы выбирали места попустыннее, подичее, но отдыхающий испанец или иностранный турист до нас уже тоже здесь побывал. И не так уж старательно за собой убирал. Но рядом было море, теплое, прозрачное, приветливое, и мы наслаждались им и вечерней звездой, плюя на банки и скомканные газеты.
Ребята жили в палатке, жалуясь иногда на то, что что-то капает сверху, я в машине, откинув спинку. Утром болела шея, но после купания все проходило. Ели комары. Победили и их, купив какое-то средство. Короче – я окунулся в нечто давнее и прекрасное.
В том давнем и прекрасном не было палаток, ночевали в каких-то пещерах или у сердобольных горцев, в душных их саклях. И никаких машин, всё пешком. За спиной жалкие наши рюкзаки (куда до теперешних, с какими-то металлическими рамами), в рюкзаках хлеб, концентраты, пластинки (четыре коробки – уже вес!), громоздкий, с гармошкой фотоаппарат «Фойхтлендер» – перезаряжай ночью, в штанах, укрывшись одеялом. И протопали мы так все Военно-Сухумские, Военно-Осетинские, Ингурскую тропу, всю Сванетию, забрались даже на Эльбрус… Прекрасные, далекие, златые дни моей весны.
Но и эти, глубоко осенние, немногим уступали тем. К стыду своему, должен признаться, что вечера эти и утра, еще прохладные, пустынные, вдали небоскребы какого-нибудь Аликанте или Бенидорма (на карте генеральной крохотная точечка, а в натуре небоскреб на небоскребе и прочий курортный шик), мусорники наши и свалки, и даже двое полицейских (никак не могли понять, что мы собираемся здесь не пять дней просуществовать, а пять часов, до утра), разговор с которыми кончился дружеским похлопыванием по спинам, именно это – окунание в далекое и прекрасное – вспоминается сейчас с особым умилением.
А Мурильо (лучший – в Севилье), Веласкез, Эль-Греко, Гойя, Зурбаран? А Альгамбры, Альказары, Прадо, львиные дворики в Гранаде, мечеть в Кордове? О да, конечно, что вы, – мы ходили из дворика в дворик, из катедрали в катедраль (я уже как дядя Коля – вакансы, авион, синема…), из зала в зал, от Гойи к Греко, от Греко к Гойе, взбирались на стометровую колокольню в Севилье («подъем легкий, без лестниц», там пандус), спускались в Эскуриале в гробницу испанских королей (кто-то из советских почитаемых поэтов, то ли Ошанин, то ли Островой, неплохо сострил – «лежат один над другим, как чемоданы в камере хранения», – действительно, похоже), побывали в Мадриде на корриде (Мила, как все женщины, осудила – жалко быка), а в Кордове даже в Музее тавромахии (портреты, мулеты, эстокос – шпаги знаменитых тореро), скупали охапками открытки, виды, буклеты, проспекты, альбомы всех городов и музеев, снимались на фоне гениальных творений Антонио Гауди (и всех остальных альказаров, памятников, фонтанов, пальм и авенид) и только на канатной дороге над Барселоной не проехались – Мила сказала, что через ее труп. Короче – чести туриста не уронили. И все же…
Давно и всем известно, что в музеях больше двух-трех залов за раз осматривать нельзя («пойду-ка освежу в памяти Кранаха, Босха…»), в Париже я одно время пытался делать такое с Лувром, но, став волей или неволей туристом, ведешь себя, как турист – всё Прадо снизу доверху, справа налево. Потом уже не чувствуешь ног под собой, валишься вечером, как подкошенный, в своей «резиденции» (так именуются в Испании самые дешевые отели, по-старому «меблирашки», в которых мы и находили приют), и в голове сумбур, каша – где ж мы это видели – в Гранаде, в Толедо, в Кордове? А и там, и там, и там мы видели столько прекрасного, истинного, неповторимого, что, переваривая (или не переваривая) потом все это на своей коечке в резиденции, невольно задаешь себе вопрос – да почему ж всё это? Почему всё вылилось в то, во что вылилось: железо, заклепки, болты, саженные, забрызганные краской полотна, иногда висящее, иногда качающееся, крутящееся, звенящее, пищащее? Понимаешь, что за веком не угонишься, что реформаторы в искусстве всегда были непоняты, что над Клодом Моне и Сезанном в свое время издевались – мазня! – и ругаешь себя за консерватизм, отсталость – и все же – почему? Не буду называть фамилий, чтоб не прослыть дремучим реакционером, но почему на этих, неназванных, я смотрю, потому что нельзя не посмотреть, неприлично, а перед каким-нибудь «Caballero desconcido» – «Неизвестным кавалером» Греко в музее Прадо или перед «Христом, поддерживаемым ангелом» Антонелло де Мессина, впервые увиденным мною в том же Прадо, долго стоишь, и разглядываешь, и что-то стараешься понять, а одним словом – наслаждаешься.
На старости лет я как-то растерялся. Не могу определить, что и почему я люблю. «Кто ваш любимый художник?». Не знаю. Левитан? Пожалуй. А Клод Моне? Тоже. А Серов, Врубель? Да, да, да… Сурикова, вот, меньше. А Микельанджело, Рафаэля, Леонардо да Винчи? Шагала, Пикассо? Отстаньте, не хочу отвечать… «Мир искусства» люблю – Добужинского, Остроумову-Лебедеву, Сомова, книжную иллюстрацию, само оформление книги – на какую же высоту они его подняли. И это моя высота – старый Петербург, каналы, мосты, дворы со штабелями дров, Версальские аллеи Бенуа. Но, когда попав в библиотеку Эскуриала, я увидел рукописные книги XV–XVI века (инкунабулы, что ли?) с изумительной филигранности картинками про королей и принцев, про их охоты и сражения, я понял, что есть высоты в чем-то недосягаемые. В Испании таких высот – что ни город, то высота, горные цепи, кряжи. И взбираясь, карабкаясь по ним, задыхаясь, вдруг останавливаешься перед каким-то пиком и немеешь.
Так было со мной во Флоренции, в Уффици, когда я открыл для себя Паоло Учелло, художника, не так уж много после себя оставившего. С радостью обнаруживал я его потом в Лувре, в Оксфорде.
Впервые увидел я в Лондоне и великого Тёрнера. Знал о нем, но никогда не видел – его картин в Европе почти нет, в Эрмитаже, кажется, только одна. Знал ли (конечно, знал!), любил ли его Клод Моне?
Впервые в Лондоне же узнал я о существовании Джона Мартина. Немыслимых размеров полотна его (я видел только те, что в «Тэт-галлери») изображают всё самое страшное в жизни нашей планеты (тут это модное нынче слово как нигде уместно) – всемирный потоп, конец света, Страшный суд. Вы хорошо помните брюлловский «Последний день Помпеи» – так это детская идиллия, элегия Масснэ в сравнении с грохотом рушащихся скал, раскатами грома и бешеными молниями, сверкающими в клубящихся тучах над гибнущими, тонущими в кипящих океанах мирами. Стоишь оглушенный всем этим ревом и гулом (ты слышишь его!) и трепещешь в ожидании неизбежного конца… Мне эти живописные катаклизмы противопоказаны, но я стоял, и смотрел, и купил потом альбом, и любуюсь сейчас портретом Джона Мартина работы, очевидно, его брата – удивительно красивое, тонкое, утопающее в бакенбардах лицо английского аристократа. И что особенно поражает, это спокойствие лица – как будто ничто в мире человека не беспокоит, мысли его отдыхают среди изумрудных лугов любимой Англии.
Романтизм… Здесь, в Париже, на выставке «Романтизм и символизм» познакомился я с Каспаром Давидом Фридрихом, немецким романтиком, с его затянутыми утренним туманом домиками и горными вершинами, заброшенными кладбищами, руинами замков, серпами полумесяцев над всей этой задумчивой грустью, восходами и закатами, несущимися куда-то тучами, распятиями на диких скалах (почти «Долина павших»…), с его, как выяснилось, знаменитым «Путником, созерцающим облака»…
Густава Моро я знал с детства по одной только его «Саломее», копию с которой делала одна наша знакомая. Теперь же, оказалось, я живу в двух шагах от его музея, в который, хоть он и рядом, попал только после многократных «Как, вы еще не были в музее Моро?». Попал и понял, что он как живописец мне чужд (хотя его и считают родоначальником сюрреализма), а нравятся мне только его тонкие, карандашные рисунки и пейзажи.
Я много слыхал о знаменитом норвежце Вигеланде, о его скульптурном парке «Жизни человека» в Осло (потом и увидел, и понял, что это тоже одна из вершин), но я никогда не слыхал о шведе К. Миллесе, а ведь Millesgarden, Сад скульптуры, – одна из главных достопримечательностей Стокгольма. Миллес своими летящими, парящими, куда-то всегда устремленными фигурами знаменит не только в Швеции – во всем мире, а я услыхал о нем, увидел его на шестьдесят пятом году своей жизни.








