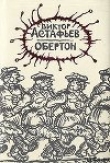Текст книги "Так хочется жить"
Автор книги: Виктор Астафьев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 14 страниц)
Но как же радостно, как же бодро, словно жеребенчишко, вырвавшийся на волю из тесной конюшни, кричал паровоз, миновавший никому не известный мостишко через никому не известную речушку, дергал он тогда, тряс людей в вагонах: слышите, мол, слышите?! Движемся! Прем вперед, может, когда-нибудь, куда-нибудь да доедем!.. Де-эржись, ребята-а-а-а! Не-э-э-э плоша-ай!
Коляша в полуобмороке застонал. Женяра потянула его за рукав бушлата на свое место. Меж ведер, в узлы, в свалку вещей, ног, туловищ засунулся Коляша и не сразу услышал свою остамелую ногу, пошевелил пальцами и почувствовал, как мелко-мелко все в нем дрожит от перетруды сердца, как само оно уравнивается, входит в берега, снимая жар с тела, раскаленного от перенапряжения.
Бывают же счастливые, благостные минуты в жизни!
Так, меняясь местом, молодожены дожили до утра. Коляша сообразил опрокинуть вверх дном чем-то наполненное ведро, сел на него и, положив голову жене на колени, малость поспал. Взяв в перекрестья рук голову и спину Коляши, Женяра оберегала его от толчков и маленько грела руками, все еще шершавыми от мытья соленой водой и керосином.
Проснулся Коляша от бесцеремонно наглого, пересохшего голоса:
– Эй, маршал, в рот те пароход! Спишь, а скоро станция. Я щас ссал в окошко и семафор концом зацепил!.. Го-го-го!
Остряк захохотал первым. Он лежал на второй полке. Выше него, на третьей полке ютился «маршал» – плюгавый сержант с налепленными на погоны и петлицы значками, эмблемками и блескучими нашлепками. Спустившись к своему корешу, он попросил дам отвернуться и довольно ловко, привычно, видать, справил малую нужду в окошко.
– Ваша правда, мой генерал, скоро станция! – подтвердил он. – Готовьтесь опохмеляться.
И в самом деле поезд скоро сжало тормозными колодками, дернуло, осадило, он начал сбавлять ход.
Население «купе» было разнородно. Притиснутая к окошку, спала и всю ночь всхлипывала во сне молоденькая, белобрысая девчонка. Против нее с ребенком у груди, широко открыв рот, спала женщина средних лет. Сторожко к ней приникнув, то и дело вскидывалась, что-то поправляла на бабе и на ребенке, подремывала чуткая, еще крепкая телом старуха. Подле старушки и женщины ютилось трое ребятишек школьного возраста, дальше – одетый в бензином воняющий ватник, глыбой навалившись на стену, ни разу не пошевелившись, грохотал всеми частями, винтами и гайками, сам, как догадывался Коляша, хозяин семейства. Два железнодорожника, очевидно, возвращавшиеся домой с восстановительных работ, братски обнявшись, посапывали возле девушки. Меж ними и Женярой, уронив руки, ноги, отвесив нижнюю губу, растрепанную косу, спала еще одна женщина, некрасиво расшеперив колени, в которых котенком лежал в комок скатавшийся фартук. Что-то зашевелилось на противоположной средней полке, в воздухе, соря крошками сохлой грязи, закачалась деревяшка с криво стертым железным наконечником. Народ просыпался, зевал, чесался. «Мой генерал» – блатняк, как определил Коляша по выговору, – где-то проошивавшийся войну, возвращался куда-то и зачем-то, балагурил, гоготал, чувствуя себя самым главным победителем на земле. Девушка возле окна тоже проснулась, вытерла тыльной стороной ладони губы, подобрала волосы, надвинула на глаза уголок серенькой косынки и отвернулась, прислонившись лбом к стеклу.
– Ну, че? – свесившись с полки, приставал к ней исколотый по груди, по рукам, «исписанный» по морде бритвой «маршал». – Че снилось-то? Кавалер? Жених? Щупал, небось, стишки на ухо шептал? «Напрасны ваши совершенства, их вовсе не достоин я». И выходит, что? Выходит, что создан он для блаженства? Езданул чемоданчик и лататы! Гага-га-а! А ты и жопу расквасила… щастье так близко, так возможно…
– Отстань от человека! Отстань! – сказала пожилая женщина, остерегавшая семейство. – Ей и без того тошнее тошного… И дети тут. Оне от немцев сраму навидались и наслушались, самолучшего, привозного… Тихона разбужу – он тя скоренько уймет! Вылетишь в окно, што воробей!
– Да я… Да…
– Тихо, маршал, тихо! Спертая паровая и половая сила перед тобой. Гляди на детей и учитывай свои возможности…
– Бабуль, а, бабуль, скоко твоему-то?
– Скоко-скоко? Зачем тебе? Ну, тридцать восемь Тихону.
– И уже четверо?
– Не четверо, а пятеро. Один в вакуацию с пионерлагерем попал. И где он счас, родимой? Найдем ли? – засморкалась женщина, – да двоих малюток еще схоронили под немцем…
– Во-от эт-то да-а-а! Во-от эт-то рабо-о-отник!
– И работник! И заботник! Не вам, прощелыгам, чета! Опора державе, надежа народу.
Тем временем поезд остановился на какой-то дымной и мрачной станции. К нему со всех сторон, будто на приступ, ринулись торговки и опять забегали вдоль поезда, от окна к окну, закричали, забренчали котелками пассажиры.
«Маршал» и «мой генерал», опустив в котелке деньги за окно, подняли в обмен лепешку, сорящую отрубями, вареную горячую картоху, огурцы, помидоры, полную пилотку груш и яблок.
– Во дерут, с-суки! Во дерут! Пользуются, что с вагона выйтить нельзя… – лаялся «маршал», а «мой генерал» в это время рядился: – Не-э, не-э. Ты сперва дай попробовать. Не-э, так не пойдет! Нам уж продали разок водичку! Больше не наякорите! Давай-давай!
В аптечном, грязном пузырьке, подобранном, должно быть, под ногами, подана «проба». Ее понюхали, лизнули по очереди «маршал» и «мой генерал», инвалиду-соседу, видать, старому специалисту по напиткам, дали лизнуть.
– Да вроде бы ниче, не особо разбавлена.
– За двести, барыга! Даю двести.
– Ни-и, – раздалось из-за окна. – За двисти покупай у другом мести! В нас дровы дороже…
– Да вы ж уголь тырите!
– За вуголя стреляють.
– Н-ну, падла! Ну двести с полтиной! Ну триста, падла! Нету больше! Ну… С кого дерешь-то? С фронтовиков-страдальцев, а? Ну, ни стыда, ни совести! А ну, кореш, высунь ногу в окно! Да не ту, не ту! Деревянную! Во, с кого ты дерешь! Во кого ты, вонючка, терзаешь своей спикуляцией…
Бутылка, прихваченная грязным бинтом за горло, взметнулась на деревяшке вверх. «Маршал» поймал ее, будто рыбину, прижал к груди: «Оп-ппа-а-а!» – и, погладив трепетной ладонью, поцеловал в донышко.
– М-мух, родимая! М-мух, погубительница рода человеческого! – и заблажил с подтрясом: «А без дених жи-ысь плах-хая, не годицца н-никуды-ы-ы-ы!..»
…Жизнь в купе шла своим чередом, точнее, не шла, ехала. Люди встряхивались, приводили себя в порядок. Наверху пили, веселились, внизу деловитая женщина, намочив из бутылки тряпицу, обтерла лица ребятишек, свое лицо тоже утерла, из той же бутылки маленько попила. Девушка за столиком все так же притиснуто лицом к стеклу сидела, не двигалась, смотрела вдаль. Женщина потянула ее за рукав, подала бутылку. Девушка, неумело отпив из горлышка, выдохнула: «Спасибо!». Питухи сверху предлагали ей тяпнуть, протягивали кружку. Девушка никак на это не откликалась. Мать Тихона меж делом поведала молодоженам историю, приключившуюся в пути с девушкой.
В то время люди, в общем-то, не женились, сходились, как Коляша с Женярой. Бывали, и нередко, случаи, когда мужики, а то и проходимки-бабы «подженивались». Истосковавшиеся где-то в трудармиях, на путях, в казармах, в спецподразделениях девчонки, молодухи и вдовы, подхваченные всеобщим возбуждением, сжигаемые долго сдерживаемыми страстями, попавши в скопища людей, с ходу, с лету соединялись с кавалерами, пылко падали на грудь избраннику, и не раз этакие вот союзы кончались несчастьем. Мошенник-кавалер уносил с собой хранимое, нехитрое девичье имущество.
Вот и эта младая спутница лишилась осчастливившего ее кавалера – ушел, смылся в ночь возлюбленный и чемоданишко прихватил. А она по мобилизации работала на восстановлении путей, ломила наравне с трудармейцами, кое-что заработала, скопила, выменяла на тяжелую рабочую пайку, ехала домой с небогатым, зато своим имуществом.
– Ладно еще, – говорила старая женщина, – в теснотище, в многолюдстве не добрался ушкуйник до главной девичьей ценности. Имущество – дело наживное, но если у девушки пломба сорвата, – тут уж дело непоправимое.
Велись и долго будут хитроумно вестись подсчеты потерь в хозяйстве, назовут миллиарды убытков, невосполнимый урон в людях, но никто никогда не сможет подсчитать, сколько дерьма привалило на кровавых волнах войны, сколько нарывов на теле общества выязвила она, сколько блуду и заразы пробудилось в душах людских, сколько сраму прилипло к военным сапогам и занесено будет в довольно стойко целомудрие свое хранящую нацию.
Пока Коляша предавался глубоким, современным мыслям, троица наверху опохмелилась, начала картежную битву. Валек – так звали «моего генерала» – играл с теми, кто ехал на крыше вагона, посредник меж играющими, инвалид на деревяшке, сноровисто переправлял вверх карты с «ходом» в котелке, привязанном к изношенным обмоткам, принимал подачу обратно. То и дело слышалось: «Туфта!», «Шнекарь!», «Понтит, псина, понтит!», «Эй, на халупе!..» Валек, вылезши в окно, ухватившись рукой за козырек водоотвода, лаялся с кем-то из верхних игроков. «Маршал» и инвалид держали его за ноги.
– Я тя спущу с хавиры и приколю к опшэственному нужнику финкарем, если будешь туфтить. Веди игру честно!..
На полувосстановленном мосту с низко провисшими, негабаритными перекрытиями народ на крышах пал влежку. Слух пронесся: несколько человек все-таки снесло под колеса, тех, кто был привязан к трубам вентиляторов иль по пьянке забылся, – размозжило.
Слухов по густонаселенному, давно и тесно живущему поезду ходило не меньше, чем по переселенческим баракам где-нибудь в таежном поселке, и прорицателей было полно, и певцов, и нищих, и ворья, и торговцев разными товарами, в том числе и фотками, переснятыми с поганых немецких открыток. Игроки напокупали снимков целую горсть, перебирали, комментировали:
– Н-ну, с-сэка, че делат, а?! Наши так не умеют! Уж на что у меня маруха на Екибастузе была, на все дыры мастерица! Да куда ей до заграницы!
– Подучатся!
– Гли, гли, как он ей!.. Н-ну, падла, не могу. Терпленье мое лопается!.. Эй, ты, невеста без места! – навис Валек с полки, тыча снимок девушке в нос. – Гли, учись!.. Как переймешь опыт, лезь сюды! Ну, че ты? Че ты рыло воротишь? Денег дам, накормлю…
На том самом, полуаварийном, негабаритном мосту оторвало котелок с картами, и он, брякнув о переплеты, кружился в воздухе, пока не шлепнулся в воду.
– Полтыщи за колоду карт! – заорал Валек голосом Карла Великого, сверзившегося во время боя с седла с криком: «Полцарства за коня!» – Ну, тыщу!..
В это время в вагон вошел отряд военных, проверяющих документы. Старший из них, видимо, был уже наслышан о вольнице в этом вагоне, да и Тихон, глава семейства, не подававший вроде бы и признаков жизни при приближении патрулей вытащил пачку документов, стянутую красной резинкой, и, указывая наверх, сказал:
– Вы не нас, вы их вон, шпану эту, как следует проверьте да этапом куда следует отправьте. В общественном месте им, паскудникам, быть не полагается.
Когда «моего генерала» и «маршала» повели из вагона, а присмиревшему инвалиду погрозили пальцем, Валек прошипел: «Финарь по тебе тоскует!» – рогаткой пальцев хотел ткнуть в глаза Тихону, но тот неожиданно проворно перехватил его руку и крутанул так, что в блатяге что-то хрустнуло, он осел на пол, уронив ведро. Тихон подержал его мордой к полу.
– Попадись мне – ноги из жопы выдерну!
На полках разместили ребятишек и жену Тихона. Постелив шинеленки, сунув узел с манатками в голову, супруги Хахалины легли на нижнюю полку и попеременке спали до самого Киева, куда прибыли глухой ночью, и там, конечно, никто никого не ждал.
Киевский вокзал чудом не рухнул до основания – в нем сохранился нижний этаж, и, сидючи пока на улице, в закутке, возле стенки, впритирку к военным, Коляша услышал еще одну чудную притчу, которых в те годы возникало и ходило тьма. Вокзал этот, якобы, был строен по французскому проекту. Но нашим, российским строителям фундамент, крепления, перекрытия и прочее показалось весьма и весьма хлипким. Они увеличили мощность главных узлов вдвое или даже втрое. Немцы ж народ шибко грамотный. Он, немец, и убивает, и разрушает все по науке. Так вот, немцы заложили в киевский вокзал взрывчатку с расчетом на французский проект, рванули германской взрывчаткой, и по германскому разумению вокзал должен был разрушиться. Но проект-то французский, динамит немецкий, да вокзал-то наш, российский, и хрен возьми – обвалившуюся на него тяжесть первый этаж удержал, и народу достался весь обширный нижний зал вокзала, к которому было уже кое-что пристроено, примазано, прилеплено. На втором этаже начались восстановительные работы.
Как часто немецкий порядок, сталкиваясь с беспорядком советским, терпел сокрушительное поражение! Если б фюрер и его сподручные учли, с каким невиданным бардаком они столкнутся, может, поняли бы, что заранее обречены, глядишь, и войну не начинали бы…
На киевском вокзале и в окрестностях его скопилось более тридцати тысяч одних только военных пассажиров. Чтобы получить по продталонам паек – булку хлеба и две селедки – надо было стоять за ними не менее трех суток. Уехать пассажирским поездом из Киева практически было невозможно. Помочь могли только сила, наглость и взятка – ничем этим Коляша с Женярой не располагали.
Утром, когда ожил, зашебутился народ, Коляша понял, что одну, очень большую оплошность он уже сделал – надо было ночью сходить в уборную, непременно велеть сходить туда и Женяре. Коляша простоял в очереди к заветному очку более часа. Из уборной в воронкой продавленный бетонный пол вспененным потоком хлестала моча, неся в бойких струях окурки, плевки, бумажки, тряпочки.
Поток мужиков раздвоился, и второе, более шустрое крыло взяло направление в женский туалет. Оттуда тоже скоро вылился вялый, но с каждой минутой мощи набирающий ручей. Воронка средь вокзала переполнилась. Из нее устремился ручей к порогу, через порог, через перрон, на пути.
Бабенки танцевали и ныли возле своего туалета, взывали к мужицкой совести. Да куда там?! На ходу водворяя на место добро, деловито застегивая ширинки, иные военные еще и пошучивали, один зло бросил на ходу:
– Обоссали офицерские блиндажи на войне, подмочили крепкие наши тылы, теперь приучайтесь в штаны!
– Ах так! Вы еще и глумиться! – закричала мужеподобная женщина-майор, с танками на погонах и, выхватив из кобуры пистолет «ТТ», казавшийся огромным и нелепым в ее неожиданно красивой руке, половину обоймы высадила в потолок.
– Ря-а-ату-уйте! – заорали наверху.
Произошло смятение, спрашивали, кто кого убил. Мужики шарахнулись от женского туалета. Крикнув: «За мной!» – майорша с обнаженным пистолетом вошла под низкие своды сортира, загазованного что вредный химический цех, и оттуда в панике сыпанули бравые вояки, иные со штанами в беремя.
– Быстро, пока мужики не очухались от потрясения, рви! – скомандовал Коляша. Женяра юркнула в женский табун.
Только на вторые сутки молодые супруги втиснулись в тесноту вокзала. «Держи деньги в темноте, а девку в тесноте!» – усмехнулся Коляша. Молодая супружница Хахалина почти не ела, не пила. На улице ночью шибко они промерзли, – раскашлялась она, жалась к Коляше, пытаясь согреться. «Не заболела ли?» – испугался Коляша. Внезапно его осенило: есть и пить Женяра старается меньше и потому, что продукты кончаются, и еще чтоб реже ходить в туалет.
На вокзале и вокруг него царило пьянство, воровство, разухабистость богатеньких военных, едущих из-за границы, и полное уныние таких, как супруги Хахалины, а было их тут большинство. Комендатура лаялась, гоняла людей с места на место, особенно сверху, где шли работы, и чтоб не обрушилось чего вниз, на людей; без конца проверялись документы. Расспросить, узнать что-либо и где-либо было делом бесполезным. Железнодорожные служащие прятались от военных, в военных же службах только надсадно орали и грозились. Тех, кто решался идти на власть грудью, скручивали, уводили под арест.
Действовала тысячелетиями отработанная беспроигрышная военная система: ты всем обязан, тебе – никто и ничем.
По вокзалу и его окрестностям катились слухи, и самый из них упорный: будут формироваться спецэшелоны из теплушек – до Урала, Сибири и Дальнего Востока, чтоб разгрузить от людского месива западные вокзалы, станции и дороги. Будто бы один такой эшелон уже ушел – до Саратова или на Москву. Но пока что по киевским путям безостановочно неслись эшелоны из-за рубежа с демобилизованным народом, не останавливаясь по той простой причине, что беспризорный военный люд брал в осаду эти воезда. Поговаривали, будто поездные бригады и локомотивы меняются и заправляются в Дарнице, за Днепром. Может, туда отъехать? Но как? На чем?
Колебания и сомнения Коляши ахнулись после совсем уж безобразной сцены, случившейся на вокзале средь бела дня. Любови тут завязывались и происходили без конца и на виду у всех. Ночью парочки разбредались по ближним развалинам, прятались и дружили там. Темный и суровый ликом офицер в окопной, псиной провонявшей шинеленке мял, мял под этой боевой шинелью податливую бабенку и вдруг повалил ее на пол, разорвал на ней исподнее, начал каком-то жутком порыве растерзывать женщину при всем густом народе. Хохот, свист, возмущение, ропот, шуточки, команды со всех сторон. Кто-то из самых веселых парней начал детскую считалочку. Бабенка не вывертывалась из-под мужика, только выстанывала, закрыв глаза обеими руками: «Господи, прости! Господи, прости!..»
Прибежал патруль. «Прекратить безобразие!» – закричал старший патрульный с портупеей через плечо. Офицер никак не реагировал на его клич. И тогда, взвизгнув и затопав ногами, багровый от стыда и возмущения, патрульный цапнул сладострастника за сапог, а тот, оскалившись, выхватил пистолет. Хватило работника ненадолго. Он упал лицом на захарканный пол, оттолкнул бабенку и, полежав какое-то время, застегнулся, протянул патрульному пистолет, указывая кивком головы на женщину:
– Ее не троньте… пожалуйста! – и пошел впереди патрульных.
Бабенка, подбирая на себе рванье, ползком-ползком к своему узлу да и на улицу и где-то уж за вагонами, на путях пронзительно закричала. Думая, что она бросилась под поезд, Коляша вместе с любопытной толпой вышел на пути. Там шла обычная маневровая работа, все было спокойно. Понаблюдав за работой маневровой бригады, дождавшись, когда паровоз остановится, Коляша угостил составителя поездов табачком, подготовленным специально на этот случай, поговорил с бригадиром о том, о сем и спросил, нет ли у них пути на Дарницу. Бригадир ответил, что сейчас вот всю подборку порожняка бригада делает на Дарницу, возможно, даже своей маневрушкой и поволокет туда сцепку, паровозу пора заправляться.
– Люди! Машинист! Механик! Увезите в Дарницу! Пропадем мы тут с моей бабенкой.
– А ты думаешь, в Дарнице легче?
– Пусть на тридцать верст будет ближе к дому, – пошутил Коляша. – У меня салишка кусок есть, самогонки немного…
– Ну, что с тобой делать, брат-кондрат? – молвил со вздохом машинист. – Поедете в тендере. Из угля голов не высовывайте! Не один ты такой догадливый. На мосту постовые сымают вашего брата, мне нагорит.
Женяру уж ничем было не удивить, не испугать, тем более паровозным тендером. Как мышка-норушка, зарылась она в уголь. Коляша рядом примостился. Тронулись! Поехали!
Залязгало, загрохало над ними и за ними. Сверху искры летят, да все горячие. Душит супругов густущим смоляным дымом – сырой, паршивый уголь на маневрушки дают. На мосту, не совсем еще восстановленном, тендеришко разболтало, разбайкало что люльку ребячью, того и гляди – вывалятся молодые люди в Днепр-реку, а в ней вода глубокая, холодная – Коляша изведал позапрошлой осенью и сейчас невольно ужался, съежился в себе. Зато дым отнесло вниз, под колеса, закручивало его в узлы, по реке растягивало, над водой волокло.
Моргнуть глазом не успели молодожены – вот и Дарница! Выгружайся, народ! А как выгрузились супруги Хахалины, глянули друг на друга – винтом пошли, Женяра в одну сторону, Коляша в другую – так их устряпало за короткую дорогу, что и не узнавали они друг друга. Крепкие белые зубы молодой жены сделались еще белее, но смех ее перешел в хриплый, долго не унимающийся кашель. Подались к водокачке – отмыться, водички попить, поесть маленько и осмотреться, провести рекогносцировку, – как говаривали братья-артиллеристы.
Со временем Коляша прочтет и узнает, что они с молодой женой в точности повторили путь романтических влюбленных – лейтенанта Шмидта и Зинаиды Ризберг, только пламенный революционер и утонченная, книг начитавшаяся курсистка проделали путь от Киева до Дарницы в полупустом мягком вагоне, на красным бархатом обитых диванах, а освободители мира от фашизма, спасители отечества, приумножившие и без того громкую славу родных вождей и полководцев, – на грязном, водой от пыли облитом угле.
В Дарнпце было чуть полегче и почему-то потеплее. Молодожены просто не заметили, что помягчало в природе, – первые холода пробно прошлись по земле и по народу, упредительно пощупав их за слабо, по-дорожному легко прикрытые тела, сделав разведку боем по лесам и полям, по царству зверей и людей, холод приник к земле, обратился в мокро, начал парить и гноить то, что удалось сшибить с дерев, с колосьев, с зевастых подсолнухов и цветов. Чернела прель под зимним солнцем. Чернели поля и леса по-за станцией, но ярко, празднично светилось то, чего холод не достал, не убил, не скрючил, не уронил. Молодожены, навалившись друг на дружку плечами, сидели в привокзальном скверике, подремывая на солнышке. Тут на них и налетел суровый работник комендатуры станции Дарница, приказал показать документы. Пока начальник внимательно рассматривал бумаги, Коляша рассмотрел его. Хоть и молод лейтенант, но навоевался досыта, ордена и нашивки о ранениях виднеются за бортами распахнутой офицерской шинели, губу покривило контузией. Чем-то он очень сильно напоминал командира взвода управления артиллерийского дивизиона Пфайфера. Недолго тот воевал, не успела война научить его осторожности, воспитатели уже приучали парня к бесстрашию, к жертвенности во имя идей светлого будущего. Был он из образованной семьи, его представления о доблести, о мужестве и славе были почерпнуты из книг, из бесед школьных пионервожатых и тыловых комиссаров, потому и спешил он отдать жизнь свою и отдал скоренько, не намучившись в окопах.
И вот лейтенант, очень похожий на Пфайфера, – Коляша чуть не спросил его фамилию, – сменил суровость на милость, расспросил супругов Хахалиных, каким путем и зачем попали они в Дарницу, шевельнул кривой загогулиной плохо пробритого рта:
– Муж с женой. Это другое дело. А то милуются тут по кустам всякие… – Он уже пошел, но обернулся: – Я буду иметь вас в виду.
– В виду. Иметь, – начал заводиться супруг Хахалин, но молодая жена резко дернула его за рукав, остепеняя. Ой, сколько раз ей придется повторять этот жест, сдерживающий горячность мужа. Сколько пролить слез, научая его степенности в речах, остерегая от гибельных действий, да все ее усилия по перевоспитанию мужа или хотя бы пробуждению степенности и благоразумия – особого успеха не имели.
Прошла еще одна ночь.
Утром у солдат с проходящего эшелона Коляша купил булку хлеба по сходной цене и в то же утро под воздействием воспоминаний о фронтовом братстве, о светлом образе офицера Пфайфера и лейтенанта из винницкой комендатуры совершил он еще одну, весьма поучительную ошибку. Увидев, что к воинскому эшелону прицеплено три зеленых вагона с кремовыми занавесочками и возле них прогуливается чистенький, излучающий приветливость генерал-майор с круглой попкой, с брюшком кругленьким, с подбородочком репкой, луночкой украшенным, все, все, особенно детский носик, располагало если не к вольности, то уж к приветливости всенепременно. Сплетя на груди руки меж полами расстегнутого мундира, накинутого на плечи, генерал прогуливался вдоль состава, дышал свежим воздухом. Мирная ли осень, земля ли в последнем увядании и багрянце, облик ли праздно прогуливающегося генерала и подвигнули фронтовика к не совсем продуманному действию. Коляша подзаправился, подобрался и заступил дорогу генералу, который, слышалось солдату, тихо и проникновенно произносил: «Роняет лес багряный свой убор…»
– Здравия желаю, товарищ генерал! – бодро заявил Коляша, прикладывая пальцы к пилотке. Вспомнил вдруг, что везде и всюду в армии повторяют поучительную заповедь: «К пустой голове руку не прикладывают», – и тут же понял, что сделал он глупость, неизвестно которую по счету в жизни, уже и за дорогу эту немало их сотворил, но отступать было поздно. Коляша залепетал о том, что он, бывший фронтовик, ранен, едут вот с женой, тоже фронтовичкой, на Урал, деньги и продукты на исходе, так нельзя ли им, пусть бы хоть в тамбуре или в коридоре…
Взгляд генерала медленно пробуждался, он еще не видел, не различал солдата перед собою, да и не слышал, он все еще глядел сквозь человека на багряный осенний лес и, шевеля губами, шел дальше, сквозь время, сквозь свет, сквозь солдата, так и не поняв, кто это перед ним мельтешит и издает какие-то звуки. Никогда, нигде, никто не смел заступать ему дорогу, тем более – беспокоить просьбами. Глас земной, солдатский так и не достиг его сознания, не потревожил вельможный слух.
– Извините! – жалко молвил во след генералу Коляша, да еще чуть и не поклонился. «Э-э-эх, Колька-свист, разудала твоя голова! Размундяй ты, размундяй! Учит тебя жизнь, учит, да все никак не научит..»
Генерал подхватил спавший с плеча мундир и, огрев Коляшу не просто негодующим, но испепеляющим взглядом, молодцевато вспрыгнул на подножку вагона. Сырым плевком лепился солдат Хахалин на междупутье и вновь осознал давно известную истину: чем выше чин, тем убийственнее от него происходит унижение, и потому впредь не лезь вверх ни с какими просьбами, не нарушай той границы, которая пролегла меж верхним и нижним эшелоном.
– Эй ты! А ну отойди на х… от вагона! – на подножке генеральского вагона, чего-то дожевывая, повис молоденький солдат, свеженький лицом, с еще только начинающимися усами, с комсомольским значком на гимнастерке.
– Это ты мне?
– Тебе, тебе! Кому ж еще? Шляется тут всякая поебень…
– Спустись на землю. Я плохо слышу после контузии.
Солдат, чего-то ворча, спрыгнул с подножки, и пока он нехотя, надменно надвигался, Коляша поднял с междупутья скошенную, вроде арабской сабельки загнутую тормозную колодку – одного удара ею достанет, чтоб отучить этого молокососа навеки не только лаять на людей, но и жевать генеральские объедки.
– А ну, повторяй за мной: «Дяденька боец! Я прошу вас, отойдите, пожалуйста, от генеральского вагона».
– Да я…
– Расколю башку. Пока твои бздилоходы тебя хватятся, ты вонять уж будешь! Н-ну! Ну! Как тебя учили в пионерском лагере? Как учат в комсомольской организации?
– Дяденька боец… я прошу вас…
Не дослушав молодого холуя, вымучивающего вежливые слова, Коляша брезгливо отбросил мазутом облитую колодку и сказал, хлопая его по плечу:
– Держись за свое место! Псом дворовым будешь, зато глодать жирные кости станешь, спать в конуре, под крышей, на сухой подстилке. Не то что некоторые…
Около вокзала, съежившись, засунув руки в рукава, покашливая, поджидала своего супруга посиневшая от вдруг потянувшего с Днепра холодного ветра, сиротливая женщина. «И зачем мне все это? – сокрушался Коляша, – вокзалы, холуи, бардак этот вселенский? Куда я еду? Куда меня влечет? Зачем? Семьей, видите ли, обзавелся, пристяжку спроворил! Добирал бы остатки урожая в украинском совхозе „Победа“, дрова воровал бы, яблони тряс по садам, напившись самогонки, ходил бы с мужиками плакать на братскую могилу по великим праздникам…»
Среди ночи супругов Хахалиных, прижавшихся за нетопленой печкой дарницкого вокзала, отыскал запаленно дышащий сержант и приказал, чтоб они скорее, с манатками – к лейтенанту.
– Ну, вояки! – пошевелил где-то возле уха концом рта лейтенант. – Ваша скромность и смирение вознаграждены! Не надоедали мне и всем добрым людям, и за это вот он, – указал лейтенант на заулыбавшегося сержанта, – посадит вас, незаконно, в незаконный вагон, и вы, может быть, незаконно доедете до Москвы.
Оказалось, что все эшелоны с войсками, идущие из-за рубежа, имеют вагоны прикрытия – два четырехосных вагона, в которых можно было бы уместить две сотни демобилизованных душ. Вагоны, стоящие между паровозом и эшелоном – на случай аварии или диверсии в пути, – должны «прикрыть», самортизировать весь остальной состав, словом, смертники-вагоны. В общем-то, это то же самое, что загородить собой товарища комиссара от пули врага или закрыть грудью амбразуру. То есть никакого в этом здравого смысла не было. Загородить грудью, в особенности женской, хоть кого и хоть чего можно только в кино, но загораживать груженые вагоны пустыми вагонами – это даже для кино, пусть и самого патриотического, не годилось, потому что при экстренном торможении груженые вагоны, нажав на негруженые, просто выдавили бы их наверх, как пустые, хрупкие спичечные коробки.
Строго-настрого наказав молодоженам, чтоб в вагон они влезали без шума и никогда, никуда, ни под каким видом больше не вылазили, «даже если будут оружием пужать», ну и не выдавали бы его и товарища лейтенанта, сержант подсадил Женяру и хромого ее мужа в вагон.
– Счастливо-о! Эх, и мне бы скорее домой! Я бы хоть на чем…
Женяра с Коляшей думали, что в вагоне поедут одни, и боялись этого – полное ж бесправие, любой бандит под видом патруля пришьет и фамилию не спросит. По напряжению, которое передалось Коляше, он чувствовал, что спутница его боится тьмы и дороги, нащупал ее рукой, приободрил.
– Да закройте вы двери! Кто там? Высадят всех к херам! – раздался голос в темноте, и слабый, угольно светящийся фонарик, пометавшись по темному пространству, к радости супругов, обнаруживших, что вагон полон спящего народу, указал им в дальний угол вагона и даже подержал там пляшущее пятнышко света. Коляша захлестнул притвор вагона и осторожно пробрался к жене – она что-то подстелила, какую-то тряпицу на хрустящее на полу стекло, шлак, угольную крошку, поймав мужа за руку, потянула вниз и, когда он прилег головой на рюкзачишко, уютно подлезла к нему под бочок.
– Я так рада, что мы едем!
– Погоди еще, не говори «гоп»… Не нагрянул бы патруль.
Женушка угнездилась у Коляши под боком и уснула, греет чуть слышным теплом и даже во сне осторожным дыханием. «И чего это я психанул-то? Она-то при чем, если кругом такое творится! У нас ведь уж если бардак, то обязательно грандиозный, если урожай – то стопудовый, если армия, то самая непобедимая!.. Допобеждались вот. Да и сам ведь вспоминал, как на фронте спать ложились обязательно головой к чему-то, солдат к солдату жался, а женщина, одна на таком ветру, в такое дикое время, само собой, норовит к кому-то прильнуть, заслониться…»