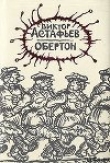Текст книги "Так хочется жить"
Автор книги: Виктор Астафьев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 14 страниц)
Виктор Астафьев
Так хочется жить
Во здравие живых, во славу павших побратимов-окопников.
Автор
Часть первая
ДОРОГА НА ФРОНТ
Фронтовые дороги ведут в бесконечность и никогда не повторяются. Но их разнообразие, переменчивость, неудобь – не способствуют бодрости, в особенности если едешь по ним ночью, – а все передвижения близ фронта происходят в основном в ночное время, и давно кажется, если не год, то уж неделю наверняка сидишь за рулем. И усталость, и ночь, и пение мотора машины-полуторки не просто навевают сонливость, но клонят в сон, одолевает расслабляющая бесчувственность, склеиваются глаза, меркнет сознание, покидает шофера чувство страха и ответственности. Будто расстроенная струна звучит на расстроенной балалайке: гынь-гынь-гынь, гань-гань, гане… гы-ы-ынь… гы-ы-ы-ыыы…
Коляша Хахалин других дорог и не знал, по другим, слава Богу, и не ездил. Пение полуторки, этот усыпляющий звук мотора останавливает время, погружает в немоту мир окружающий, точнее, проносит его мимо с левой и с правой стороны машины. Хоть бы жахнуло где, стукнуло бы, что ли, хоть бы огонек где мелькнул, но лучше бы много огней, напоминающих человеку, что не один он во вселенной, что живут еще люди и теплят огоньки в жилищах. «Дрожащие огни печальных деревень», – пусть бы и дрожащие, пусть бы и в печальных селениях.
Но никого и ничего вокруг и вдали, лишь мотор поет свою однообразную, вкрадчиво-ласковую песню, и рулевого снова и снова начинает долить сон, голова, сколь ее ни держи, сламывает шею, размягчает кости, осаживает туловище до тех пор, пока лбом не коснешься холодного железа, пока им не стукнешься об округлость баранки, – мгновенное тогда происходит воскресение, испуг на какое-то время расшибает сон, отгоняет его. Рулевой, разом вспотев, ищет, ищет глазами белое пятнышко впереди, не найдя его, прибавляет газу, полуторка вздрагивает от неожиданности, вроде как и она задремала тоже, начинает досадливо постреливать и рычать от напряжения. Но если впереди лунным пятнышком засветится метка – на рулевого сразу же нападает благодушие, расслабленность, и снова, и снова усыпляюще запевает мотор: гынь, гынь, гы-ы-ы-ынь…
«В дорогу идти – пятеры лапти сплести», – слышал где-то Коляша. И повторяется, и повторяется: «В дорогу идти… в дорогу идти… гынь-гынь…»
Коляша Хахалин шофером себя стеснялся называть, тем более водителем – совсем уж это редкостное, высокое слово, а значит, оно и определяет человека особой мерой – во-ди-тель! – специалист, значит, кого-то и куда-то ведет он. А вот скажешь – рулевой, и вроде как взятки гладки – какой с рулевого спрос, он за руль только и отвечает, все равно как ссыльный пастушонок-поляк сказал однажды в поселке-городе, далеко-далеко на севере стоящем, что он – «водитель крувы».
Коляша тоже мог быть «водителем крувы», шофером же быть он не мог. У Коляши Хахалина прозвище Колька-свист, не в подражание герою «Путевки в жизнь» ему дано, оно самим им нажито – Коляша был мастер по части чтения, пенья, всяческого сочинения. У него был, как бы сказали нынешние педагоги, «гуманитарный склад характера» – он соответствовал этому характеру, учился хорошо по языку, литературе, истории, географии и очень плохо по математике, за что его всегда ругали, порицали в детдоме, оставляли на второй год в школе, однажды оставили даже и на третий…
Соответственно своему гуманитарному наклонению в характере Коляша ничего не смыслил в технике и за жизнь свою восемнадцатилетнюю из техники только и запомнил, что есть выключатели электричества, не только вверх и вниз действующие, но и вправо – влево, еще он запомнил, что электролампочку, когда свету хочется и когда свет погас, надо тоже вертеть вправо, поскольку в детдоме ребята часто били лампочки, ключ у дверного замка, чтобы его отомкнуть, между прочим, тоже чаще всего поворачивается вправо.
И вот с такими-то техническими данными Коляша Хахалин попал в автополк – учиться на шофера. Его и не спрашивали, хочет он или не хочет учиться на шофера, может или не может овладеть машиной. Выстроили призванных ребят во дворе областной военной пересылки, выкликнули фамилии по списку, велели сделать шаг вперед, сомкнуться и следовать еще раз на комиссию, на медицинскую. Коляша уже прошел одну комиссию и скрыл от нее, что правая нога у него ломаная, что он малость прихрамывает, да при той комиссии, будь он хоть на протезе, и то оказался бы годен к битве. Но тут, на второй комиссии, он смекнул неладное и сказал врачу, который ему показался главным, что он хромает. «Как со зрением?» – спросил врач. «Полный порядок!» – бодро воскликнул Коляша. Врач сказал, что главное в его будущем деле не ноги, глаза. И загремел Коляша в автополк. Поторопился он с ответом насчет глаз. Надо бы туфту гнать, близоруким, а то и слепым притвориться. Надо было… Но куда богатого конь везет, туда бедного Бог несет.
Это он понял с первых дней пребывания в автороте. Там уже были ребята, переправленные в автополк из других воинских частей, народ, знающий мотор, технику, – бывшие трактористы, комбайнеры и даже рулевые, закончившие автокурсы или не успевшие их закончить, не получившие права называться шоферами. Многие из призывников успели помотаться по грязным, холодным казармам, оголодали там, обовшивели, иные уж доходили и, попав в автополк, в кирпичные казармы, строенные еще при царе, где было сухо, тепло и питаньишко получше, чем в пехоте, старались учиться изо всех сил, быстро осваивали боевую технику, то есть автомашину «ГАЗ», кто и «ЗИС». Кроме занятий техникой, изучения правил уличного движения и безопасности, курсанты проходили и строевую, и боевую подготовку. Спали мало, но крепко, уставали потому что.
У Коляши Хахалина в автороте не заладилось ученье – говорун, просмешник, анекдотист, песельник, сперва он был принят в роте по-братски и даже выделен среди остальных, прозвище к нему, неведомо, как и почему, вернулось прежнее в точности – Колька-свист. Он даже ротным запевалой сразу сделался и навечно простудил горло на сибирском морозе. Но чем дальше в зиму, тем больше становилось мороки с автоучебой. На тренажерах – в большом зале из досок сделаны помосты, и к ним прикреплены педали, рычаги, крючки, ручки и сам руль, – сиди и целый час, когда и два, переключай скорости, жми педаль сцепления, и Коляша на тренажере-то лихо сперва переключал все с шутками, с прибаутками, но это занятие ему скоро надоело, и он начал отлынивать от классной учебы. По соседству, в зале, еще более просторном, на постаменте стоял двигатель машины «ГАЗ», в разрезе двигатель-то, как животное или человек в учебнике по зоологии. Подходишь и видишь все сложное нутро: поршни, коленчатый вал, карбюратор, генератор, помпу, охладительный бачок и еще много-много чего. Как-то прикинул Коляша про себя, и вышло, что нутро машины куда как сложнее, чем человеческий организм! – попробуй, постигни такую технику!.. Коляша пал духом от сложностей автомобиля, служба его в роте и наука пошли худо, со спотычками, отношения в автороте не заладились.
За длинный язык, за острое, не всегда к месту сказанное слово его невзлюбил и начал принародно одергивать главный человек в роте – старшина Олимпий Христофорович, фамилия которому была Растаскуев. Крупный, румяный мужик с умеренно вспухшим животом, с алыми губками и совершенно пронзительным взглядом голубеньких глаз с остро заточенными зрачками. Коляша возьми и скажи старшине, без всякой задней мысли, что у графа Бенкендорфа отчество было тоже Христофорович. Старшина поинтересовался, кто это такой? Коляша, опять же безо всякой задней мысли, ответил, как учили в школе, – прихвостень, мол, тирана-царя и погубитель гениального поэта Пушкина. Уже вечером того же дня Коляша вычерпывал и выносил мыльную воду из-под умывальника, затирал в умывальнике пол и подметал коридор в казарме.
Перед отбоем старшина Олимпий Христофорович произнес речь перед выстроенной ротой в том духе, что средь прибывших есть грамотеи, знающие все про Пушкина и Колотушкина. Рота слегка колыхнулась от смеха, старшина переждал и продолжил: но устав и боевую технику эти грамотеи изучают плохо, нерадиво, а он, старшина, служит в автополку еще с кадровой и всяких навидался, они от его науки и пристального внимания не только Пушкина-Колотушкина забывали напрочь, но и матери родной имя не вдруг вспоминали…
Речь старшины была короткой, состояла в основном из намеков и обобщений. Но после того, как Коляша поинтересовался: неужели Олимпий Христофорович не прочел в жизни ни одной книги; зачем тогда в полку существует библиотека, довольно обширная и интересная; он, Хахалин, несмотря на жуткую занятость, в библиотеке той уже побывал и убедился, что руководство Красной Армии думает не только об маршировках, об изучении устава и техники, но и об интеллектуальном развитии ее рядов, – напутственная речь старшины на сон грядущий удлинилась. В других ротах отбой произошел, люди уже спали, в Коляшиной же роте, забросив кулачищи за спину, перед строем расхаживал Растаскуев-старшина и нравоучительствовал, обозначая дальнейшее направление жизни в том смысле, что армия есть армия, и он не позволит в ней никакого разгильдяйства и умничания, за счет часов отдыха и политзанятий он попросит увеличить часы занятий строевой и боевой подготовкой, потому как рота готовится не к свадьбе, на войну готовится, на фронт, и надо быть во всеоружии, надо, чтоб на фронт уезжали крепкие духом, умелые бойцы, способные бить врага в любой час, в любом месте. Спать рота легла на час позже, и кто-то впотьмах больно сунул кулаком Коляше в бок.
Назавтра и в самом деле был сокращен, навовсе сокращен и более не восстановлен час личного времени. Курсантов вывели на мороз, старшина повелительно крикнул: «Хахалин, запевай!» – и залился, запел Коляша, а за ним и вся рота. Куда денешься? Армия!
На этот раз перед отбоем старшина речь не произносил, но в умывальник Коляшу с двумя товарищами отправил – наводить санитарию, и, драя пол шваброй, пританцовывая, Коляша во все горло пел, хотя ни петь, ни танцевать ему не хотелось: «Финнам мы покажем жопу, раком повернем Европу, а потом до смерти зае…». В умывальник ворвались трое крепких парней в нижних рубахах – Коляшу и напарников его бить, но тут оказались бойцы не робкого десятка, и так они обиходили швабрами нападающих, что те превратились в отступающих.
За это за все: за драку, за избиение дисциплинированных курсантов – Коляша был послан долбить помойку, и старшина напутственно похлопал его по спине: «Иди и подумай на ветру кой о чем. Охолонись…»
Вернулся Коляша в казарму уже под утро, нисколько не выспался, кемарил в учебном классе, путался в ответах, был выгнан на улицу – ползать по-пластунски под командой рыжего, носатого сержанта, который недоуменно и дружески наставлял Коляшу:
– Неужели трудно запомнить, что старшина главнее солдат? В уставе же написано: «Приказ начальника – закон для подчиненного».
– Все понял! – бодро заявил Коляша.
Перед отбоем курсанты добром его просили в роте: «Уймись! Этот битюг заест и тебя, и нас…» Но Коляша от бессонницы и изнурения внутренне клокотал, прямо из строя сказал Олимпию Христофоровичу, что он как командир самой передовой и сознательной армии не имеет права издеваться над людьми. Пусть его, Хахалина, наказывает, как мохнатой душе старшины хочется, но ребята тут ни при чем.
– Хор-ро-оо-ошшо-о-о! – с растяжкой сказал старшина, – оч-чень хорошо-о-о! Раз человек просит, грамотный, культурный, песни и стишки знает, уважим его. Р-рота, отбой! Хахалин в умывальник!
В умывальнике были две длинные лавки, приделанные к стене. Над лавками ячейки, в каждой ячейке крючок для полотенца и желобок для мыла. Коляша, натянув мазутную телогрейку на ухо, лег на скамейку спиной к батарее и мгновенно уснул. Проснулся он оттого, что повис в воздухе, – старшина Растаскуев взнял его за воротник со скамьи.
– Отпусти, х. сос! – закричал Коляша.
– Кто я? Кто я? – от неожиданности старшина приземлил Коляшу и, повернув его к себе лицом, требовал: – А ну, повтори! А ну, повтори!
И Коляша не только повторил, но и добавил:
– Педераст! Фашист! С-сука! – и в довершение плюнул в румяную толстую морду и тут же получил такой удар, что брызнуло из глаз, будто из бессемера, продувающего горячий чугун, который Коляша видел когда-то в киножурнале.
Пролетев по воздуху изрядное расстояние, курсант вышиб спиной дверь в расположение роты и приземлился на пол. Разъяренный старшина выскочил следом, занес ногу пнуть щенка, но щенок тот был детдомовский, наторелый в драках, нервами еще сызмальства изношенный – когда его, еще неопытного карманника, пинали на базаре, на крыльце магазина, он умел вывертываться и ни советским гражданам, ни судьбе покудова не дал себя запинать. Вертухнувшись на полу, боец Хахалин ухватил занесенный над ним сгармошенный яловый сапог, дернул и услышал, как тяжелое тело, грохнувшись по пути об приступок нар, тоже упало на пол. Медведем рыча, от нар начало взниматься оскаленное чудище, чтобы раздавить, размичкать червяка, посмевшего поднять руку на армейского господина, на самого заслуженного в автополку старшину Растаскуева. Коляша Хахалин метнулся к пирамиде, где в ряд со старыми винтовками стояли недавно полученные карабины новейшего образца, с несъемным штыком. Карабины все были в порядке, смазанные, вытертые, штыки подняты, на них масло блестело, и, разом забыв все приемы штыкового боя, все на свете забыв, с криком: «Заколю с-суку! Заколю!» – с поднятым над головой карабином Коляша ринулся на старшину.
Не приняв рукопашного боя, старшина Растаскуев ринулся прочь. А Коляшу уже понесло. Видя перед собой широкую, будто дверь переселенческого барака, плотно обтянутую шерстяной офицерской гимнастеркой спину, боец Хахалин целил всадить боевой штык в середку ее, меж лопаток, и даже успел мстительно насладиться, явственно слыша, как захрустит та ненавистная спина, как завопит этот лапистый громила…
Косолапый, на одну ногу припадающий Коляша и величавый старшина вопили во всю глотку. Огромная, царских времен казарма, вмещающая на одном этаже аж целый батальон – душ до пятисот, при утеснении – и до тыщи, проснулась, в Коляшиной роте кто-то спрыгнул с нар, погнался следом с готовностью не то выручать старшину, не то помогнуть товарищу, но не догнал сражающихся – прыток оказался Олимпий Христофорович, здорово умел бегать, хотя и на фронте не был, практику драпа не проходил.
Во второй роте на середку прохода выскочил дежурный, раскинув руки, закричал:
– Стой! Стой!
Коляша отшиб его в сторону, однако дежурный третьей роты поступил просто: дал подножку яростно наступающему вооруженному бойцу. Выронив карабин, боец проехался по бетонному полу брюхом, ссадил его, оцарапал. Дежурные навалились на бунтаря, заломили ему руки и поволокли в комнату командира батальона – сей ночью тот ночевал дома или еще где. С противогазом на боку сюда же вбежал дежурный по батальону младший лейтенант при новеньких погонах и, увидев, как жестоко избивают сослуживцы солдатика, будто чечетку отбивая, затопал:
– Прекратите! Что вы делаете? Прекратите!
Бойцы послушались, бить прекратили, но держали бунтаря за руки. Супротивника своего бил уже один – старшина Растаскуев, месил мальчишеское лицо, приговаривая:
– Я тя научу! Я те покажу! Я те… – приостановился вдруг и, глядя в расквашенное, окровавленное лицо сосунка, задыхаясь, спросил: – Так кто я? Кто?
– Фашист! Фашист! – Коляша сгустком крови харкнул в трясущее подбородком лицо старшины.
– Да прекратите же вы, наконец! Прекратите! – вопил младший лейтенант.
– Не-эт! – утираясь, взревел старшина. – Не-э-э-эт! Я добью! Я добью эту гниду… – и снова ринулся на Коляшу, занося кулачище аж за спину – для сокрушительного удара.
Ах, дурак, дурак! Разве так дерутся?! Сам вот много бил, а самого били мало – раскрылся, выпятился молодецкой грудью и совсем-совсем не берег свою толстую морду…
Коляша, как бы изнемогши, как бы оберегая остатки лица, опустил голову, соблазняя истязателя подцепить его кулаком-кувалдой для последнего, прицельного удара. Как только старшина приосел в боевом маневре, Коляша головой и одновременно в прыжке ударил победительно топавшего воина ногами в низ живота. Что-то хрустнуло, всхлипнуло внутри старшины, в следующее мгновение он уже полулежал, зевая, у стены, под портретами Карла Маркса и Фридриха Энгельса, выше которых еще висели Ленин и Сталин. Поверженный старшина старался что-то молвить, но, глуша, размягчая звуки, изо рта ротного дяди выплескивалось красное месиво и все тот же тонкий писк тянулся вместе со слюною.
Младший лейтенант подхватил бунтовщика, выбрызгивающего вместе со слюною и с кровью ругательства, какими владеет только советский простой человек, и в первую голову шпана всякая, прежде всего детдомовщина, уволок его за перегородку, ко кровати для дежурного.
– Что же это вы?! Что же это вы?! – топтался вокруг Коляши дежурный по батальону и совал ему полотенце. – Умойтесь. Умойтесь. Как же это вы? Что же это вы?..
– Не надо, – отстранил полотенце Коляша. – Испачкаю. Мне бы тряпку какую, – и начал умываться холодной водой.
Младший лейтенант тряпицы не нашел, пришлось все же пользоваться полотенцем.
– Безоружного бьют! За руки держат… – почти стонал младший лейтенант, видать, начитавшийся благородной литературы, и предложил Коляше ложиться на кровать дежурного. – Мне уж лечь не доведется, а вы ложитесь. Я вас запру на ключ. Ой, что завтра будет?! Что завтра будет?!
Младший лейтенант ушел, придерживая противогаз на боку. Коляше отчего-то подумалось, что вот этого-то командира как раз и убьют на войне – война хороших и добрых не щадит, и Бог, говорят, их к себе в первую очередь призывает…
Он осторожно уложил себя поверх одеяла. Его начинало трясти, и горькая, слезливая, какая-то детская слабость и обида накатывали на него. Большой боли он пока еще не ощущал, но вот чувство сиротливости, одиночества и безмерной тоски по кому-то и по чему-то распространялось по всему телу, по всему нутру и даже, вроде бы, под кожей. В крови, в мышцах поселялась тоскливая пустота. Как и всегда после потрясения, вспышки в детстве еще приобретенного психоза, он болел всем телом, слабел духом, страдал чувством покинутости. Как всегда, ему хотелось куда-то уплыть, уехать, убежать. Да куда уедешь, уйдешь от этой казармы, из этой жизни? Он уже давно решил, что когда-нибудь в такие вот минуты покончит с собой.
Трясло все сильнее, стучали зубы, и сквозь них не вырывался, но тек, сочился прикушенный вой. Он задрал военное одеяло, которое натянул было на подушку, чтобы не запачкать казенную наволочку, сказал сам себе: «Семь бед – один ответ», – и попытался заснуть, да сон не сходил на него. Тогда он стал вспоминать свою прошлую, такую еще короткую, однако очень насыщенную жизнь. Воспоминания всегда насылали на него сон и успокоение.
Вспоминать-то Коляше особенно и нечего. Родителей его, Хахалиных, отца и мать, выслали на север из богатого алтайского села Ключи. Коляша был еще мал, только-только входил в школьный возраст. Его зреющая детская память совпала с крутыми переменами в стране, и первоначально в ней отпечатались: утомительно-длинная, почти бесконечная и оттого скучная таежная дорога да холод полупостроенных или полуразрушенных бараков, в которых люди перемогали зиму. Натоптали тропы, обляпали все вокруг нечистотами, усеяли прореженную тайгу бугорками неглубоких могил. На те могилы дети ходили играть в дом и в пашню, так как эти бугорки были единственной зримо приближенной землей. Остальное же все глубоко завалило немым, слепящим глаза снегом.
Вот когда уцелевший в тайге народ затолкали в баржи, прицепленные к пароходу, и поволокли караван вниз по течению большой реки, жизнь пошла веселая и запомнилась лучше. Дети играли в прятки меж теса, штабелями груженного на баржи, меж каких-то машин, бочек, лебедок, мешков с цементом, белым порошком, вертели колесики у машин, чего-то строгали складниками, собирали деревянные кубики, строили из них дома. Доступа в нутро барж никому, кроме команды, не было – там насыпью хранилось зерно, мука в мешках, продукты в ящиках. Только внутрь одной бо-ольшущей, будто дом, баржи разрешено было спускаться женщинам и некоторым пожилым мужикам. В той барже везли коров и коней. Коровы громко, на всю реку ревели, и конвоирам объяснили, что в коровах горит молоко оттого, что они не доены. Разрешено было доить коров и подрезать им и лошадям копыта, потому как от постоянной неподвижной жизни, от мокрых плах на копытах животных делались наросты, они болели и падали.
Дармовым молоком пользовалась команда парохода, шкипер и матросы с баржи, конвой и, если чего оставалось, – ссыльные. Оставалось много. Неистребимые крестьянские бабы научились в пути настаивать сметану, парить в русской печке в шкиперской будке творог и даже сбивать мутовкой масло – ребячья эта работа тоже разнообразила жизнь. Мужики здесь же, на палубе, состроили шалаши из теса, настелили подобья нар. Оправившиеся от гибельной зимовки, молодые девки и бабы, от хорошего харча и вольного, речного воздуха раздобревшие и чего-то захотевшие, заводили знакомства, будто в селе, на вечерке, гуляли по палубе, угощаясь прошлогодними орехами, купленными на берегу, уединялись в вечернее и ночное время в известных лишь им местах. Но особо-то на барже не разбежишься. Парнишки и девчонки подглядывали за полюбовниками, перенимали опыт старших и, когда осенью, поселенные на заполярный берег, девки и бабы начали сплошь рожать, кулацкие дети могли хоть в школе, хоть где ответить, что детей находят не в капусте. Отнюдь!
Во время погрузки дров на топливо и двух длительных остановок каравана на ремонт парохода, на замену разбитых деревянных плиц двигательного колеса, помпы-качалки и рулей на баржах начальник конвоя, которому хитрованы-переселенцы отослали на пароход самую ядреную молодку – «постираться», – разрешил конвоируемым сойти на берег за черемшой, щавелем, саранкой и целебными травами. Ребятишкам, у кого имелись крючки, дозволялось поудить с берега. Мужикам, научившимся в пути делать домовины, похоронить тех, кто, изнурившись зимою, заболел и покинул не ко времени сей лучезарно изливающийся над рекою свет. Отходы в любой жизни, в переселенческой тем паче неизбежны, и оставались мужики и бабы русские, чаще – дети и старики, никем не призретые, по-христиански в вечный путь не снаряженные, в далекой неприветливой стороне спущенные в ямы меж разрубленных и разорванных кореньев. Ставился общий крест над ними, и капитан парохода кроме отвального гудка давал дополнительный, длинный. Угрюмо звучал над тайгою и рекою гудок. Все кроме партийных конвоиров стояли, сняв фуражки, шапки, глядели на удаляющийся берег с общей, воистину братской могилой. Боясь завыть в голос по покойным, бабы затыкали рты фартуками. А бояться переселенцы не переставали даже на караване, и было чего бояться.
Какой-то мужик или парень-лиходей испортил так хорошо мужицкой изворотливостью налаженную путевую жизнь – забрался в трюм и украл оттудова ящик с вермишелью, а также женское пальто с беличьим воротником. Все: и переселенцы, и конвой, и пароходный люд – недоумевали: ну ладно, вермишель – сварить и съесть можно, хотя питаньем в пути люди были обеспечены нормальным, да и самообеспечивались хорошо молочными продуктами, рыбой, даже мясом. Один конь упал от копытки в трюме, мясо разделили, шкуру высушили, на подстилку употребили. Но пальто-то, пальто зачем брал ушкуйник проклятый, когда и жены-то у него нету, пропала у него жена, пока он сидел в тюрьме за какое-то тоже, видать, темное дело.
Мужика или парня того конвоиры расстреляли во время остановки, прямо на берегу. Начальник конвоя велел всем переселенцам – это тыщи две, если не три, от мала до велика выйти на палубу и смотреть, как беспощадно советская власть карает преступников, и добавил, что раз добра люди не понимают, пусть глядят и на ус мотают…
Раздетый до исподнего мужик или парень стоял на камнях, его шатало. Когда подняли конвоиры винтовки к плечу, с барж закричали смертнику: «Перекрестись! Перекрестись!..». Но приговоренный или не успел, или не захотел перекреститься. Пули из четырех винтовок свалили человека на каменья. Народ на баржах шатнулся, бабы дико закричали. Начальник конвоя не велел закапывать преступника, приказал выжечь на доске в кочегарке каленой кочергой позорную надпись: «Расхититель народного имущества» и положить ту доску расстрелянному на грудь.
Остатный путь до намеченной цели прошел в строгости. Молодуху начальник конвоя вернул на баржу, играние на гармошках и пение прекратил, гульбу, принимающую бедственные размеры, пресек. После одиннадцати вечера отбой – кто высунет нос, в того стрелять без предупреждения. Выход на берег кроме парнишек с удочками всем остальным запрещался; оправка и варение еды по сигналу – в одни и те же часы; мытье голов и тел горячей водой – по особому распоряжению; похороны покойников на берегу запретить, ежели же таковые появятся – привязывать к их ногам тяжести и выбрасывать за борт. Хватит! Довольничались! Если с вами обращаются, как с людьми, – людьми и будьте!
Самое большое горе постигло ребятишек – капитан парохода обещал экскурсию по пароходу, даже по машинному отделению – допустить сулился, хотел прочесть лекцию об истории своего парохода – все это само собой отменилось. И ругали, ох, как ругали переселенцы ушкуйшика того, слямзившего вермишель и пальто, так ему и надо – говорили, – пусть теперь валяется не призретый Богом и людьми на каменьях, пусть его вороны клюют.
Сказать, что все приказы-указы выполнялись досконально и буквально, – нельзя. Народ же русский каков? Он все устои расшатает, любые препоны прорвет. Начальника конвоя, шибко запившего после происшествия, капитан парохода – добряк – и нечаянные посыльные с баржи склонили к мысли, что с неподшитым подворотничком, в несвежем белье, в немытых портянках, при сопливом носовом платке жить и быть столь важному человеку, в не убранной к тому же каюте, за неухоженным столом и постелью – не личит. Начальник конвоя, после некоторых раздумий, вернул к себе молодуху, а почувствовав слабину начальника, и конвой помягчал, однако прежней лафы уж не было, опять ночная стрельба случилась, якобы по очередному лиходею, пытавшемуся забраться через люк в баржу, на этот раз с мешком – за пшеницей. Злоумышленник упал за борт, погрузился в пучину и оказался «ничей» – никто из переселенцев не признался в утечке родни, никто как бы не хватился человека.
Разгрузка на низком, тальником поросшем берегу, где карандашиком торчала и курилась железная труба, а вокруг нее так и этак большей частью недостроенные помещения, месиво комаров, заживо съедающих людей. Сразу же за трубой и меж строений – хилый, поврежденный лес, большей частью еловый да березовый, табуны голоухих ребятишек и собак, чернота уток на реке, даже на лужах, в озеринках, нехороший, удушливо-парной воздух «отдающей мерзлоты», от которого тошно, даже склизко в горле и в голосе, – вот и все первые впечатления.
Затем суета, работа, быстро надвинувшаяся осень, в середине сентября снегом порснувшая и к концу октября согнавшая все суда и всех птиц на юг. Разом грянула зима, морозная и ветреная. Убавила она половину переселенцев, смахнула их с берега, вымела в лесотундру, где день и ночь работала команда с кирками, ломами и лопатами, выбивая в стальной тверди мерзлоты широкие котлованы, глубиной аккурат такие, чтобы из них распластанно брошенный человек не высовывал носа. Старались в ямины поместить человеко-единиц как можно больше. Затем гусеницами тракторов приминали могилы, чтобы не только носы, но и скрюченные цингой руки и ноги не торчали из серебрящихся комков, сизых от раздавленной мерзлой гулубики.
Тут, в Заполярье, не до нежностей и удобств. Выжить бы.
Большая, основательная семья Хахалиных как-то быстро и незаметно изредилась. Умерли старики и с собой уманили самых уж размладших внучат. Когда отца Коляши под конвоем увезли еще дальше, на какие-то «важные» работы, будто сломилась матица в избе – не стало и матери. Все посыпалось и рухнуло до основания – цинга сразила. Остался Коляша на руках старшей сестры, уже здесь, в Заполярье, дважды сходившейся с мужиками, чтобы иметь «опору в жизни», и была та опора опорой иль не была, но дети от нее появлялись. В барачной беленой комнате однажды застрял «ирбованый» с наколками на руках, на груди и даже на заднице – он-то и приучил Коляшу к немудрящей музыке. В городке образовался детприемник, сестра взяла Коляшу за руку и отвела туда, сказав на прощанье, что ей бы со своими чадами как-то выжить и управиться.
Обжились они, поправились. «Ирбованый» оказался крутым работягой, крепко заколачивал на лесопогрузке, срубил дом у озера, но и пил, и жену поколачивал тоже крепенько. Коляша изредка заходил к родне и с удивлением обнаруживал подросших кулачат с порчеными зубами и вновь ползающих и ковыляющих малышей-племяшей вокруг стола – неистребимое отродье. «Ирбованый» был к Коляше, как, впрочем, и ко всем другим людям, приветлив, учил его играть на балалайке и на гармошке, давал ему рубль на конфеты и однажды подарил новенькую книгу, приказал ее прочесть, а потом рассказать содержание. «Ирбованый» был грамотный, читающий, совсем пропащий человек, он и Коляшу погубил, купив ему в подарок «Робинзона Крузо», – навсегда погрузивши парнишку в пучину такой завлекательной книжной жизни, из которой ни умная школа, ни вот эта непобедимая армия не могли его вынуть.
Старшину Растаскуева больше всего поражало и потрясало, что какой-то сопляк Хахалин в красном уголке читает газеты, листает журналы и знает наперечет десяток тех книг, что выставлены на полке, читает, конечно же, исключительно для демонстрации умственности и разложения посредством культуры армейского контингента, находящегося в составе вверенной ему роты. Скоро, однако, старшина Растаскуев достиг своей цели – никто, в том числе и зловредный грамотей Хахалин, к газетам и книгам не притрагивался, не пачкал и не рвал их – недосуг было.
А «ирбованый», в первые же месяцы войны взятый на фронт, слышно было, командовал ротой, получил звание Героя за сражение под Москвой. Во всяком разе, писала в письме старшая сестра, жить с ордой сделалось полегче, ей за мужа идет пособие, и сам он нет-нет и пришлет денег с фронта, один раз даже прислал посылку с мануфактурой – на ребятишек, прислал и вторую посылку, но в ней оказались только красивые книги, которые он приказал беречь до его возвращения.