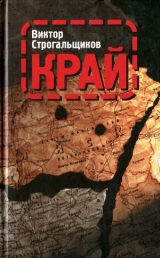
Текст книги "Край"
Автор книги: Виктор Строгальщиков
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц)
– Значит, так, – вздохнул уставший от раздумий Коновалов. – Идите с Потехиным и… ну, там доваривайте. Когда придут из деревни, я вас отправлю вместе с ними.
– Должны прийти? – удивился Лузгин.
– Должны, – кивнул сержант.
– А то мы, глядь, гранатомётом позовём, – добавил снайпер.
– Отставить мат, Потехин, – недовольно скомандовал Коновалов.
В кухонном отсеке было дымно, труба от печки валялась на земле.
– Попал… зараза! – чуть ли не с восторгом удивился Потехин и стал прилаживать трубу на место, отворачивая в сторону от дыма сморщенное юное лицо.
– Слышь, а, Потехин, – спросил Лузгин, роясь в сигаретной пачке корявыми пальцами, – боевые-то намного больше полевых?
– В три раза больше, – доложил Потехин.
– Вот же блядство, – произнёс Лузгин, и никаким другим словом нельзя было точнее выразить отношение нормального человека к ненормальности армейского устройства. – Значит, если не ранили и не убили…
– Так трудно ж доказать. – Потехин говорил, как будто извинялся. – А вдруг мы сами весь боезапас порасст-реляли? По «бэтэрам» ведь тоже могли сами лупануть, – ну, чтоб на краске видно было.
– Идиотизм, – вздохнул Лузгин. – Сними-ка крышку, надо поглядеть… Кого там наш сержант разносит? – спросил он, прислушавшись.
– Да Шевкунова, блин, – сказал Потехин, улыбаясь. Он держал крышку в отставленной левой руке и шевелил ноздрями, принюхиваясь к пару над кастрюлей. – Он по расчёту должен в «бэтэр» прыгать, в капонир, он же наводчик, должен башню разворачивать, а он забздел через дорогу, ну, Коновалов его дрючит…
– Так прокопали бы, – махнул рукой Лузгин, – какой-нибудь подземный ход!
– Вы чё, Василич! – изумился взрослой глупости Потехин. – Мы же не шахтёры, ё-моё… Ну чё тут? – спросил солдат, кивая на кастрюлю.
Лузгин взглянул и уселся на знакомый ящик.
– Ещё часок потушится, потом будем картошку загружать. Ты вот что, Потехин, – предложил он как бы между прочим, – если тебе куда надо, ты сходи, а я тут подежурю. – Это место, у кастрюли, представлялось Лузгину самым безопасным, и вовсе не в смысле обстрела, просто здесь он ощущал себя при деле и ему казалось, что отсюда его теперь уже не выгонит Коновалов.
– Да мы в футбол хотели, – сказал Потехин, озираясь, – так, блин, сержант сейчас не разрешит. – Потехин выглянул в центральный ход траншеи, потоптался на углу, сказал: – Ну ладно, я сейчас, – и быстренько исчез за поворотом.
Надо было бы засунуть в печку новое полено, но Лузгин определил на слух, что в кастрюле варочный процесс развивается нормально, а ежели резко добавить огня, то начнёт пригорать, и он решил подкочегарить печку щепками. Поставил полено на попа, взял лежавший на полке по-техинский штык-нож, приладил его остриём на краешек полена и сильно стукнул сверху поварёшкой.
– Да вон топор стоит, Владим Василич, – раздался с неба голос Храмова. Лузгин приподнял голову и помахал штыком фигуре караульного на вышке. Лицо Храмова было в тени от навеса, но по обозначившимся скулам часового Лузгин догадался, что над ним потихоньку смеются.
– Как штанишки, Храмов? – спросил он, прикладывая снова остриё. – Если что, могу сносить в деревню постирать.
– А сейчас сами заберут, – ответил Храмов, и Лузгин услышал лязг передёрнутого автоматного затвора. – Командир-ир! – закричал Храмов. – К нам из деревни делегация.
Лузгин вскочил на ящик и выглянул над бруствером. По дороге от деревни к блокпосту шли люди плотной тёмной кучкой, и первый что-то вёз на низкой громыхающей тележке.
7
Пулемёт, похожий на автомат Калашникова, только с длинным стволом, круглой патронной коробкой и двумя короткими сошками для упора, лежал на тележке. Возле стояли Дякин и Махит, а позади них те двое, из самообороны, и ещё четыре деревенских мужика с хмурыми серыми лицами. Сержант Коновалов стоял к ним лицом без оружия, сунув руки в карманы хэбэшных штанов, но по бокам от него два солдата держали автоматы у пояса на изготовку и озирались по сторонам, словно ждали кого-то ещё.
– Ну, – сказал Коновалов. – Ну и хули?
Славка Дякин оглянулся на Махита, но тот молча смотрел на сержанта, сложивши руки на причинном месте, как футболист в момент пробития штрафного. Лузгин глядел в лицо Махиту до тех пор, пока тот не почувствовал взгляд и не встретился с Лузгиным глазами. Что же вы, дурни, наделали, думал Лузгин, и как теперь всё это расхлёбывать будете?
– Вот, – Дякин ладонью указал на пулемёт. – Стреляли из него.
– Да ну! – с издёвкой сказал Коновалов. – И кто стрелял?
– Алдабергенов, – произнёс Махит, переводя холодный взгляд на Коновалова.
– Он пьяный был, – добавил Дякин.
– Кто-кто стрелял? – Коновалов вынул руки из карманов. – Узун стрелял? Вы что, ребята… Алдабергенов в нас стрелял?
– Он был пьян, – сказал ровно Махит.
– Всё равно не поверю, – с угрозой в голосе произнёс Коновалов. – Он живой или мёртвый?
– Мёртвый он, – ответил Дякин.
– Да сами же его и шлёпнули, наверно, – сказал солдат, слева от Коновалова. – Один нормальный человек был среди вас, уродов, вот вы его и кончили.
– Ваш снайпер попал ему в голову, – Махит длинным пальцем показал на себе, куда попал снайпер Потехин. – Можете пойти и посмотреть.
– Посмотрим, – недобро сказал Коновалов.
– Ваш снайпер застрелил и мать Алдабергенова.
– Что ты сказал? – Коновалов наклонил голову к плечу. – Какая мать, при чём тут мать, Махит? Порядок в деревне не держите, а говорите – мать. Какая мать?
– Мать Алдабергенова.
– Ты понимаешь, – шагнул вперед Дякин, – она, видать, стрельбу услышала и полезла сдуру на уердак, ну, туда, за сыном, ну и, это, попалась, значит… Ну, в неё попало…
– Сам виноват, – сказал Коновалов. – Не стрелял бы, и мать не полезла.
– Да кто же спорит, – развёл руками Дякин.
– Всё равно не верю, что Узун стрелял.
– Он был пьян, – повторил Махит.
– А что же ты, начальник, позволяешь своим мусульманам водку жрать? – спросил сержант и сплюнул под ноги.
– Разве я научил его пьянству? – сказал Махит не сержанту, а Лузгину.
– Кончай болтать, Махит! – прикрикнул Коновалов. – Скажи спасибо, что мы дёргаться не стали. Могли бы полдеревни в ответ раздолбать, и нам бы никто слова не сказал.
– Да ладно же, Василий, – подал голос Дякин. – Ну, случилось и случилось. У вас же ведь никто не пострадал, да?
– Да если бы хоть одного, – помахал кулаком перед дякинским носом сержант, – вы до сих пор по подвалам бы ныкались! Откуда знаешь, что Алдабергенов пьяный был? – спросил он с угрозой Махита.
– От младшего брата. Они вместе с утра похмелялись… По русскому обычаю.
– Не зли меня, Махит, – сказал сержант. – Не надо меня злить, я и так очень злой, дальше некуда. Значит, так, – добавил он хозяйским голосом. – Пулемёт мы забираем. Убитых не трогать, пока не приедет проверка.
– По нашему закону…
– Обойдётесь, – отмахнулся Коновалов. – Сам Елагин приедет, ему всё покажете, он даст команду… Может быть, на экспертизу заберут. Ты понял?
– Я понял, – ответил Махит. – Мы можем идти, командир?
– Идите, – сказал Коновалов и обернулся. – Ты, Дякин, забери корреспондента. И следи за ним, Дякин, чтобы он у тебя не бродил тут, как этот… Потом Елагину отдашь, он его в Казанку увезет. Ты понял?
– Понял, понял, – ответил старый Дякин пацану в военной форме.
– Идите, Владимир Васильевич. – Коновалов шагнул в сторону, освобождая Лузгину дорогу. – И будьте всё время у Дякина, вечером вас ротный заберёт.
Лузгин пожал плечами, оглянулся и увидел снайпера Потехина, стоявшего поодаль за бетонным блоком.
– Да я всё сделаю, Василич, – помахал ему рукой Потехин, и Лузгин не сразу догадался, что речь идёт о кастрюле с капустой.
– Воды долей немножко, – сказал Лузгин.
– Нормально всё, – ответил весело Потехин. – Я врубился, Василич. Спасибо.
– Ну, давайте, идите, – сказал Коновалов.
Тележку вёз один из русских мужиков, Махит с охранниками шёл впереди, не оглядываясь, замыкали группу Дякин с Лузгиным. Тележка скрипела и лязгала железными колёсами, и Лузгин подумал: почему в руках не принесли, зачем тащили пулемёт на этой долбаной тележке, и тут же понял, что Дякин не рискнул нести оружие в руках к обстрелянному только что блокпосту. Не дураки, одобрительно хмыкнул Лузгин.
Дякин шагал рядом молча, и Лузгин нетерпеливо ждал, когда же тот начнёт его ругать за самовольную отлучку и даст ему возможность оправдаться и поругать его, Дякина, за то, что бросил друга и ушёл надолго. Лузгин уже всё выстроил в уме, но Дякин молчал, не ругался и даже не спрашивал, и тогда Лузгин сам спросил у Славки, кто такой Узун Алдабер-генов и почему он не должен был стрелять, но всё-таки стрелял. Дякин стал рассказывать вполголоса, и Лузгину пришлось слушать с натугой, сквозь грохот и визги тележки, прыгавшей перед глазами по неровностям старого шоссе.
Алдабергенов был местным парнем, отслужившим когда-то в Чечне и болтавшимся в деревне без работы. «Узун» – это кличка, а не имя, по-казахски означавшая «худой». А он и был худым и длинным и дружил с парнями с блокпоста, приносил им самогон и пел с ними русские песни. Как его звали по паспорту, Дякин не помнил. В деревне парня не любили и боялись, он был драчлив и заносчив; говорили, что как-то завязан в торговле наркотой. А кто тут не завязан, сказал Дякин, когда работы нет. Махит не взял его в отряд, Алдабергенов обиделся, просился на контракт к Елагину, его не взяли и туда, но это же не повод, чтобы стрелять, нажравшись, с чердака. Узун много спорил с солдатами, на деньги метал штык-ножи и заводился драться врукопашную. Один разок его слегка побили коллективом, но и это ведь тоже не повод, просто взял и нажрался до чёртиков, и никакой он был не мусульманин, рассказывал Дякин.
– Жалко парня, – сказал Лузгин.
– А мать-то, мать зачем полезла! – сказал Дякин, и Лузгин вспомнил, как вздрагивали с каждым выстрелом плечи снайпера Потехина, и как он ответил сержанту, что не знает, попал или нет, и как успокоил Лузгина насчёт кастрюли и капусты. Два дурня молодых, сказал себе Лузгин. Один стрелял да не попал, второй попал, и вся история, и вечером в деревне будут похороны, если к сроку успеет Елагин. И ещё Лузгин подумал, как там без него управится Потехин, правильно ли выложит и упарит картошку, и понравится ли солдатам новая лузгинская еда. А ведь он представлял себе, сидя возле печки, как будет сам раскладывать половником по мискам и смотреть со стороны на едоков, ожидая, когда те его похвалят.
Дом, с чердака которого стрелял Алдабергенов, стоял налево от дороги, во втором проулке, и Махит с охранниками повернули туда, следом мужики с тележкой и Дякин; пришлось за ними брести и Лузгину, хотя он понимал, что впереди, куда они идут, нет ничего хорошего и там ему едва ли будут рады, особенно если узнают, с кем он только что был и откуда явился.
Старые ворота из неровных досок были открыты настежь, словно жильцы собирались уезжать и ждали машину. Во дворе, на бурой утоптанной земле с клочками высохшей травы, стояли мужчины в шапках и женщины в платках, между ними бродили дети с возбуждёнными глазами. Махит и охранники зашли сразу в дом, а Лузгин с Дякиным встали у стенки сарая, куда мужик с деловым видом закатил тележку и тут же вышел с шапкой в руке, посмотрел на людей во дворе и двумя руками надел шапку снова. Лузгин закурил и от пустоты момента спросил Дякина, сколько лет младшему алдабергеновскому брату. Лет семнадцать, ответил Дякин, точно не знаю, а ещё у Алдабергенова есть жена и трехлетняя дочка, но с ним не жили, потому что Узун пил и дрался.
На крыльце под навесом появился Махит, посмотрел на Дякина и ладонью приказал идти.
– И ты давай, – сказал он Лузгину, не разжимая губ, но Лузгин его услышал, потому что, как вышел Махит, все во дворе замолчали. – Надо идти, – шепнул Дякин и сдёрнул с головы вязаную лыжную шапочку.
В комнате на сдвинутых лавках лежали два тела, уже обёрнутые желтоватыми простынями. Вдоль стен стояли женщины и плакали, а посреди комнаты на табуретке сидел парень в белой рубашке.
– Смотри, корреспондент, – сказал Махит, заходя парню за спину и положив ему на плечи длинные ладони. – Смотри, какое горе. Смотри и думай, хорошо думай, кто в этом виноват. Он виноват? – Махит протянул руку к телу худому и длинному. – Она виновата? – Рука указала на тело маленькое и округлое. – Или он виноват? – Махит стиснул ладонями плечи сидящего, и парень заплакал. – Смотри, корреспондент.
– Мне очень жаль, – сумел произнести Лузгин.
– Иди отсюда, – сказал парень, не поворачивая лица.
– Зачем грубишь? – сказал Махит. – Веди себя как мужчина. Этот человек… другой, на нём крови нет. Он – корреспондент, у него есть карточка ООН. Он про нас правду напишет. Напишешь, да?
Лузгин кивнул.
– Словом скажи, словом!
– Да, – сказал Лузгин.
– Я хочу закурить, – сказал парень. – Можно мне закурить?
– Разрешаю, – ответил Махит. – Твой брат много курил.
– Рахмат, Махит-ага, – сказал парень.
– Пойдём, корреспондент, – сказал Махит. – Дальше пойдём. Смотреть будешь. Ты старый человек, а старый человек – мудрый человек. Ты правду напишешь, я знаю.
Сколько же лет Махиту, думал Лузгин, выходя за ним во двор. И тридцать, и сорок, и больше, кто же разберёт под этой бородой, а глаза у него вовсе без возраста, волчьи нехорошие глаза, опасные, с отсутствием какого-либо выражения. Люди с такими глазами, должно быть, очень легко убивают, предположил Лузгин и пожалел, что не остался в траншее с Потехиным. Там, под обстрелом, ему было лучше, чем здесь. Там было страшно, и здесь было страшно, но там он был своим, а здесь чужим и виноватым, и грош была цена махитовским словам по поводу пресс-карточки ООН. Он был здесь, но был с той стороны.
На улице Махит неожиданно взял его под руку и совершенно другим тоном пустился объясняться, как мирное – другого просто нет – нерусское и русское население деревни Казанлык жестоко страдает от истерики русских военных. Он так и сказал: «от истерики». Литературный этот оборот изрядно удивил корреспондента Лузгина, он стал слушать внимательнее и изумился ещё больше, уловив, что Махит говорит ему «вы» и «Владимир Васильевич».
Когда-то за деревней, ещё до зоны, в двух километрах от старой границы, стоял погранично-таможенный пост. Его сожгли и постреляли всех таможенников вооружённые контрабандисты, пришедшие с юга, и в деревню впервые приехал ОМОН на зачистку.
Никто не скрывал, что в деревне есть друзья и даже родственники тех, кто с юга; родство и дружба складывались долгими годами, а потом, когда многие русские от безработицы стали уезжать и пропадать, в опустевшие дома целыми семьями вселялись беженцы от насевших моджахедов. Они верили, что Россия удержит границу. Они возродили разваленный было совхоз, работая за сущие гроши и вчетверо больше и лучше, чем местные. Но следом за ними оттуда, с юга, пришли «соломка» и сырец, потому что наркотики – это хлеб для голодных и бедных; к ним стали наезжать ишимские, поштучно, а следом и тюменские оптовики – здоровые сытые парни на джипах в сопровождении милицейских нарядов. В обход таможни накаталась колея, сначала летняя, потом и зимняя, установился относительный мирный порядок, но кому-то на юге в этом порядке не нашлось собственного места, и он послал машины прямо на таможню, был страшный скандал, из райцентра в помощь прибыла милиция, людей и машины забрали в Ишим, и что-то с ними там случилось нехорошее, в деревне об этом шли разные толки, и вскоре разбили таможенный пост, а следом наехал ОМОН.
В прошлом году, когда была война (Махит так и сказал: была война), деревню били с двух сторон и дважды. Вначале моджахеды из танковых пушек мешали с землёю и брёвнами добровольцев местного ополчения и отступивших с поста пограничников. Среди добровольцев, защищавших Казанлык, было много нерусских, и моджахеды им затем рубили головы – и мёртвым, и живым. Потом моджахедов разбомбили под Ишимом авиацией, они вернулись пешие и укрепились по деревне, и русские пригнали свои танки с артиллерией. Неделю ждали, не уйдут ли окопавшиеся сами, два дня стреляли пушками во всё, что шевелилось, а после штурманули в лоб. Военные никого не расстреливали и голов не рубили, но отдельных мужчин увезли, и никто из них в деревню не вернулся. Приезжала миссия ООН, два эстонца и толстая шведка под назойливой охраной «голубых», записывали всё на диктофон, снимали телекамерой, потом уехали и тоже не вернулись.
– Россия нас бросила, – сказал Махит. – ООН нас тоже бросила. Мы не нужны, мы мешаем. Мы просто должны умереть.
Ну, конечно, подумал Лузгин. А ты сам-то, Махит, с какой стороны ты сам пришёл в деревню и что держал в руках, и куда это самое «что» было направлено стволом – на юг или на север? Он споткнулся и дёрнул плечом, и Махит отпустил его руку.
В первом же дворе, куда они зашли, стоял разбитый взрывом дом, где чудом уцелела одна комната, и в этой комнате и ещё в сарае под рубероидной крышей жили шесть человек: трое взрослых и трое детей – русский муж, жена-татарка, отец жены и девочки, похожие на мать. Был ещё сын (татарин старый всё гладил на колене его чёрно-белое фото), но умер от осколка, восемь лет, а старшей девочке задело голову, и теперь на этом месте плохо растут волосы. Старику попало пулей в спину, русский зять задирал на старике клетчатую длинную рубашку и показывал, куда вошло под правую лопатку и вышло у подмышки. В другом дворе на лавке у крыльца сидела девушка в платке и толстой длинной юбке, выставив ногу в чёрном резиновом сапоге и поджавши другую, но потом оказалось, что другой просто нет до колена, зато дом уцелел, разбило лишь стайку с коровой и овцами, а мясо забрали солдаты и съели, но только овец, потому что корова была большая и тяжёлая, и никто из солдат не хотел рубить её на части, а один даже погладил корову по лбу и сказал, что ему очень жалко корову.
И дальше по дворам, по избам и сараям ему показывали снимки и вещи убитых, ругались и плакали, а чаще говорили тихо, как чужому, да он и был чужой, и если б не Махит, с ним бы совсем не стали разговаривать. В лузгинском диктофоне была всего одна кассета, она быстро закончилась, он перевернул её к началу и записывал поверх уже записанного, не представляя, как он это объяснит Махиту, если тот заметит. В последнем доме ему дали фотографию, где молодой плечистый бородач, сверкая белками глаз и крупными зубами, держал на руках – чуть сбоку, на отлёте, словно вазу, – большого толстощёкого ребёнка. Ни мужчины, ни ребёнка в доме не было.
– Давай заканчивать, Махит, – предложил Дякин, всё это время молча тоскавшийся за ними. – Не видишь разве: человек устал.
– Похороны когда? – спросил Лузгин.
– Вам приходить не надо, – сказал Махит.
В доме у Дякиных старуха сразу налила им по тарелке густого тёмного борща, Славка достал из тумбочки бутылку самогона, и они выпили по одному стакану, не чокаясь и ничего не говоря, и стали шумно есть, стуча ложками и шмыгая носами. Потом сидели во дворе на лавочке, Лузгин курил, а Дякин рассказывал – много и по делу, совсем не ту пустую ерунду, как прошлым вечером, и чем дальше он рассказывал, тем тоскливее становилось Лузгину, и разрасталась злость, хотелось спорить и ругаться, потому что должен быть какой-то выход, он должен быть всегда, его просто не видят ни те, ни другие, и загоняют себя в невозвратный тупик, где в конце были разные кладбища.
– Постой, – сказал он Дякину, когда тот помянул Ал-дабергенова, – в Чечню же этих… ну, нерусских, говорят, не брали.
– Да всех брали, всех, – ответил Дякин.
– Откуда знаешь?
– А я там был.
– Ты? – удивился Лузгин. – Ты был в Чечне?
– Ну да, – сказал Дякин. – Я же строитель, вот послали восстанавливать.
Какой ты, на хрен, строитель, сказал ему Лузгин, ты же вечный аппаратный комсомолец. Я по специальности инженер-строитель, сказал Дякин, окончил заочно ваш тюменский институт, после райкома был у Рейна – ну, знаешь, ишимского мэра – замом по капитальному строительству, потом в Тюмени в департаменте у Чикишева.
Ты был у Чикишева, переспросил Лузгин. Почему же тогда мы ни разу не виделись? Да чёрт его знает, хмыкнул Дякин, не получалось просто, вот и всё. А тебя я по «ящику» видел, как ты выступал. Я не выступал, обиделся Лузгин, я передачи вёл. Артисты в цирке выступают. Ну, и как тебе было в Чечне? Что ты там делал? Школу восстанавливал, ответил Дякин и спросил, не хочет ли Лузгин выпить ещё. Хочу, сказал Лузгин, только неси сюда, а то в доме курить неудобно. Вчера же курил, сказал Дякин. Так то вчера, сказал Лузгин и спросил, где у них туалет. Да вон же, за сараем, в огороде, сказал Дякин, не помнишь, что ли, куда вчера ходил? Не помню, сказал Лузгин, пьяный был и темно. Ну, ты даёшь, сказал Дякин. А баню помнишь? Баню помню, сказал Лузгин, вон она, баня, а туалет не помню. Ну, ты даёшь, сказал Дякин и ушёл за самогоном.
– Вся эта херня добром не кончится, – сказал Лузгин, когда выпили снова и заели огурцами из тарелки. Два стакана, бутылку и тарелку с огурцами Дякин расставил на скамейке между ними. Скамья была с наклоном, и Лузгин тревожился слегка, что вдруг бутылка упадёт, а пробка в ней какая-то некрепкая. Неродная была пробка, от другой бутылки.
– А мы уже привыкли, – сказал Дякин. – Иногда вот так вспомнишь… Как будто той жизни и не было. Странно, Вовка, да?
– С ума сойти, – сказал Лузгин. – Как можно так жить? Не понимаю.
– А мы живём, – сказал Дякин. – День не стреляют – уже хорошо.
– И что: и пашете, и сеете?
– И пашем, и сеем, и убираем.
– С ума сойти, – сказал Лузгин. – Я бы давно сбежал отсюда.
– Куда? – спросил Дякин, вынимая пробку.
– Слышь, – сказал Лузгин через минуту, – а почему в твой дом ни разу не попало?
– Просто повезло, – ответил Дякин, и Лузгин ему не поверил.
Он вспомнил свой обход деревни под руку с Махитом, всех жителей, убитых и покалеченных военными, и только сейчас сообразил, что ему ни разу не сказали про людей, убитых «духами», а ведь Махит ему рассказывал про головы нерусских добровольцев. «Значит, спектакль?» – спросил себя Лузгин. Но тот, с красивыми зубами, с ребёнком на руках – он что, тоже спектакль? Нет, не похоже.
Никто всей правды знать не знает и не хочет. Не очень-то свежая мысль.
Лузгин сказал Дякину, что он бы полежал немного, ему нехорошо и голова раскалывается. Так выпей ещё, и пройдёт, посоветовал Дякин. Лузгин сказал, что выпить выпьет, но не пройдёт, он себя знает, надо пенталгину, голову перемотать и полежать немного. Но только не в комнате при стариках, там ему неудобно. Пойдём, сказал Дякин, я тебя в кладовке положу.
В кладовке под слепым окошком стоял топчан. Лузгин прилёг на него лицом к стене и уткнулся в доски лбом, перетянутым старым полотенцем, которое дал ему Дякин. Сам Дякин вздыхал и шарился в кладовке, мешая Лузгину, потом ушёл и дверь прикрыл, и Лузгин принялся ждать, когда таблетка и повязка начнут действовать, и он уснёт и проснётся здоровым.
Ему приснился город, где он родился, и будто бы туда Лузгин приехал взрослым погостить, ходил везде и плохо узнавал, искал знакомых, но их нигде не было, а были на каждом углу полупустые ларьки с сигаретами, но незнакомых сортов и дешёвыми, в некрасивых пачках, и чем ближе к родному двору, тем курево хуже и хуже, и продавцы в ларьках, от чьих услуг он отказывался, выходили наружу и шли за ним следом нараставшей угрюмой толпой. Лузгин догадался, что надо купить хоть бы что, иначе они не отстанут, и в киоске у ворот в свой двор взял пачку чего-то и полез в карман за бумажником, но в кармане оказалось пусто, бумажник украли, а ведь он знал, что так и будет, ещё у первого ларька он догадался, но сделать ничего не мог, и тут его обступили торговцы и стали сами шарить по карманам. Он говорил, что денег нет, ему не верили, и лезли, и в каждом кармане находили скомканные деньги, и забирали их себе, и лезли вновь, и снова находили, кричали зло и подступали ближе к Лузгину – так, что стесняло дыхание. Он рванулся, растолкал толпу, вбежал в ворота своего двора и увидел цыганёнка Золотарёва и четырёх его братьев, что жили в соседнем подъезде. Золотарёв держал в руках большую палку и был он почему-то бородатый, с крупными белыми зубами, и бить он собирался явно не торговцев, а недотёпу Лузгина, которого и в детстве бил, пока Лузгин не догадался отдавать ему школьные обеденные деньги – сначала по рублю, а после реформы по десять копеек. Лузгин хотел сказать Золотарёву, что деньги у продавцов, и пусть он их побьёт и деньги заберёт себе, но тут сзади набежали, схватили за плечи и стали трясти, и Дякин сказал ему: «Вовка, вставай».
В кладовке уже потемнело совсем, и вислой физиономии Дякина, вонявшей свежим самогоном, было почти не разглядеть.
– Вставай, вставай, – теребил его Дякин.
– Что случилось? – недовольно произнёс Лузгин, приподнялся и сел на топчане, прислушиваясь к шуму в голове, и услышал другой шум, сухой и далёкий, и частый, топот сапог за окном, деловые нерусские крики и потом взрыв, удар волны по стёклам и снова взрыв и удар.
– К тебе пришли, – сказал полушёпотом Дякин. – Но ты не волнуйся, всё будет нормально. Только ты с ними не спорь и делай всё, что они скажут.
– Кто пришёл? Махит? – хрипло вымолвил Лузгин и закашлялся.
– Нет, не Махит. Но ты не дёргайся, ладно? Я с тобой пойду. Понял? И ты, это, – сказал Дякин в темноте, – вещи забери, они сказали.
Свет нигде не горел. Лузгин почти на ощупь вышел в сени и в открытом проёме двери увидел во дворе силуэты людей, на них тускло блестело оружие, а далеко в тёмном небе вразнобой летали пулевые трассы.
Его с двух сторон вели под руки, сумка прыгала и била по бедру. Вдоль улицы стояли большие чёрные грузовики, от них пахло перегретыми моторами. Сквозь шум ходьбы, сопенье конвоиров и его собственное сбитое дыхание стрельба за деревней прослушивалась отдалённым фоном, как было на охоте с Дякиным, только там стреляли не так часто и по уткам, а сейчас стреляли в Коновалова с ребятами, а может и в Елагина, если он успел приехать на блокпост. За деревней сильно грохнуло и загорелось, люди у грузовиков закричали весело и непонятно, и кто-то невидимый рядом оглушительно выпалил в небо огненной струёй, конвоиры вздрогнули на шаге и чуть не уронили Лузгина и принялись ругаться, и от машин им вслед засмеялись и что-то крикнули обидное.
Лузгина затащили в просторный тёмный двор, где тоже были люди с автоматами; они и конвоиры говорили меж собой, а Лузгин старался отдышаться. Потом из темноты пришёл высокий человек в военной кепке и спросил, Лузгин он или нет.
– Да, – выдохнул Лузгин.
– Как от тебя воняет, – сказал высокий человек в военной кепке.
У него забрали сумку и повели в угол двора, где из земли торчал чёрный квадрат непонятного ящика, и один из конвоиров сдёрнул с ящика толстую крышку, а другой подтолкнул Лузгина и сказал: «Давай вниз», и Лузгин догадался про погреб и даже увидел в чёрной пустоте первые перекладины лестницы. Он оглянулся, но Дякина не было рядом. Его снова толкнули в плечо, Лузгин стал спускаться, нетвёрдо щупая ногами перекладины, и только убрал пальцы с горловины люка, как крышка глухо стукнула, и Лузгин повис на лестнице в кромешной темноте. Ему вдруг показалось, что под ним не меньше километра, лестница кончится, и он рухнет в колодец, но тут его нога коснулась дна, и низкий мужской голос произнёс: «В говно не наступи, приятель».








