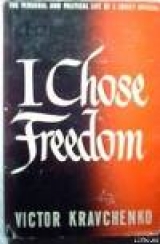
Текст книги "Я избрал свободу"
Автор книги: Виктор Кравченко
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 7 страниц)
ОТРЫВОК ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ
В конце мая 1942 г. Кравченко был назначен в Совнарком РСФСР на должность начальника отдела военного снабжения и находился на этом посту до середины лета 1943 года. Пребывание на этой должности позволило ему сделать ряд интересных наблюдений не только о жизни в высших кругах Кремля, но и об общем положении в советской оборонной промышленности во время войны. Наиболее интересные отрывки из этих двух глав книги Кравченко приводятся ниже.
* * *
Около одиннадцати ко мне постучала моя секретарша, интеллигентаая женщина приятного вида.
«Виктор Андреевич, будете завтракать?»
«Да, пожалуйста. А как вы? Вы уже завтракали?»
«Я имею право только на стакан чая и на кусок сахара,» вздохнула она. «Я приношу хлеб с собой, из дома. Война… Что поделаешь…»
Скоро пришла кельнерша с подносом еды. Это была женщина около тридцати лет, чисто одетая, в белой шляпке. Она выполняла свою работу тихо и аккуратно, разложив на маленьком столике белую салфетку и расставив на ней пищу: два яйца, немного консервированного мяса, белый хлеб, масло, стакан горячего чая, несколько кусков сахара, несколько пирожных. Все, за исключением чая и яиц, было из американских поставок. Хотя руки женщины носили следы тяжелой работы, они были чистыми.
«Я вижу, что вы носите маникюр», сказал я с улыбкой.
«Конечно. Ведь я служу большим людям», сказала она. «Ну, кушайте на доброе здоровье, Виктор Андреевич».
Было что-то в ее понурых чертах, что заставило меня умерить свой аппетит. Я оставил одно яйцо, немного мяса, несколько кусков хлеба и кусок сахара, как будто я не мог больше с'есть. Когда я позвонил, моя секретарша вошла, собрала остатки на поднос и вынесла их. Немного позже принеся мне какие то бумаги на подпись, она смущенно задержалась на мгновение около моего стола.
«Мне стыдно говорить, Виктор Андреевич», сказала она, «но вы интеллигентный человек и вы поймете. Я позволяю себе доедать то, что остается от вашего завтрака. Пожалуста, извините меня… но так трудно оставаться в живых».
«Это совершенно правильно. Я рад, что вы это сделали. Но, откровенно говоря, я думал, что кельнерша…»
«У нас с Лизой соглашение», прервала она. «Один день я беру остатки, а другой – она… Голод ужасная вещь, Виктор Андреевич. Он сильнее, чем стыд».
И так, во все время моего пребывания в Совнаркоме, я ел только половину своего завтрака, оставляя вторую половину для Лизы и моей секретарши. Лиза, как я узнал, уносила свою порцию домой для ее двух маленьких детей; ее муж был на фронте. Обe эти женщины существовали только на рабочий паек: 400 грамм сахара, 500 грамм крупы и 400 грамм жиров в месяц, плюс 400 грамм хлеба в день. Когда я оставил недоеденным мой первый завтрак, то в переводе на рыночную стоимость, это составляло по меньшей мере 100 рублей. Одно яйцо, например, стоило 40 руб., а Лиза зарабатывала 150 рублей в месяц.
Около полудня у меня был другой посетитель, человек заведывавший особым секретным отделом, глазами и ушами НКВД в каждой советской организации. Это был молодой человек, типичный агент полиции, хотя и в штатском платье. Он был деловит и несколько слишком официален, держа себя так, как будто он был действительным хозяином в моем кабинете.
«Привет, товарищ Кравченко», сказал он. «Очень рад с вами познакомиться. Мы будем с вами часто встречаться. Вы здесь новый человек и вам нужно с самого начала познакомиться с некоторыми правилами. Мы воюем. Враг везде и мы должны быть очень осторожны».
«Конечно, конечно».
Так, вот правила для сохранения государственных секретов. Пожалуйста прочтите их медленно и внимательно и спрашивайте меня, если что либо будет неясно».
Он вручил мне пачку в десять или двенадцать густо напечанных на машинке листков. В обычной советской смеси приказов и угроз, эти листки инструктировали меня, как обращаться с государственными, партийными и военными секретными документами, как охранять мой письменный стол, мой сейф и кабинет от постороних глаз, даже как препятствовать моему личному секретарю смотреть на некоторые типы официальных бумаг. Я узнал, что в Совнаркоме было два штата стенографов, обычный и секретный. Обычные письма могли диктоваться обычному штату, но секретные должны были даваться только секретным стенографам, которые должны вызываться через особый отдел. Правила предписывали, что каждый приказ от моих начальников должен быть в письменном виде.
«Но как, если товарищ Уткин и товарищ Памфилов (заместитель и председатель Совнаркома) или кто либо из Кремля дадут мне устные инструкции?» спросил я в этом месте.
«В этом случае вы должны немедленно внести их слова в ваш личный дневник. То же самое относится и к содержанию важных телефонных разговоров. Записывайте все без задержки – это ваша лучшая защита на случай последующих недоразумений. Товарищ Сталин учит нас доверять людям, но в то же время контролировать и еще раз проверять».
После того, как я кончил чтение, мой посетитель распространился на эту тему. Суть его лекции была в том, что я не должен доверять никому и предполагать, что другие мне также не доверяют. Должны быть письменные доказательства, подробные отчеты о каждой встрече или разговоре. Взаимное недоверие было не только фактом в советском аппарате, но оно было признанным, обязательным способом жизни, единственным шансом для самосохранения. Вновь я подписал документ, гласящий, что я ознакомился с правилами и знаю о наказаниях о их нарушениях.
В конце он попросил меня прочесть и вникнуть в совершенно секретный документ, подписанный Сталиным и Молотовым. Это было решение Политбюро, определявшее права и обязанности Совнаркома. Оно перечисляло самые мелкие подробности и не оставляло никакого сомнения в том, что правительство, представленное Совнаркомом, было только слепым орудием и слугой Политбюро. Я подписал обычную форму держать свой рот закрытым. Эта подчиненность правительства партии была известна каждому интеллигентному советскому гражданину и все же она считалась тайной.
До свидания, товарищ Кравченко. Как я сказал, мы будем с вами часто встречаться.
* * *
Те слои правящего круга, к которым я принадлежал, были во многих отношениях самыми несчастными в советской иерархии. В целом, мы имели больше ответственности, чем власти. Мы делали самую тяжелую работу, а обычно благодарность получали наши начальники. Мы были слишком высоко поставлены, чтобы отдыхать, как это могли делать меньшие начальники и рядовые служащие, но недостаточно высоко в пирамиде власти, чтобы перекладывать вину и работу на плечи других.
Но из всех наших испытаний самым тяжелым была бессоница. Неделя, когда я мог спать больше пяти часов в сутки, была исключением. Основная масса наших служащих и специалистов работала от девяти до пяти часов, хотя время от времени я мог задержать их и дольше или вызвать кого либо на вечер. Но мой рабочий день продолжался от десяти или одинаццати часов утра до трех-четырех часов следующего утра, а часто и позже. Редко я мог украсть несколько вечерних часов для своей жены. Иногда я позволял себе один или два часа беспокойного сна на диване в моем кабинете, с запертой дверью и телефоном у уха, чтобы меня не поймали за этим делом.
Расписание рабочего дня высших чиновников в Москве является необычайным, приспосабливаясь к особенностям рабочих привычек одного единственного человека. Сталин нормально начинает свой рабочий день около одиннадцати часов утра, работая непрерывно до четырех или пяти часов дня. Затем он обычно выключается до десяти или одинадцати часов вечера, оставаясь на работе до трех-четырех часов утра или еще позже. Из этих двух сессий, ночная является, без сомнения, наиболее важной.
Существовали различные теории относительно странных рабочих часов диктатора. Одна заключалась в том, что это позволяло ему поддерживать личный контакт его чиновниками во всех частях его громадной страны, несмотря на семичасовое расхождение времени между самыми западными и самыми восточными районами страны. Другая теория была в том, что он намеренно разбивал жизнь своих подчиненных на две смены, чтобы уменьшить для них возможности личной жизни и общественных отношений.
Каковы бы ни были причины, но чиновничество столицы регулировало свое существование по эксцентричным часам Сталина. Как по сигналу, бюрократия высших рангов включалась в работу, когда Хозяин (как мы обычно его называли в неофициальных беседах) входил в свой кабинет и успокаивалась только тогда, когда он отправлялся домой. Остальная страна, находясь в постоянной телефонной связи с центром и чувствительная к его склонностям, также отражала это расписание. В результате, прилив и отлив официальной жизни во всей России определялись приходами и уходами одного полного, изрытого оспинами грузина. Одна организация, конечно, работала 24 часа в сутки – НКВД. Ей не нужно было придерживаться никакого расписания, потому что она – никогда не спит. Начиная с десяти часов утра, в рабочие дни, большие, не пробиваемые пулями Паккарды с их зеленоватыми стеклами несутся с ревом по пригородному Можайскому шоссе, вдоль Арбатского бульвара и оттуда к различным цитаделям «власти». По звуку сирен, по тому, как возбужденные милиционеры останавливают движение, чтобы дать путь этим мчащимся машинам, москвичи знают сейчас же, что это Хозяин, Молотов, Берия, Маленков, Микоян, Каганович и другие подобные вожди следуют через столицу. За каждым лимузином следует автомобиль (обычно «Линкольн») и впереди его другой такой же, набитые сильно вооруженной охраной НКВД в штатской одежде. Вожди конечно, путешествуют всегда отдельно, а не группой, чтобы уменьшить опасность для их жизни.
Пути следования намечаются специальным отделом секретной полиции, ответственной за безопасность высших чиновников. Каждый дюйм пути тщательно патрулировался. Жители каждого дома по такой дороге известны властям и сомнительные люди быстро удаляются. Тысячи людей в гражданском платье и в форме расставлены на важнейших местах, держа правую руку на револьвере, они знают, что их собственные жизни немедленно окончатся, если что либо случится с любимыми вождями за непробиваемыми пулями стеклами. Москвичи никогда не останавливаются, чтобы посмотреть, как проносятся мимо Сталин и его ближайшие помощники. Предусмотрительные люди отходят с пути и стараются быть незаметными, когда мимо следуют их властители.
Чиновники на одну или две ступени ниже – такие люди, например, как Памфилов и Уткин в нашем Совнаркоме – стараются быть уже на своих постах, когда Сталин появляется в своем кабинете, и остаются там до тех пор, пока он уйдет. Что касается меня, я стремился быть на работе до того, как прибывали мои непосредственные начальники, также как мои помощники уже были под рукой, когда я прибывал в Совнарком. Я никогда не уходил без специального разрешения, пока мои начальники не окончат своей ночной смены, так что мой рабочий день продолжался обычно семнадцать-восемнадцать часов. Уткин и Памфилов были уверены, что я буду на другом конце провода, когда бы они меня ни вызвали, точно также, как Сталин или Молотов были уверены, что Памфилов будет на работе, когда они ему позвонят. Вероятно официальный распорядок дня ни в одной другой большой стране мира никогда еще не был так приспособлен к малейшему кивку одного человека.
Наш Совнарком был исполнительным и «контрольным органом» для всемогущего Государственного Комитета Обороны. Его основной функцией в то время было направлять и контролировать выполнение приказов по военному снабжению в пределах РСФСР. Но так как немцы оккупировали Белоруссию, Украину и часть Кавказа, наша территория охватытала почти все остающиеся производственные возможности и население страны, так что в конечном итоге мы были ответственны за наибольшую часть военной продукции того времени. Часть этой колоссальной работы была сконцентрирована в отделе, которым я заведывал. Моя жизнь превратилась в ожесточенную борьбу за отыскание материалов, топлива, рабочей силы. На меня кричали и лаяли мои начальники и отчаянные исполнители Государственного Комитета Обороны. В высших кругах советского правительства вероятно больше ругаются, чем во всех остальных странах мира вместе взятых. Грубая, матерная ругань является самым очевидным и вероятно единственным напоминанием о «пролетарском» происхождении нашего правительства. Мастером в этой области является Каганович; мы говорили, что он матерится «штопором», восходя до самых великолепных вершин площадного языка. Но Молотов, Ворошилов, Андреев, и другие близко следовали за ним в этом отношении и сам Сталин также не отставал. Однако, я должен признать, что громадное большинство вождей, с которыми я приходил в соприкосновение, были способными людьми, которые знали свое дело; динамичные люди глубоко преданные стоящей перед ними работе.
Были недели в моей жизни, посвященные добыванию и налаживанию производства таких простых вещей, как ножницы для резки колючей проволоки, траншейные лопаты и фонари для замены недостающих карманных, электрических фонарей. Я никогда не забуду одной ночи, когда генерал Красной Армии сидел в моем кабинете и умолял, со слезами на глазах о таких ножницах. Тысячи наших солдат, говорил он, калечались и гибли из-за недостатка этих простых вещей. В его присутствии я звонил комиссарам в Москве и директорам заводов в городах.
Но какой был смысл всех моих угроз и криков, когда заводы не имели необходимой стали, инструментов или машин.
Я находился в постоянном контакте с маршалом Новиковым, маршалом Воробьевым, генералом Селезневым, генералом Волковым, адмиралом Галлером и десятками других военных лидеров. Слишком часто, увы, мы могли сделать немногим больше, чем об'единить наши жалобы о недостатках во всех направлениях.
Забуду ли я когда либо время, когда мы собирали тысячи простых школьных компасов и экономно распределяли их между различными фронтами. Приказ за подписью Сталина требовал пятьдесят тысяч военных компасов, но необходимой магнитной стали просто невозможно было получить.
Забуду ли я когда либо заседания, отчаянные телефонные звонки, отборные ругательства и надрывание сердца в поисках простых подков? Тысячи животных, а часто и кавалеристов, гибли из-за недостатка подков, но оказалось, что их производство задерживалось отсутствием металла и малой производственной способностью двух уральских заводов, производивших подковы. Требование на подковы пришло от маршала Буденного и, таким образом, случайно дало мне представление, где он находился. Он был удален от своего высокого командного поста и после этого исчез; ходили даже слухи, что он был ликвидирован. Теперь я узнал, что его столкнули до заведывания отделом кавалерийского снабжения.
День за днем я получал прямые и трагические доказательства неподготовленности нашей страны к этой борьбе не на жизнь, а на смерть. Десятки тысяч наших доблестных бойцов гибли из-за недостатка самых простых вещей. Ни яростные приказы Сталина, ни «строгие меры» Берии не могли выжать необходимого из заводов, страдавших отсутствием сырья и имевших рабочих, сидевших на голодном пайке. Достигавшие меня приказы носили часто истеричный тон и были переполнены угрозами самого жестокого наказания.
Мобилизация была проведена в размерах, невиданных еще ни в одной стране. Людская сила в промышленности и в сельском хозяйстве была истощена в тот момент, когда нужда в продукции была наибольшей. На фронт посылались люди от 16 до 56 лет. Последняя видимость медицинского отбора и браковки призывников была отброшена по секретному приказу Сталина. Десятки тысяч раненных посылались опять на фронт, пока их раны еще не успевали зажить. Мальчики и девочки школьного возраста, матери с маленькими детьми и даже крестьянки, оставшиеся без мужей, посылались на заводы.
ОТРЫВОК ДВАДЦАТЫЙ
В этом угрожающем кризисе человеческой силы, принудительный труд миллионов заключенных являлся жизненно важным и быть может даже самым важным фактором в спасении советского военного хозяйства.
Находясь в Совнаркоме, я много слышал о специальных проблемах, создаваемых концентрационными лагерями и тюрьмами в районах, находившихся под угрозой германской оккупации. Это рабское население было даже более необходимо вывозить, чем гражданское население. Их рабочая сила представляла значительную ценность, но, что еще более важно, эти заключенные едва ли могли любить советскую власть и могли оказать значительную помощь немцам. Еще одно соображение, без сомнения, было в том, что через этих заключенных внешний мир мог узнать кое какие чудовищные тайны о характере и особенностях советской рабской системы.
Некоторые из нас, в Совнаркоме, знали о случаях массового уничтожения заключенных, когда выяснилось, что их невозможно эвакуировать, это происходило в Киеве, Минске, Смоленске, Харькове, в моем родном Днепропетровске, в Запорожье. Один такой эпизод остался у меня в памяти в подробностях. В маленькой Кабардино-Балкарской советской «автономной республике», вблизи Нальчика, находился молибденовый комбинат НКВД, работавший на принудительном труде. Когда Красная Армия отступала из этого района, несколько сотен заключенных, по техническим причинам, не могли быть своевременно вывезены. Директор комбината, по приказу комиссара кабардино-балкарского НКВД товарища Анохова, расстрелял из пулеметов этих несчастных мужчин и женщин до одного. После того как этот район был освобожден от немцев, Анохов получил свою награду и был назначен председателем совнаркома этой республики.
Требуя от комиссариатов увеличения продукции, я часто сталкивался с острым недостатком рабочей силы. Народные комиссары знали положение лучше, чем я; они часто просили Памфилова о дополнительной рабочей силе из резервов НКВД и он, в свою очередь, делал заявки НКВД на рабочую силу для того или иного важнейшего предприятия. Иногда он ставил эти вопросы прямо перед Вознесенским, Молотовым, Берией. Главное Управление лагерей принудительного труда, известное как ГУЛАГ, возглавлялось генералом НКВД Недосекиным, одним из помощников Берии. Недосекин получал приказы на контингенты рабов от Государственного Комитета Обороны, за подписями Молотова, Сталина, Берии и других членов его, и соответственно действовал.
Я живо вспоминаю свою беседу с одним из руководителей ГУЛАГ. Он должен был срочно поставить одному комиссариату несколько сотен заключенных. Мы находились под страшным давлением со стороны Памфилова, на которого, конечно, также нажимали сверху и я устроил сцену этому представителю ГУЛАГ из-за рабочей силы.
«Но, товарищ Кравченко, будьте благоразумны», прервал он мою речь. «В конце концов не только ваш Совнарком поднимает вой из-за рабочих. Государственный Комитет Обороны требует их, товарищ Микоян делает нам несчастную жизнь, Маленкову и Вознесенскому нужны рабочие, Ворошилов требует рабочих для строительства дорог. Каждый, естественно, думает, что его работа наиболее важна. Но что же мы должны делать. Мы ведь еще не выполнили нашего плана арестов. Требование превышает наличность».
Планы арестов! Фантастический, хладнокровный цинизм этой фразы еще и сейчас заставляет меня содрогаться. Но что делало ее особенно невероятной, это тот факт, что чиновник совершенно не представлял себе ужаса своего замечания – аресты и заключение в тюрьму стали обычным делом в его жизни. Он, конечно, не хотел сказать, что «аресты производились действительно с целью покрыть наш недостаток в рабочей силе. Он просто жаловался, на советском жаргоне, на тот факт, что многомиллионная армия принудительного труда была недостаточна для удовлетворения всех запросов.
ОТРЫВОК ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ
Я получил свидетельство нашей трагической неподготовленности к войне почти из первоисточника, эти факты раскрыло мне заседание в Кремле, созванное одним из самых влиятельных помощников Сталина, Алексеем Косыгиным. Так как повестка дня включала много вопросов, сосредоточенных в моем отделе, Уткин пожелал иметь меня при себе, при условии не выступать на этом высоком собрании, если ко мне не обратятся.
Косыгин контролировал от Политбюро пять комиссириатов, а также заведывал вопросами военно-инженерного вооружения. Задолго до часа дня, когда было созвано совещание, в его приемной собрались пять наркомов. Мы несколько размякли, сняв на минуту официальные маски. Эти люди знают друг друга близко, даже слишком близко. Власть, в конце концов, ведь представляет очень ограниченный круг. Видны улыбки, разминание ног, обмен сплетнями.
Товарищ Гинзбург, нарком строительной промышленности, толстый маленький человечек, с лысой головой и толстыми стеклами очков, сидит в углу, спокойно пьет чай и жует пирожные. Высокий мужчина, в косоворотке под пиджаком, жует яблоко; это Акимов, нарком текстильной промышленности. Я следую его примеру и погружаю зубы в большой, сочный плод. Комиссар Лукин, глава легкой промышленности, подмигивает мне. Он известен как шутник и забавник.
«Сколько времени вы будете здесь нас мучить?» обращается Лукин к одному из людей Косыгина. «Я хочу есть – например, яичницу с салом. И стакан водки, чтобы промыть это, также не повредил бы».
«Да, вам сегодня надо подкрепиться», отвечают другие, смеясь. «Вам будет чертовски жарко. Лучше подготовьтесь».
Все смеются, за исключением товарища Соснина, наркома строительных материалов, высокого человека с худым и мрачным лицом. Его угрюмость понятна: у него неблагодарная работа, его наркомат «получает жару» от хозяев на каждом заседании. Противоположность хроническому раздражению Соснина представляет веселый Окопов, нарком машиностроительной промышленности. Только недавно он был просто директором одного из заводов на Урале. Сейчас он нарком и, говорят, пользуется большим расположением Микояна. Его быстрый под'ем по правительственной лестнице приписывается всеми его успеху в производстве нового ракетного орудия, так называемой «Катюши», и все еще держится в большой тайне. Окопов – низкорослый армянин, с ухмыляющимся лицом и смешливыми глазами.
Затем прибывает маршал Воробьев, в сопровождении генерала Калягина. Воробьев – помощник Сталина по инженерным войскам и снабжению. Так как его вопросы также проходят через мой отдел Совнаркома, мы с ним уже знакомы и он тепло меня приветствует. Мы нуждаемся друг в друге и он, также как и Калягин, знает, насколько серьезно я работаю, чтобы удовлетворить нужды фронта. Посредине болтовни и чаепития наши взоры обращены на большую дубовую дверь, ведущую в кабинет Алексея Косыгина. Наконец, эта дверь отворяется.
«Алексей Николаевич приглашает вас на заседание», об'являет секретарь.
Голоса смолкают. Улыбки исчезают. Каждый принимает свою самую официальную маску. В присутствии Косыгина мы только на одну маленькую ступень отдалены от самого Любимого Вождя. Комната эта велика, с высоким потолком, совершенной овальной формы. Портреты всего Политбюро равномерно распределены вдоль кремовых стен. Мое внимание привлекает большой радиоприемник заграничной марки; обыкновенные смертные не имеют права во время войны иметь радиоприемники. Стол заседаний, покрытый зеленым сукном, достаточно велик, чтобы за ним могли разместиться тридцать человек.
Косыгин, сидящий во главе стола, одет в костюм заграничного покроя. Лицо его угрюмо и носит такой же отпечаток бессоницы, как и мое. Он отвечает на приветствия наркомов и генералов короткими кивками.
«Садитесь», приказывает он, – «докладывает начальник ГВИУК'а».
ГВИУК – это сокращенное название управления, возглавляемого маршалом Воробьевым. Маршал встает и начинает говорить. Тот факт, что к нему обратились не по имени и титулу, не проходит мимо нас, а меньше всего мимо самого маршала, это показывает, что Косыгин в плохом настроении. Мы можем ожидать бури.
Маршал Воробьев говорит минут пятнадцать, сверяясь с бумажкой. Он приводит множество цифр. Он рисует мрачную картину недостатка снабжения. Нет моторных лодок для форсирования рек, говорит он, и это стоит нам тысячи жизней. Нет готовых понтонных мостов, нет мин для задержания неприятельского наступления, нет моторизированных ремонтных мастерских, нет телефонных проводов и инструментов, нет проcтыx печей для траншей, нет даже лопат и топоров для пехоты.
Глаза Косыгина опущены и он нетерпеливо и раздраженно стучит пальцами по столу. Мускулы его лица нервно дергаются. Почему нет ничего для противодействия сатанински успешливому и механизированному врагу? повторяют мои мысли. Почему мы проворонили эти два года мира? По мере чтения этих статистических данных, чувства маршала прорываются через его военную выдержку. В его горле чувствуется сжатие, когда он восклицает:
«Люди тысячами умирают на фронте в эту самую минуту! Почему мы не можем их снабдить простыми лопатами и топорами, ножницами для резки проволоки! Наши бойцы делают мосты из своих кровоточащих тел, потому что мы не можем дать им инструментов для резки проволоки! Товарищи, это позор, позор! У нас нет фонарей, простых керосиновых фонарей. Восемь раз за последние несколько месяцев товарищ Сталин лично приказывал обеспечить производство этих фонарей, но фронт все еще их не получает. Мы не имеем камуфляжного оборудования. Я прошу вас товарищи, стоящие во главе промышленности, от имени простых солдат на фронте».
«Все ясно», говорит Косыгин, напряженным голосом, когда маршал кончил. «О каких фонарях вы говорите?»
Полковник, сидящий рядом с маршалом, поднимает примитивный, круглый фонарь, металическую раму со стеклянными оконцами.
«И мы не можем производить этой ерунды?» восклицает Косыгин.
Случайно я знаком со всем этим вопросом. С разрешения Уткина я говорю.
«Разрешите мне об'яснить, Алексей Николаевич. Производство фонарей задерживается, потому что мы не имеем листового металла, штамповальных машин и стекла соответствующего размера и качества. Большой завод листового металла, эвакуированный из Новомосковска, еще не приведен в рабочее состояние. Стекло мы можем получить только из Красноярска. Товарищ Соснин может нам сказать, почему оно не производится».
«Фонари будут сделаны», внезапно кричит Косыгин и стучит по столу. «Я говорю вам, что вся эта преступная инертность должна быть закончена. Если даже мне придется сорвать ленивую кожу со спины негодяев, военные поставки будут поступать, как требует этого товарищ Сталин. Соснин, докладывайте!»
Угрюмый Соснин кажется сломленным. Он говорит безнадежным, монотонным голосом. Машины в Красноярске в плохом состоянии, силовая станция не работает, нет квалифицированной рабочей силы…
Косыгин вызывает Акимова и других. Час за часом длится заседание. Каждый доклад углубляет картину отчаяния. «Узкие места» в отношении материалов, машин, транспортных средств кажутся все более многочисленными – непроходимый лес «узких мест». Косыгин более не говорит, не задает вопросов. Он кричит, приказывает, устанавливает квоты и даты, не спрашивая никого – и все наркомы и генералы виновато ежатся, как группа школьников перед грозным учителем. Мы стараемся не смотреть друг на друга. Мы все знаем, и Косыгин это знает, что недостатки реальны, что ни один из нас не может произвести чуда.








