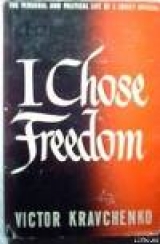
Текст книги "Я избрал свободу"
Автор книги: Виктор Кравченко
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 7 страниц)
ОТРЫВОК ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ
Начинает эту главу Кравченко описанием того, как подействовало на советских людей заключение пакта между СССР и Германией. Здесь подробно рисуется, как воспитывалась годами в них враждебность к гитлеровскому режиму и как подобный пакт казался советским людям совершенно невероятной вещью. Вскоре после заключения этого пакта, он посетил Москву и был поражен тем, насколько серьезны были приготовления к пропагандированию немецкого искусства, музыки и даже нацистских экономических и военных достижений. Он утверждает, что Сталин почти до самого начала войны Германии против СССР верил в этот союз.
Советская иерархия не нуждается в особых аргументах, чтобы воздействовать на мнение партии.
Единственно, что мы знали наверняка, это то, что наша страна исключила себя из кровавой войны, опустошавшей Европу и это казалось делом достойным благодарности. Более того, мы получали кое какую прибыль от войны – половину Польши, Бессарабию, позже три прибалтийских республики – как награду за нейтралитет Кремля.
Мало кто из нас предвидел, что Россия будет так же брошена в огонь и что ее материальные и человеческие потери будут большими, чем у всех остальных народов, вместе взятых. Мы считали несомненным, что сражающиеся страны с течением времени обескровят себя, оставив СССР действительным хозяином Европы. Политическая формула гласила, что пока капиталисты дерутся, мы будем усиливаться, вооружаться и использовать военный опыт других. Когда капитализм и фашизм ослабят друг друга, мы, если это будет нужно, бросим на весы истории двадцать миллионов вооруженных до зубов людей; к этому времени революции во многих странах Европы перейдут из теоретической в практическую стадию.
Эту циничную точку зрения наши вожди называли «большевистским реализмом». Некоторым из нас она казалась позорной и постыдной. Роль гиены, подбирающей кости мертвого континента была противна нашим моральным устоям. Мы предпочитали романтизм ранних революционных годов.
Хотя все приняли дружбу с нацизмом, наряду с усилившимися нападками на другие европейские страны, я могу утверждать, что не было никакого энтузиазма по этому поводу. Наши политические митинги, на которых ораторы из центра об'ясняли новое положение, казались напряженными и смущенными. Это было особенно верно после того, как СССР напал в ноябре на Финляндию. Когда Давид борется против Голиафа, даже друзья Голиафа чувствуют невольную симпатию к мужественному маленькому Давиду. Как мог простой рабочий на наших массовых митингах верить, что слабая, маленькая Финляндия могла, неспровоцированная, напасть на своего колоссального соседа? Тот факт, что мы заплатили сотнями тысяч убитых, раненных, обмороженных и военнопленных за узкую полоску карело-финских болот увеличивал чувство стыда.
В свете будущих событий одно должно быть ясно: Сталин вступил в свой сговор с Гитлером серьезно. Если бы Кремль имел в виду, что нам в конце концов придется воевать против Германии, какая то часть существовавшей ненависти к нацизму была бы сохранена; наша антифашистская пропаганда не была бы так полностью превращена в «анти-империалистическую» (т. е. анти-британскую и анти-американскую). Во всяком случае более доверенные партийные чиновники в Кремле, многих из которых я близко знал, предупреждались бы о продолжавшейся опасности нацизма.
Ничего подобного не случилось. Наоборот, каждый шепот против Германии, каждое слово симпатии к жертвам Гитлера, расценивалось как новый вид контр-революции. Французские, британские, норвежские «поджигатели войны» получали «по заслугам».
Теория, что Сталин просто «выиграл время», лихорадочно вооружаясь против нацистов, была изобретена много позже, для прикрытия трагического просчета Кремля в доверии к Германии, это было такое противоестественное изобретение, что о нем мало говорилось внутри России во время советско-германской войны. Только после того, как я оказался в свободном мире, я слышал, как оно серьезно обсуждалось и как ему верили. Это была теория, которая игнорировала наиболее показательную сторону соглашения Сталин – Гитлер: экономические соглашения широкого масштаба, которые выкачивали из СССР те самые продукты и материалы, которые были особенно нужны Гитлеру для войны.
Несомненно, советский режим не использовал полученной передышки для того, чтобы эффективно вооружиться. Я стоял достаточно близко к промышленности, работавшей на оборону, чтобы знать, что после пакта военные силы ослабели. Общее чувство, отражавшее настроение высших кругов, было таково, что мы можем позволить себе чувствовать себя в безопасности, благодаря государственной мудрости Сталина. В этом отношении не возникало сомнений до падения Франции; только тогда темп военных приготовлений опять усилился.
Далее в той же главе Кравченко описывает условия труда и жизни заключенных, которые исрользовались в Кемерово на различных работах Он описывает бараки, вид заключенных, их пищу и циничную торговлю НКВД трудом и жизнью этих несчастных заключенных существ. Все это он наблюдал сам, как начальник строительстра. В общих чертах эта картина только дополняет и расширяет то, что он писал выше по этому вопросу и что хорошо известно всем русским. Поэтому нет необходимости ее еще раз повторять.
В декабре 1939 года Совнарком решил заморозить строительство трубопрокатного комбината в Кемерово и Кравченко переехал в Москву, где был назначен на один из подмосковных небольших заводов.
ОТРЫВОК ПЯТНАДЦАТЫЙ
Утром 22 июня 1941 года советские города и аэродромы были бомбардированы, советские армии в панике отступали перед нацистскими «панцерными» дивизиями на громадном фронте. Внезапное германское нападение на Россию было на первых страницах газет всего мира. Этим утром до рассвета, секретная полиция начала вылавливать по всей стране десятками тысяч «нежелательных».
Но я ничего не знал о катастрофе, которая обрушилась на головы двухсот миллионов жителей нашей страны, этого также не знал никто другой на нашем заводе, когда я пришел утром в свой кабинет. Вчерашние военные сводки все еще говорили о победах гитлеровских армий, о неудачах его противников, «капиталистических шакалов» и «плутократических поджигателей войны».
За последние месяцы не было ни малейшего изменения в тоне официальной пропаганды. Не было ни одного неосторожного слова сочувствия к народам, порабощенным Гитлером, ни одного рискованного выражения порицания нацистским мародерам. Хотя миллионы русских чувствовали глубокую жалость к жертвам нацистских безчинств, мы не могли открыто выявлять своих чувств. Еще за несколько дней до этого знаменательного утра я совещался в наркомате внешней торговли с немецкими представителями об импорте машин. Мы разрабатывали технические подробности германских поставок электро-сварочного оборудования Советскому Союзу.
20 июня, за два дня до вторжения, я читал доклад на политическом собрании рабочих и служащих об «империалистической войне». Я говорил согласно предписанной линии. Германия, я повторял, стремилась к миру, несмотря на свои большие победы, но английские империалисты, поддержанные американским капиталом, настаивали на продолжении войны. Ни я, никто другой за пределами внутреннего кремлевского круга, не знал, что еще в январе Государственный Департамент в Вашингтоне предупреждал нашего посла, Константина Уманского, что Гитлер готовился к нападению на Россию. Предупреждение было повторено пять недель спустя Семнером Уеллесом и подкрепление подобными же английскими советами.
Подобные же предупреждения делались советскими агентами в Германии. Они сообщали о подозрительных передвижениях войск в нашем направлении, в масштабах слишком больших для простых полицейских намерений. Вследствии того, что я имел большие знакомства среди чиновников, работавших в комиссариатах и заводах, производивших товары для германской военной машины, я часто приходил в соприкосновение с нашими торговыми представителями, только что вернувшимися из Берлина. Их предупреждали относительно намерений Гитлера. Немцы им откровенно говорили, что столкновение неизбежно Но и это все Сталин и его двор отбрасывали, как преднамеренную ложь. Они казались ослепленными их собственной пропагандой.
Насколько позволялось знать массе русских, советско-нацистское сотрудничество было неомраченной идиллией. Сомневаться в этом, означало сомневаться в непогрешимости Сталина. Предположение о возможности обмана немцами мудрого нашего вождя было подобно контр-революции. Выразить открыто симпатию к жертвам коричневых рубашек было достаточным поводом для ареста.
Так без всякого подготовительного слуха наступил этот исторический день. Работа на нашем заводе была уже на полном ходу, когда было об'явлено, что мы должны собраться, чтобы выслушать важное заявление Молотова по радио, эта процедура была необычной и вызвала на заводе дрожь ожидания. Мы строили различные догадки о возможной теме выступления Наркома. Никто не догадывался об ужасной правде.
Поразительные и ужасные слова Молотова заставили нас окаменеть. Что должны мы были заключить из его сенсационного заявления? Фюрер, коварный и бесчестный, подлый и глупый, обрушил свой знаменитый «блитц» на страну, которая почти два года лишала себя всего самого необходимого, чтобы помочь ему покорить Европу. Мы тщательно выполняли наши обязательства. Мы поддерживали нацистов не только товарами, но и пропагандой по всему миру и дипломатическим давлением. Теперь мы получали вознаграждение.
Через несколько часов прибыл партийный оратор. Мы созвали обеденный митинг наших рабочих. Я сидел на трибуне, рядом с директором Мантуровым и секретарем заводского партийного комитета Егоровым. Я смотрел на усталые, мрачные лица наших рабочих, когда оратор клял предательство германского диктатора и восхвалял честность нашего диктатора. Я видел гнев, возмущение, а также усталость, растерянность и печаль. Некоторые женщины плакали.
После обеда мне сообщили, что начальник смены, Вадим Александрович Смолянинов не вышел на работу и что до него нельзя было дозвониться. Я взял трубку и набрал его номер.
– «Это квартира Смолянинова?» спросил я.
– «Бывшая квартира Смолянинова», сухо ответили мне.
– Пожалуйста, попросите к телефону Вадима Александровича».
– «Кто говорит?»
– «Говорит заместитель главного инженера его завода».
– «Его здесь нет и больше не будет».
– «Кто говорит? Я говорю официально».
– «Я тоже говорю официально, это представитель НКВД».
Я положил трубку. Итак, мой друг Смолянинов был арестован! Какой трагический конец для революционной карьеры! Опытный инженер и образованный человек, Смолянинов принимал активное участие в революции и был личным секретарем Ленина. Позже он был начальником канцелярии Совнаркома, начальником строительства Магнитостроя, председателем советской торговой делегации в Соединенных Штатах, директором Гипромеза. Коротко говоря, он был значительной фигурой в советском режиме.
Однако, во время большой чистки он был исключен из партии и понижен до помощника мастера на нашем заводе. С течением времени, этот бывший секретарь Ленина был повышен до должности мастера и сменного начальника. Недавно он был восстановлен в партии. Его единственный сын, сержант Красной армии, был на фронте. Сейчас Смолянинов был арестован.
Он был только первой жертвой беспощадного террора военного времени, которая стала мне известной. В последующие дни десятки других лиц вокруг меня исчезли. Задолго до этого, один приятель из НКВД сообщил мне, что в случае войны все «опасные элементы» будут убраны. В каждом селе и в каждом городе были составлены черные списки: сотни тысяч людей должны были быть взяты под стражу. Он не преувеличивал. Ликвидация «внутренних врагов» была единственной частью наших военных усилий, которая работала быстро и продуктивно в первую, ужасную фазу борьбы, это была чистка тыла в соответствии с разработанным заранее планом, по приказу самого Сталина.
Несколько лет спустя, в Америке, я слышал поразительную глупость – которой верили даже интеллигентные американцы – что в России, якобы, была «пятая колонна», и потому-то кровавые чистки мудро искореняли всех «изменников». Я читал этот очевидный абсурд в странной, полуграмотной книге бывшего посланника Джозефа Дэвиса, в легкомысленных писаниях других, которые считались экспертами в этом вопросе, несмотря на глубокое невежество в отношении природы сталинского режима и сталинской политики. Я мог только поражаться успеху этой детской пропаганды очевидно экспортированной Москвой.
Я говорю «экспортированной» потому, что внутри России правительство заняло совершенно противоположную позицию. Оно настаивало, что народ был переполнен агентами пятой колонны. С самого первого дня пресса, радио и ораторы требовали смерти мнимых внутренних врагов, шпионов, дезорганизаторов, распространителей слухов, вредителей, фашистских агентов и НКВД откликался на этот вой массовыми арестами и расстрелами. Во всяком случае в первой фазе войны мы были уверены, что Кремль больше боится своих подданных, чем иноземных захватчиков. У нас не было пятой колонны в смысле сторонников немцев или изменников, и это несмотря на кровавые чистки. Но мы имели миллионы патриотов, которые ненавидели сталинский деспотизм и его отвратительные дела. В этом отношении страх господствующей клики был обоснованным.
Варварство коллективизации, умышленный голод 1931—33 гг., невообразимые жестокости годов чистки оставили глубокие следы. Едва ли была хоть одна семья, которая бы не понесла потерь от наступления режима на народ. Сталин и его помощники не беспокоились о нашей преданности России; они беспокоились, и с полным основанием, о нашей преданности им самим. Может быть, в своих кошмарах, они видели как двадцать миллионов рабов прорываются в ярости сквозь стены и колючую проволоку, чтобы отомстить.
Во всяком случае, беспощадное подавление потенциальной оппозиции занимало первое место в планах правительства. Оно преобладало над мерами военной обороны. Советские граждане немецкого происхождения, хотя бы и в очень отдаленных поколениях, были арестованы почти до последнего человека. Все население республики немцев Поволжья, почти полмиллиона человек, было выселено из района, где оно проживало почти от времен Екатерины Великой и рассеяно по Сибири и Дальнему Востоку. Затем пришла очередь поляков, балтийцев и многих других национальностей, которых не беспокоили до войны. Изоляторы и лагеря принудительного труда были набиты новыми миллионами. Наши повелители вели себя как испуганная стая волков.
Через несколько дней после начала войны в Москве были учреждены «военные трибуналы», возглавляемые бывшим председателем городского суда, товарищем Васневым. Подотделы этого нового орудия террора были рассеяны по всей столице и ее пригородам. То же самое было и в других городах. Все поры советской жизни были пронизаны этой организацией, снабженной чрезвычайными полномочиями для арестов, секретного судопроизводства и вынесения смертных приговоров. Были специальные железнодорожные трибуналы, трибуналы речного транспорта, армейские трибуналы – всенародная свора охотников за черепами под началом НКВД, облеченная задачей вылавливать непокорных. Совершенно очевидно, что режим был в состоянии паники.
Задачи новой институции, дополнявшей, но не исключавшей всех имевшихся орудий подавления и преследования, были изложены самим Сталиным через двенадцать дней после начала вторжения:
«Мы должны организовать беспощадную борьбу против всех дезорганизаторов тыла, дезертиров, паникеров, трусов, распространителей слухов… Необходимо немедленно передавать в суды военных трибуналов всех тех, кто своей трусостью и паническими настроениями препятствует обороне страны, независимо от того, кто бы они не были».
Откуда этот дикий страх правителей страны, так недавно «об'единенной» чистками, так часто именовавшейся «монолитной». Разве это определение самим Сталиным всей страны, как скопища непокорных, не было само «паникерством» громадного масштаба? Очевидно внутренние враги были слишком многочисленны даже для сотен тысяч ищеек НКВД, раз было нужно создавать новые трибуналы. Как это могло случиться в стране, распевавшей гимны «счастливой жизни» под «солнцем сталинской конституции»?
Может быть господа Дэвисы и Дюранты могут ответить на эту загадку. Но слушая хриплые угрозы Сталина, произносимые с его грузинским акцентом, я знал, что они не подходили к картине страны, очищенной от изменников в океанах крови. И дела, которые за этим последовали, говорили еще больше, чем даже слова Сталина.
В одной Москве в первые шесть месяцев были расстреляны тысячи людей. Одного слова страха сомнения или страха отчаяния было часто достаточно, чтобы предстать перед военным трибуналом. Тысячи шпионов подслушивали и подсматривали в очередях за керосином, на базарах, в магазинах, театрах, вагонах трамваев, железнодорожных станциях за выражениями отчаяния, сомнения или критики. Каждый домовой комитет сообщал о своих жильцах, каждый служащий о своих начальниках. Дошло до того, что люди боялись сказать, что они голодны, чтобы не быть обвиненными в сомнении относительно мудрости Сталина.
В московских партийных кругах было широко известно, что когда враг подходил к Москве, тысячи заключенных в тюрьмах и лагерях принудительного труда были расстреляны, это были исключительно выдающиеся политические заключенные левого направления – социалисты, бухаринцы, эсеры, анархисты, бывшие коммунисты. Это были люди, которых Кремль боялся больше всего, т. к. в случае революции они могли бы возглавить поднявшиеся массы. Вновь этот кошмар двадцати миллионов рабов, потрясающих своими цепями…
Также не было секретом, что и машина военной мобилизации была использована для уничтожения тех, которым недоверял советский режим. Все папки НКВД были пересмотрены. Списки подозреваемых – для тех случаев, когда арест казался ненужным – были в руках всех призывных комиссий. Тех, кого хотели спешно ликвидировать, сразу призывали и посылали почти без всякой подготовки на наиболее опасные участки фронта, это была своего рода чистка левой рукой.
Грандиозность террора внутри России не может быть преувеличена, это была война внутри войны, это было наглядное выражение потрясающего недоверия Кремля к русскому народу. Вторым выражением было почти немедленное искоренение большинства «социалистических» лозунгов, под которыми мы жили и страдали двадцать четыре года. После четверти столетия насаждения коммунизма, правительство в решительный для себя час обратилось с призывом к национальному патриотизму, расовой преданности, любви к родной земле, позже даже к религии. Нас понуждали защищать не страну «социализма», а русскую землю, славянское наследие, православного Бога.
Трудно себе представить более полную переоценку ценностей, как бы лжива и преходяща она не была. Социализм? Коллективизация? Бесклассовое общество? Мировая революция? Чем большую территорию занимали немцы, тем меньше говорилось об этих идеях, из-за которых мучили страну. Только гораздо позже, когда волна вторжения была остановлена, были возобновлены старые советские лозунги. Нет сомнения, что были миллионы рядовых советских людей, которые сохраняли веру в советский тип общества и советское мышление. Эта вера, как кажется не разделялась правителями в Кремле.
ОТРЫВОК ШЕСТНАДЦАТЫЙ
Но, вернемся к первому дню войны.
Этим вечером я нашел в кабинете директора самого Мантурова, Егорова и директора подсобного завода, Ларионова. Мы говорили о войне. Радио было включено, потому что мы ждали новостей. Внезапно, сквозь маршевую музыку послышался голос:
«Граждане России! Русский народ! Слушайте! Слушайте! Говорит главная квартира германской армии!»
Мы смущенно посмотрели друг на друга.
«Не лучше ли выключить мерзавца?» сказал Мантуров.
«Черт с ним! Послушаем, что говорит этот сукин сын!» решил Егоров.
«Двадцать четыре года вы живете в страхе и голоде. Вам обещали свободную жизнь, а вы получили рабство. Вам обещали хлеб, а вы получили голод. Вы рабы, без всяких человеческих прав. Тысячи из вас умирают каждый день в концентрационных лагерях и в сибирской тайге. Вы не господа своей страны или даже своей жизни. Ваш господин – Сталин. С вами обращаются хуже, чем с рабами на галерах. Миллионы из вас находятся в этот момент в тюрьмах или в лагерях принудительного труда. Ваши господа уничтожили вашу православную веру и заменили ее обожествлением Сталина. Что осталось от вашей свободы слова и печати? Смерть паразитам русского народа! Свергайте своих тиранов!» Затем последовали ругательства, антисемитские лозунги и другие вульгарные особенности германской пропаганды.
«Заткните его!» крикнул Егоров.
Мантуров поспешно повернул выключатель. Наступившая тишина была гнетущей. Мы не осмеливались посмотреть друг другу в глаза. Скоро мы разошлись в полном смущении.
Примерно час спустя я вернулся в кабинет Мантурова. Я хотел посоветоваться с ним о замене Смолянинова. Как обычно, я вошел не постучав. К моему удивлению я нашел Мантурова и Егорова слушающими опять вражескую передачу. Я прекрасно понимал их любопытство. В первый раз за десятки лет можно было слышать, как советский режим громко разоблачается, вместо того чтобы слушать, как этот режим разоблачает других.
«Переходите к нам с этими листовками в руках», говорил голос из радио, когда я вошел. «Они будут служить вам пропуском. Зачем драться за рабство и террор, когда немцы несут вам свободную жизнь?»
Мантуров выругался, когда он повернул выключатель. Егоров, не менее смущенный моим появлением, поспешил выйти из кабинета. Я заговорил о Смолянинове и других служебных делах. Мантуров прервал меня на середине фразы:
«Между прочим, товарищ Кравченко, лучше не упоминать, что мы слушали германскую пропаганду по радио. Вы знаете, на всякий случай. Береженого и Бог бережет».
«Я уверен, что половина Москвы слушала», сказал я.
«Они не будут слушать завтра. Мне только что звонили по телефону: завтра будут реквизированы все радио-приемники».
«Реквизированы? Зачем?»
«Вероятно для хранения».
Это было именно то, что произошло на следующий день, в Москве и в остальной стране. Все граждане, под угрозой наказания должны были сдать свои приемники в ближайший район милиции. В других странах слушать врага было запрещено под угрозой наказания. В России народу в такой степени не доверяли: у людей просто отняли приемники.
Это был первый шаг к полной ликвидации всякой информации. Цензура почты не ограничивалась только проверкой писем на фронт и с фронта, но и охватила так– же и обычную гражданскую переписку. Военные сводки оказывались такими ложными, что мало кто из русских верил им. Нечего удивляться, что власти были смущены паникерами и сеятелями слухов, эти вещи просто отражали общественную уверенность, что наше правительство лгало.
На нашем заводе мы работали с растущим напряжением. Мобилизация вырывала наши рабочие силы. Хаос на транспорте оставлял нас без необходимых материалов. В теории наша страна наслаждалась двадцатью двумя месяцами мира, во время которых она могла подготовиться к столкновению. На практике, ничего не было подготовлено. Беспорядок царствовал в каждой области нашей жизни.
Мы не могли поверить передававшимся шопотом сообщениям, что немецкая волна катилась на восток с ужасающей скоростью. А что же с колоссальной Красной армией, которой мы хвастались? Что же со стратегической обороной, будто бы полученной в результате передвижения наших границ глубоко в Польшу, Румынию, Финляндию, Прибалтийские страны? Что же с теми преимуществами, которые мы, будто бы, получили в результате долгого периода нашего нейтралитета?
Сводки говорили нам меньше, чем ничего, только добавляя смущение к потоку слухов. Наряды милиции не пускали беженцев в столицу, чтобы поддержать ее дух. Но достаточное количество их проникало в город, чтобы создать у нас чувство надвигающейся катастрофы. Сводки избегали откровенного признания поражений. Они даже говорили об успехах. Но упоминавшиеся географические названия показывали, что фронт приближался.
«В течение прошлой ночи», заявляла сводка в начале июля, «бои шли на мурманском, двинском, минском и луцком направлениях… Около Мурманска наши войска оказали врагу упорное сопротивление, нанеся ему тяжелые потери… В районе Двинска и Минска оказалось, что продвинувшиеся вперед танковые соединения противника…
Но 3 июля к микрофону в первый раз подошел Сталин. Ужаснувшийся народ услышал, что волна нашествия быстро приближалась к столице.
«Гитлеровским войскам», говорил Сталин, «удалось захватить Литву, значительную часть Белоруссии, часть Западной Украины. Грозная опасность нависла над нашей родиной».
Мы едва могли верить нашим ушам.
«Цель этой войны против фашистских агрессоров заключается в том, чтобы помочь народам Европы, стонущим под игом германского фашизма», продолжал Сталин. «В этой войне у нас будут верные союзники в народах Европы и Америки. Наша война за свободу нашей родины совпадает с борьбой народов Европы и Америки за их независимость, за демократическую свободу…»
Так мы в первый раз услышали, как сам Сталин употреблял такие слова как свобода и демократия в их старомодном смысле, без насмешливых кавычек. Все это казалось невероятным: сохранение нашего большевистского режима было вдруг связано с победой «упадочных демократий»…
Ведущие капиталистические страны обещали дать всю возможную помощь Советскому Союзу. Почти забытая мечта о свободе снова пробудилась во многих русских сердцах. Хотя потребовалась ужасная война, чтобы произвести чудо, наша изоляция от свободного мира казалась сломленной.
«Братья и сестры, я обращаюсь к вам, друзья мои!» воскликнул Сталин. За шестнадцать лет своего царствования он еще никогда так к нам не обращался. Один мой приятель по заводу, расхрабрившись от возбуждения этого момента, заметил мне тихим голосом: «Хозяину, должно быть, чертовски допекло, если он называет нас братьями и сестрами».
Мы не могли понять причин наших поражений. Два десятилетия мы голодали, мучились и выбивались из сил во имя подготовки к войне. Наши вожди хвастались советским превосходством в боевой силе и вооружениях. Сейчас катастрофический отход наших войск об'яснялся недостатком орудий, самолетов, боеприпасов. Три последовательных пятилетки, каждая из которых жертвовала продовольствием, одеждой, товарами широкого потребления в пользу военной промышленности, были «успешно» завершены. И все же, при первом испытании, наша страна с двумя стами миллионов населения пытались остановить танковые дивизии противника бутылками с бензином! Десятки тысяч русских людей попадали под гусеницы германских танков, потому что, после двадцати лет почти исключительной военной продукции, у нас не было противотанковых ружей. Можно пожертвовать маслом для пушек, но, в данном случае, у нас не было ни масла, ни пушек.
Не было разумного об'яснения для советских поражений. На Польшу напали неожиданно, а затем ей ударил в спину восточный сосед. Франция была меньше и слабее, чем нападавший. Но почему обширная Россия, через два года после начала войны, со всеми преимуществами времени, количества и военного сосредоточения, должна была вести себя как отсталая маленькая страна? Если бы мы были не более чем Франция, мы были бы смяты четыре раза на протяжении первых четырех месяцев.
Только безграничные русские пространства, неистощимые русские запасы живой силы, непревзойденный героизм и жертвенность русского народа в тылу и на фронте, развитие новой и существовавшей промышленности в тылу, восстановление эвакуированных заводов спасло мою страну от уничтожения, это были вещи, которые делали возможным глубокое и дорогостоившее отступление. Режим оказался в состоянии поднять и использовать глубокий национальный дух и патриотизм народа. Позже, после Сталинграда, начался поток американского оружия и снабжения.
Мобилизация проводилась в лихорадочной спешке и бестолково. Призванных отправляли на фронт, даже не дав им возможности попрощаться с их семьями. Рабочих гнали почти прямо с их заводов на поля сражения. Все это несмотря на тот факт, что мы имели одну из самых больших в мире постоянных армий, закаленную вторжением в соседние страны и войной против Финляндии. Правительство было захвачено настолько врасплох, что оно даже не имело достаточного количества обмундирования. В эти первые месяцы даже офицеры шли на смерть в каком то смешном одеянии и без надлежащего обучения. Миллионы новобранцев месили грязь в брезентовых сапогах и ранняя зима заставала их в летнем обмундировании. Я видел новобранцев, обучавшихся с палками, вместо винтовок.
Призывные комиссии работали с семи часов утра до поздней ночи, пропуская мужчин от семнадцати до пятидесялетнего возраста. Как я узнал позже, они руководствовались не существующим законом, а секретными инструкциями Государственного Комитета Обороны, изданными после начала войны. Некоторые категории необходимых рабочих, конечно, должны были быть освобождены; точно также мужчины, имевшие двух или больше неспособных к труду иждивенцев. За этими исключениями, мобилизация была жестокой и бессердечной. Медицинский осмотр занимал от двух до трех минут на призывника. Я видел одноглазых, калек, страдавших болезнью сердца, язвой желудка, бородатых пятидесятилетних стариков, настолько изможденных, что они едва волочили ноги и все же признанных годными на фронт. По физическим причинам отвергалось только от одного до двух процентов, это, торжествовала пресса, доказывало высокий уровень здоровья, достигнутый при советской власти. В действительности, это доказывало только полное пренебрежение к человеческой жизни.
Болотистая полоска финских лесов, за которую Россия заплатила в 1940 году сотнями тысяч жизней, перешла к врагу почти немедленно. Таким образом сталинская авантюра агрессии не дала ровно ничего – разве только быстрее толкнула нашего финского соседа в об'ятия Германии. Также советское ограбление Польши и захват Прибалтики задержало противника только на очень короткое время. «Стратегическая безопасность», как оправление захвата приграничной территории имеет мало смысла в эпоху механизированной войны и авиации дальнего действия.








