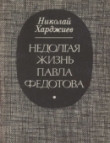Текст книги "Повесть о художнике Федотове"
Автор книги: Виктор Шкловский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
СЛУЖБА СТРОЕВАЯ
И мой смиренный, кроткий меч
Не знал кровавых, грозных сеч;
Тупой, родясь, умрет неточен.
В крови пред славой непорочен.
П. А. Федотов
Федотов служил исправно и получал награды: в 1837 году – триста рублей; в 1838 году – еще триста рублей. Награды эти давались почти всем, так как жалованья не хватало.
Но отец старел, ушел в отставку на малую пенсию, и бедность художника не уменьшалась.
Шла жизнь. День занят строем. Федотов рисовал по вечерам, изощряя глаз и руку.
Ружье в николаевское царствование не было оружием, это был музыкальный инструмент. Ружье специально ослабляли в сочленениях, винты подпиливались, для того чтобы ружье было темпистым, чтобы оно бряцало.
Рисунки, картины, статуи, казармы и соборы в николаевское время также не были рисунками, картинами, статуями и соборами: все это были тоже декорации.
Федотов рисовал, по крупице накапливая опыт художника и опыт видения мира. Он записывал жизнь быстрым рисунком. Вот солдат чинит штаны на товарище. На другом листке изображен офицер в самых разнообразных яростных позах. Надписи на листке такие:
«Это ужасно! Пятая рота!..»
«Носки потеряла!..»
«Пятая!»
«Морду выше!»
«Где нога?»
«Суетливо! Спокойствия нет!»
Еще есть рисунок: немолодой офицер муштрует старого, усатого, замордованного солдата. Муштровка продолжается, очевидно, долго. У солдата загнанный вид; офицер снял фуражку; сам он имеет вид одновременно отчаянный и повелительный.
Подпись:
«Налево… Кру!»
«Ох, трудно, трудно и туго, тесно, и стыдно – очень трудно».
Даже дома с гитарой трудно.
Флейту Федотов оставил. Гитара лучше – под нее можно петь.
В это время в России много пели. Федотов писал слова на песни, подбирал музыку.
Он пел:
Люби сердцем – словца
Не дай Оле.
От словца до венца
Далеко ли,
От венца до отца —
И пойдет без конца.
Глядь – семейство,
Для художника же это злодейство.
Так не смей до венца
Любить Олю,
Доиграй до конца
Свою ролю…
Женитьба для Федотова была бы потерей возможности рисовать.
Гитара давала отдых, гитара была в моде.
Жизнь была слишком подчинена правилам и приказам. Если в войсках смертность превышала указанные в специальном циркуляре цифры, командирам частей объявлялся выговор. Поэтому появились запасные покойники, которые хотя и умерли сверх плана, но не объявлялись и состояли на довольствии в числе живых и даже числились на учении, ожидая свободных вакансий на смерть.
Так жили люди, и рядом с ними жили мертвые души; они даже как бы маршировали.
В начале июля 1837 года великий князь Михаил Павлович приехал в лейб-гвардии Финляндский полк. Встречен он был по всем правилам: в воздух бросали шапки, кричали «ура».
Федотов по этому поводу нарисовал большую акварель. На акварели показано множество офицеров полка с большим сходством. Акварель была передана великому князю, и за нее Павлу Андреевичу пожаловали брильянтовый перстень.
Потом Федотов начал другую картину – «Освящение знамен в обновленном после пожара Зимнем дворце». На акварели изображались колонны дворца и стройный ряд солдат, подчеркнутый на диво выровненными помпонами киверов. Незаконченная акварель поражала точностью показа строя и жизненностью. Поражали точностью и изображения биваков, во время которых солдаты и офицеры, даже отдыхая, сохраняли военную выправку.
Тут пришли служебные удачи. Федотов утром учил солдат строю в манеже, вечером возился в казарме с недоучками, в праздник пригонял амуницию. Зато на смотру рота Федотова была загляденье, и люди имели выправку, не теряя веселого вида.
Финляндский полк на строевом ученье получил благодарность великого князя. Начальник корпусного штаба, генерал-адъютант Веймар, был доволен и сказал господам офицерам:
– Приходите, дверь моя для вас не заперта!
Утром Павел Андреевич отправился к генералу с начатой акварелью и просил ради нее выхлопотать что-нибудь на рисовальные удобства. Веймар велел Федотову явиться на другой день в Михайловский дворец.
Великого князя Михаила Павловича Федотов видел много раз, много раз его рисовал и продавал копии портрета. Портреты эти были несколько карикатурны, но великий князь на них не обижался: он сам занимался строем и остротами. Все остроты города докладывались ему утром адъютантами. На те остроты, которые ему нравились, Михаил Павлович милостиво улыбался; тогда за ними закреплялось великокняжеское авторство.
Про Михаила Павловича говорили, что он берет взятки каламбурами. Это был гвардейский офицер чистой воды, уже пополневший до одышки, но все еще молодящийся. Ему не нравился собственный дворец – комнаты дворца были слишком высоки и стройны, – но он терпеливо переносил красоту дворца, как трудность службы.
Михаил Павлович посмотрел на картину, потом на мундир Федотова и спросил, сразу оценив качество сукна:
– А что, брат, туго?
Федотов молчал.
– Напиши мне запискою, сколько тебе нужно. Ты получишь. Только в отставку не затевай – расстроюсь.
И отпустил офицера домой.
Федотов шел по Невскому проспекту.
«Что значит „ты получишь“? Что значит эта милость? Сколько попросить, чтобы потом не раскаиваться, что потерял случай? На Исаакиевский собор дают полтора миллиона в год… Сколько дадут на картины?»
Он шел по набережной, смотрел на Биржу, на дворцы.
«Да, я попрошу… Сколько бы?.. Две тысячи серебром в год… А если мало?..»
В мечтах прошло несколько дней.
Картина попала в Зимний дворец. Николай Павлович про искусство привык говорить безапелляционно: советовал Пушкину переделать «Бориса Годунова» в роман и обижался, что Александр Сергеевич этим не восторгнулся, а ответил с сухостью.
Он считал себя не богом, но чем-то вроде двоюродного брата бога и каждый вечер, ложась на жесткую походную кровать и покрываясь шинелью, чувствовал, что он даже несколько распинает себя, переживая скромную Голгофу первой половины XIX века.
Даже во сне царь не считал себя праздным.
Он спал, а над Зимним дворцом махал черными лапами оптический телеграф; в ответ вдали махали лапами другие телеграфы. Только в самое темное время ночи телеграф бездействовал; в остальное время приказания спящего царя неслись, перепархивая с вышки на вышку. Существовал и электрический телеграф, совсем молодой. Он работал на ближнее расстояние.
Николай Павлович спал в сыром Зимнем дворце.
Не спали дворцовые караулы.
В дворцовой гауптвахте музыкально тикали спасенные от пожара часы, и стрелки показывали на циферблате бесполезную астрономию.
Ранним утром Николай Павлович пробудился, вымыл шею и лицо с высоким лысеющим лбом в холодной воде, вытерся крепко полотенцем, прочел телеграммы, уже переписанные красивым почерком, без росчерков на белой бумаге. Чернила телеграмм были присыпаны для высушки золотым песком.
Николай, надев мундир, сел за стол и начал налагать на телеграммы и бумаги карандашом резолюции. Резолюции тут же покрывались лаком, для того чтобы они не исчезли, для вечности. После этого царь посмотрел на акварель.
– Не закончено! – сказал он.
Через час полковой командир вызвал Федотова и объявил ему:
– Его императорское величество всемилостивейше соизволил удостоить вниманием рисующего офицера, предоставив ему добровольное право оставить службу и посвятить себя живописи с содержанием по сто рублей ассигнациями в месяц и потребовав от него письменного на это ответа.
Сто рублей ассигнациями равнялись двадцати восьми рублям серебром. Квартира, самая бедная, стоила пять рублей. Надо было посылать деньги семье.
Федотов спросил, будут ли даны квартирные деньги, как барону Клодту, который тоже был уволен.
Было выяснено, что квартирных не полагается, а полагается то, что написано.
На службе Федотов получал, как штабс-капитан, триста тридцать шесть рублей тридцать копеек в год, что равнялось примерно двадцати семи рублям семидесяти копейкам в месяц, но, кроме того, он получал квартирные, столовые и наградные. Сейчас же его заработок уменьшался в два раза. Царь дал Федотову одно жалованье.
Дом на Огородниках заложен; его надо чинить, красить. Можно продавать картины, но Федотов считал, что он рисовать не умеет – должен учиться.
Сто рублей – немного. Ох, туго!.. Не понимает труда дворец. И на службе оставаться трудно, а приходится.
Солдат учат то в манеже, то на Царицыном лугу. Так и говорят солдаты, что «и манеж и Царицын луг отдыхают от солдат, а солдат отдыхает от службы только в могиле…»
Пришла новая инструкция – придумали обучать солдат фехтованию на штыках. Для обучения призвали капитана Ренгау – шведского офицера, хотя и было известно, что именно в русской армии штыковой бой поставлен хорошо и даже отлично.
Ренгау создал систему совершенно балетную.
По команде «в бок скок» первый прием, по словам «в бок», в том заключается, что левую ногу переносит солдат на четверть аршина к носу правой ноги, имея колено согнутым и касаясь носком левой ноги земли; второй прием, по слову «скок», заключался в большом шагу левой ноги, делаемом с размахом в правую сторону, причем левая нога становится только на носок, а также и правая на носок приподнимается, но оба колена остаются согнутыми; затем надо было сделать скачок в правую сторону, не теряя равновесия, а поворачиваясь телом в левую сторону, причем надлежало оказаться на носках и тихо затем опускаться на обе полные ступни.
Не труд был бедой, бедой была его бесполезность.
Заговорили, запутали, замучивали полуголодного солдата разной, как тогда говорили в полках, словесностью.
ДРУЗЬЯ
Сытый голодного не разумеет.
Народная пословица
I
Павел Федотов не был совсем одинок, но друзья его были для него чужими или получужими.
Лейб-гвардии Финляндский полк – полк привилегированный, офицеры там были из богатых и чиновных семей.
Солдатского сына Павла Федотова привела в тот полк золотая медаль.
Полковые друзья Федотова были люди неплохие, мечтающие о какой-то справедливости, но справедливости близкой, маленькой: чтобы солдат меньше били, чтобы офицеров меньше гоняли на службу, чтобы умнее была цензура.
Полк им даже нравился. Среди сослуживцев и друзей Федотова знаем Александра Васильевича Дружинина, человека из чиновной и богатой семьи; родился Дружинин в 1824 году в Санкт-Петербурге.
Следующий год был решающим, годом неудачи декабрьского восстания. С 1825 года, казалось, в России история прекратила движение свое.
Учился Дружинин сперва дома, потом поступил в Пажеский корпус прямо во второй класс; два брата его служили в Финляндском полку.
Федотов Дружинина узнал в доме отца мальчиком: Павел Андреевич приходил к братьям Александра Васильевича – своим сослуживцам.
Хорошо принимали Федотова в чистом, хорошо убранном, многоэтажном доме Дружининых. Любил он здесь сидеть среди хороших вещей, разговаривать, читать.
Сам Дружинин знал языки – французский, английский и итальянский. Он рано начал писать, в молодости увлекшись романами Жорж Занд – свободолюбивыми и говорящими об освобождении чувств. Человек он был порядочный, но знающий границы возможного. Кроме того, он был англоманом, что как бы гарантировало благонадежность свободомыслия.
Биографию художника Федотова приходится отчасти писать и по его картинам. Он учился рисовать, рисуя портреты знакомых, радуясь, что полковые товарищи и друзья, к которым он ходил, соглашаются позировать и даже кормят художника, приходящего рисовать, обедами.
Дружинины Федотовым зарисованы: все трое братьев – Григорий, Андрей и Александр Дружинины сидят за столом. Слева, куря и положив на зеленый стол длинную руку с углем, закрепленным в рейсфедере, сидит Андрей Дружинин, перед ним лежит белый лист бумаги; Андрей Васильевич задумчиво пускает дым.
Лицом к нам в расстегнутом мундире сидит Григорий Васильевич: перед ним раскрытая книга, которую он собирается читать. Справа тоже над книгой мы видим обращенного к нам лицом Александра Васильевича. На столе лежат гипсовые маски, которые, очевидно, собирается рисовать Андрей.
Картина небольшая; все три фигуры выделяются на темно-сером фоне стены. Верх картины занят низками рам двух картин, и видно еще дно тогдашней масляной карсельской механической лампы. Такое освещение было только у передовых и богатых людей.
В маленьком групповом портрете изображены спокойные, очень культурные, умеющие занять себя люди: главный из них Александр Васильевич.
Александр Дружинин спокоен, у него умное, несколько высокомерное лицо с суженными глазами. Судьба этого человека была благополучна и полна тихо угасающей славой. Он очень рано выступил в литературе, и первая его вещь «Полинька Сакс» (1847 г.) сразу получила славу. Повесть рассказывает о замужней женщине, полюбившей другого. Муж горюет, но старается не мешать счастью жены. Повесть написана под большим влиянием Жорж Занд, которой все тогда увлекались. Повесть нравилась Белинскому, многие ее предпочитали первым вещам Достоевского. Когда через несколько лет наступила реакция, когда панический страх овладел умами правительства и начался быстрый бег обратно по наклонной плоскости, Александр Дружинин пригодился.
Надо было найти, что же не запрещено.
В 1849 году А. В. Никитенко записал: «Любопытно, что на этой неделе несколько запрещений. Недавно вышло запрещение относительно спичек; потом запрещено лото в клубах, затем маскарады с аллегри…»
Александр Дружинин сумел найти обходную дорогу, которая никуда не вела: он писал бытовые фельетоны о компании чудаков, симпатично распущенных, путешествующих по Петербургу и находящих для себя несколько нескромные, но безвредные развлечения.
Кроме того, Дружинин писал толковые статьи об английской литературе и впоследствии стал одним из основателей Литературного фонда.
Он ценил Федотова, первый напечатал о нем воспоминания, но он не мог ему помочь, потому что не понимал положения художника. Для Александра Дружинина бедность нечто вроде забавного приключения.
Он был умный и холодно-гуманный человек; с ним впоследствии дружил, а потом поссорился Лев Толстой, но долго дружил Некрасов, относясь к нему как к явлению не вредному и довольно понятному.
Александр Васильевич любил Федотова, но не понимал его: он восхищался терпением полкового товарища, однако считал, что туземцу города Петербурга такое терпение должно быть свойственно.
Впоследствии, когда Федотов стал знаменитым художником, Дружинин говорил о нем с чувством дружбы и даже уважения. Он говорил:
«– Соболезновать о лишениях Павла Андреевича, а еще более тяготиться их видом казалось мне таким же странным, как проливать слезы о том, что какой-нибудь мореплаватель или естествоиспытатель не пользуется комфортом в своих странствиях».
Он считал, что бедность даже украшает художника, и приводил мнение Жан Поля: «Бедность, то же, что операция протыкания ушей у молодых девушек. Больное место заживает, его украшают потом перлами и бриллиантами».
Боль не всегда проходит.
Но проткнутые уши не всегда украшали перлами и бриллиантами.
Павел Андреевич не изучал нищету – он был нищий, он был нищ так, как Акакий Акакиевич, и зарабатывал приблизительно столько же, как тот, если не считать наградных.
Но он был великим талантом, он видел далеко, он умел узнавать мир через то, что другие люди не замечали или считали безнадежно устаревшим.
Он перечитывал Фонвизина, Крылова и учился у старых екатерининских писателей их смеху и видению мира.
Федотов любил Лермонтова: Лермонтов был его другом и его вождем. Томик Лермонтова попался ему как-то под руки. Дружинин передает с изумлением: «Во время чтения восторг его как обыкновенно восприимчивых людей принял размеры даже слишком великие: он говорил беспрестанно:
– Боже мой, неужели человек может высказывать такие чудеса в одной строке… За два таких стихотворения – два года жизни».
Федотов знал цену жизни и знал цену подвига творцов искусства.
Александр Дружинин много писал, но нужды и цены настоящего труда не знал.
В 1852 году перед тяжелой болезнью Федотова Александр Васильевич заходил к другу и звал его к себе в деревню на полный отдых, обещал ему построить мастерскую в саду посреди рощи из белых роз.
Федотов не любил рисовать цветы и не захотел отдыхать в имении Дружинина. Александр Васильевич был для Федотова интересным собеседником, от которого можно узнавать новости о живописи, и он был хозяином дома, в котором можно было рисовать. Он нарисовал портрет матери Дружининых, использовав удачный портрет как упражнение в писании самых разнообразных материалов.
Марья Павловна Дружинина на портрете изображена в белом кружевном чепце, в черном шелковом платье с кружевным воротником, в коричневой атласной, отливающей, кажется, малиновым накидке. Она сидит в большом синем кресле, одну руку положив на колени, другую на ломберный столик, ноги хозяйки поставлены на вышитую скамеечку; пол под скамеечкой устлан цветным ковром. За Марьей Павловной видны цветы и зеркало: перед зеркалом золоченый подсвечник с амуром, часть подсвечника отражена в зеркале; все вместе трудная живописная задача.
Этот портрет – проверка живописного искусства.
В то же время он экспедиция в чужую жизнь, в чужой быт, а не только урок живописи.
Помню Нико Пиросманишвили. Он жил в Тбилиси, рисовал своих друзей, рисовал духанщиков и блюда, которые они подавали посетителям. Плата была натурой.
Федотов получал даже меньше: ставили прибор за столом, домой ничего нельзя было унести.
Хороший портрет оставил Федотов. Это портрет-шутка, назывался он «Курильщик»: офицер ушел, денщик сел в его кресло, курит трубку, отдыхает. Сидит он спиной, мы не видим лица, видим только спокойную позу отдыхающего человека и хорошие вещи, которые его окружают: гитара, на столе бритвенное зеркало, тарелка с акварельными красками. Но комната и кресло – все это не из быта Федотова.
Были друзья, были семьи сослуживцев, остались портреты и добрая память по художнику и его бедности. Но бедности они не поняли, принимая бедняка.
Дружинин после смерти Павла Андреевича писал о художнике, воздавая честь скромности плебея:
«Мне кажется, что Федотов скорей бы умер, нежели стал просить помощи у лучшего своего друга. На его похоронах я удостоверился в том, что некоторые из самых дорогих приятелей покойного не знали ни о положении его семейства, ни о постоянных, неистощимых усилиях Павла Андреевича для облегчения участи престарелого отца и других своих родственников. Федотов жил так же, как и трудился: никакая тяжесть ноши не заставляла его помышлять о чужих плечах».
Благополучные люди жестоки и не любопытны. Дружинин, рассказывая о том, как жил сам на двух квартирах, упоминает, что между этими квартирами и находилось «жилье» Федотова.
Художник мог жить и в «жилье» – ведь у него проколоты уши.
Александр Васильевич был хорошим человеком, но он не понимал положения друга и, даже проводив его в могилу, все еще ничего не понял.
Он остался писателем со скрытым высокомерием и с большой холодностью в описаниях обыденного; молодое свободолюбие его скоро прошло. Он изменил «Полиньке Сакс», даже и не заметив изменения.
II
У Федотова были друзья – не мало друзей, не только Дружинин. Он познакомился впоследствии с людьми, которые его даже полюбили.
В Финляндском полку служил рослый, полный молодой офицер Павел Петрович Жданович; отец его Петр Владимирович был начальником строительного департамента морского министерства. Жена хозяина дома – Ольга Петровна, дочь ее, свояченица и племянницы – все дорожили знакомством с прекрасным художником, любовались на его еще румяное лицо, на маленькие черные усики.
Про дом Ждановичей, связанный с Федотовым тем, что сыновья служили вместе с ним в Финляндском полку, можно сказать только хорошее.
Все члены семьи по-своему любили Павла Андреевича и охотно ему позировали; потом они сохранили свои портреты, связав тем свою судьбу с судьбой художника.
Когда в семействе Ждановичей ожидали Федотова, то готовили для него самые вкусные блюда, приглашали общих знакомых.
Федотов нарисовал хозяина дома – немаловажного чиновника. Седеющий сероглазый человек с орденом святого Владимира на шее сидит за столом, с правой стороны статуэтка Наполеона; чиновник увлекался его жизнеописаниями; сзади часы и картина, перед хозяином лежит открытая книга, бумаги, на бумагах карандаши.
Это превосходный, не ироничный, но грустный портрет среднего человека.
Ждановичи были, вероятно, превосходные люди; девушки красивые, смотрят они на нас скромными глазами. Но размера нужды художника они не знали.
Скромнее, вероятно, был дом Флугов – соседей Федотова по Васильевскому острову. Здесь остались тоже портреты Флугов и их друзей. В доме Ждановичей и Флугов и их наследников работы Федотова сохранились почти до наших дней. Люди потом дорожили работами Павла Андреевича, сохранив след своей жизни картинами художника.
Вероятно, это были хорошие люди, но Федотов для них не совсем свой человек.
Он у них грелся.
Дома у него было очень холодно, дрова часто выпрашивать со склада Финляндского полка неудобно, а дрова в старом Петербурге были очень дороги.
Федотов в своей мастерской работал в тулупе.
У друзей тепло; Павел Андреевич сидел, курил, разговаривал с милыми людьми, слегка ухаживал за женщинами, восхищаясь их скромной грацией.
Павел Андреевич был великодушен, как бедняк; он писал Ольге Андреевне: «То, что я делаю со своей стороны, это, делая приятное вам, вместе удовлетворяет и внутренние мои потребности; это – мое наслаждение, моя жизнь, а не отступление, не жертва».
Однажды Ольга Петровна и Петр Владимирович послали ему деньги, но художник ответил:
«…и на сей раз откажусь от посланного. Я не в крутых и подобную штучку сам сегодня завернул в конверт к батюшке».
«Не в крутых» – это значит, что художник не в крутых обстоятельствах, а штучка, которую прислали Ждановичи, очевидно, золотой.
Невысокая плата за картину, но и она была возвращена другом.