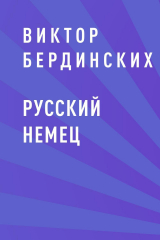
Текст книги "Русский немец"
Автор книги: Виктор Бердинских
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)
А пока – лежу я себе полёживаю, и такие славные картинки теснятся передо мной в воспалённом моём сознании: волжский берег, горячий речной песок, бахча с зелёно-золотистыми арбузами, наш семейный праздничный стол – где все смеются, песни поют…
Но тут чую: кто-то меня по щеке гладит, за руку теребит, просит «ротик открыть». Приоткрываю глаза – бабуленька! Нехотя, с трудом размыкаю губы, зубы. Затем что-то горячее, пахучее, ароматное в рот мне льётся. Глотаю с трудом, захлёбываюсь, кашляю. Огорчаюсь: зачем меня от такой грёзы-красоты отрывают?!
Опять всё тело начинает ныть болью, знобить, жаром полыхать. И вдруг мысль кольнула: «А ты картинку-то вспомни – из прежних своих «видений»! Ту самую: будто стоишь ты рядом с Президентом – старым, лохматым. Глаза у него – хитрые, татарские. И он тебе (тоже немолодому уже) папку какую-то протягивает – и улыбается всем своим багровым лицом. И шутит. А вокруг все смеются и в ладоши хлопают… А умрёшь – так ведь и «видение» это не сбудется! И не узнаешь: что это за страна такая тебе пригрезилась, и какой это такой – Президент? У нас-то сейчас – один Вождь, самый мудрый во всём мире. И после него – будут ли другие-то вожди? Какие? Есть же сегодня вокруг него достойные люди – помоложе? Может, кто-то из них на смену придёт? Непонятно…». Устал я от этих мыслей – и уснул…
Но ненадолго. Вновь бабушка меня теребит: «Пауль, дитятко, открой ротик!» А я опять губы разомкнуть не могу: как будто склеились они – и крепко-накрепко. Еле рот приоткрыл – на губах ошмётки кожи болтаются. А тёплое молочко льётся помаленьку и уже, вроде, глотается легче. Жадно впитываю эту целебную жидкость – и снова забываюсь…
И сплошной лентой пошли новые «видения». Вот какой-то ящик с картинками передо мной на столике стоит – и словно кино показывает. Иду я, будто бы, по незнакомой дороге, со мной (за руку) ребёнок – совсем крохотный. Продвигаемся мы с ним вдоль длинного синего забора, малыш устал, хнычет, и я говорю ему: «Подожди, Генрих, – скоро уже и до нашей дачи дойдём! Попойди ещё ножками немного – у дедушки ручки болят!»…
Потом – резкая смена кадров: стою я в центре Берлина – у Рейхстага. Как на картинке в каком-то довоенном журнале – только здание разрушено сильно. А часть стены – словно за стеклом, и на ней – русские надписи. Как они там оказались, кто и зачем их начертал – ну совсем непонятно мне, аж до головной боли…
А потом «виденья» все, как водится, исчезли – так же внезапно, как и появились. И провалился я в глубокий сон – как в бездонную яму. Голова вообще отключилась, а тело как бы вновь отделилось от меня, скукожилось, словно лопнувший воздушный шарик, и стало дышать само по себе – без малейших напрягов с моей стороны…
…
Десять дней провалялся я так – почти в полном беспамятстве. А когда очнулся, чувствую – лучше мне, гораздо легче. Мама считает: «Организм-то молодой – вот и выдюжил, справился. Да и Господь нас не оставил милостью своей!»
Пришла фельдшерица – и лишь головой покачала: «Чудо! – говорит. – Впервые за всю мою жизнь такое чудо вижу!»
Спустили меня с печи, уложили в сенях на тюфячок, укрыли потеплее. А через пару деньков начал я уже вставать самостоятельно, ходить понемногу. Слабость – неимоверная: пройдусь маленько – и пот ручьём, как после тяжкой работы. Передохну, полежу – и снова ковыляю: надо поскорее в себя приходить – семье помогать, иначе – беда!
Посмотрел как-то на себя в зеркало, вижу: на голове сбоку небольшая прядочка белых волос торчит. Откуда взялась? Может, мукой где-то запачкал? Так ведь у нас муки-то сейчас никакой нет и в помине! Ладно: поправлюсь окончательно – в баньке голову отмою, да и сам вымоюсь. Поскорее бы только на ноги крепко встать!
А на днях гляжу: бабушка Эмилия в углу на коленях стоит – молитву шепчет по-немецки: «Хвала тебе, Господи («Mein Lieber Gott»), что спас дитя невинное от верной гибели!» И дальше – про «доброту Всевышнего», «милосердие – что выше любого подвига»…
Ну что ж, мне повезло – выжил! И думаю – не столько Божьей помощью, сколько любовью и заботой близких мне людей…
А вот как же там папа-то с Алькой? Что с ними? Почему писем нет от них так долго – уже несколько месяцев?..
…
ГЛАВА 3.
СЛИШКОМ ДЛИННАЯ ЗИМА
(Дневник Альбина Клейна)
…Земля моя!
Кто по тебе
Так безутешно тосковал?
Кто детство босоногое
Так часто вспоминал?
Кто так любил, согретую
Теплом
Весенних солнечных лучей,
Омытую дождём?..
…Лишь тот, кто годы напролёт
Был от тебя вдали,
Кто в сердце трепетно берёг
Черты твои.
Кто свято помнил отчий дом
На берегу реки
И кто безжалостно в войну
Был с Родины гоним…
Валентина Вильмс
1. 1942 год
…
(Конец марта)
Мы с папой едем в неизвестность. Погрузили нас на (железнодорожной) станции (по 40 человек) в «телячьи» вагоны с двухъярусными нарами – и отправили. Одни немцы в вагонах. А у меня надежда теплилась, что нас в Красную Армию отправят – фашистов бить. Так нет же! И вся наша «вина» в том, что мы – немцы?!
У папы – язва (желудка). Ему тяжело. Питаемся взятыми из дома продуктами. Представители НКВД и охрана («вохровцы») сопровождают эшелон. На каждой остановке, а их было немало, открывают дверь вагона, но никому из нас, подневольных пассажиров, не разрешают выходить. Первая длительная остановка – в городе Свердловске.
Хорошо, что у меня с собой есть химический карандаш и мешочек-кисет – для табака! Я аккуратно, широкими полосками нарезал старых газет (будто для самокруток) и буду вести на этих полосках свой дневник. Курить-то я всё равно не курю. Это меня папа научил так сделать. Он всегда очень хмур, но постоянно повторяет: «Будем честно выполнять свой долг перед Родиной!».
…
Ещё через пару дней, когда утром открыли дверь вагона, мы увидели название станции – Яр. Никому из нас это название ни о чём не говорило. Здесь мы стояли двое суток, а потом двинулись на север – в Кировскую область.
…
(Начало апреля)
Проснулись от яркого солнца, бьющего через зарешеченные вагонные оконца. Стоим на какой-то станции – и уже долго. Снаружи слышны громкие голоса охранников, возбуждённый лай собак. Настежь распахнулась дверь вагона. Кто-то из чекистов издевательски произнёс: «С прибытием! Кто живой – на выход!»
В пути все мы порядком ослабли, потеряли много сил. На этапе выдавали на неделю только по три буханки хлеба – на весь вагон. А ехали больше месяца. Интересно: где же мы теперь?
Выгрузили нас, построили в колонну – по четыре в ряд, окружили «вохровцами» с собаками – и повели куда-то. Как оказалось – в лагерную зону, километрах в двух от станции. Вот тебе и «приехали»! Выходит, мы – заключенные?! Какой ужас! За что?!
Завели в зону, расселили по баракам. Затем погнали всех в баню, но вода там чуть тёплая. А вещи и одежду забрали – «на дезинфекцию». Нары в бараке – сплошные: раздолье для вшей и прочей живности.
Узнали, что лесной лагерь, куда нас привезли, – называется «Вятлаг». Хотя сама река Вятка далековато от здешних мест, гораздо ближе к этому лагерю другая большая река – Кама. Леса вокруг – преимущественно хвойные. Сосны стоят – красотища! Мачтовый бор! Розовые стволы этих таёжных великанов просто свет вокруг себя струят. Я такого чуда ещё нигде не встречал. Впрочем, это – лишь маленький островок, а дальше – болота и мелколесье.
…
Выстроили нас на лагерном плацу – на общее собрание. Выехал к нам на рослом жеребце начальник этого лагпункта и зычно произнёс: «Граждане трудмобилизованные! Вы все – предатели и шпионы! Вас надо было расстрелять – всех до единого! Но Советская власть гуманна. И вас доставили сюда, чтобы дать вам возможность кровью смыть свой позор: заготавливать лес для страны и фронта – в отдалённых районах, делать шпалы и пилить доски – на лесозаводах. Только добросовестный труд спасёт вас от заслуженного наказания! И запомните: ещё ни один из ваших отсюда не ушёл, а все, кто попытался это сделать, лежат за бугром – на кладбище!» Повернул лошадь – и уехал.
Мы все – в шоке. Да разве так можно с нами?! Ведь мы все свои силы – без остатка – готовы отдать, чтобы помочь Красной Армии! Так почему же нас считают преступниками?!
…
(Май)
Еле передвигаю ноги. Папу перевели на другой лагпункт, и остался я тут один. Работаю в лесу – на трелёвке (подвозке) поваленных стволов (хлыстов). Поскольку лошадей не хватает (много их пало – от недостатка корма), то мы таскаем брёвна вместо них: на себе, метров за 50-100 – к местам штабелёвки или отгрузки. Труд и впрямь – лошадиный, здоровья не прибавит. Большинство из нас, поволжских немцев, настоящей тайги никогда в жизни не видело и навыков работы в лесу не имеет. Тем страшнее для нас этот неведомый каторжный труд.
Бригадир наш – Отт – хотел было отправить меня дневальным в барак. Говорит: «Спасти хочу тебя, дурака, – отца твоего ради!» А я не согласился. Вышел утром на развод – и запросился назад, в лесоповальную бригаду. Это ведь только кажется, что дневалить в бараке – лафа, а на самом-то деле: с шести утра и до одиннадцати вечера на ногах, полы скрести, бесконечно воду таскать для кипячения и всякое такое другое – всё это мне не по силам и не по нраву. Отт погрозил мне кулаком, а потом сказал: «Ладно, иди в кипятилку! Поставлю дневальным другого человека – поразумнее».
Кормят нас тут «согласно выполнению производственных норм». Всех делят при этом на три категории – «три котла». «Первый котёл» – для тех, кто не выполняет номы: 400 граммов хлеба и дважды в день – чашка супа. Ясно, что с такого «котла» не выживёшь: скоро попадёшь в «доходяги» (дистрофики). «Второй котёл» (для выполняющих нормы): 600 граммов хлеба и суп три раза в день. Ну и «третий котёл» (для перевыполняющих нормы): 700 граммов хлеба и суп – также три раза в день. А, в общем-то, и при таком «довольствии» долго не продержишься, не говоря уже о том, чтобы норму выполнить.
Бежать отсюда невозможно. Да и некуда: кругом – тайга вековая, болота непроходимые и самое страшное – ненасытные, необоримые тучи мошки и комарья. Места почти безлюдные: если не заблудишься, так медведь задерёт или в болоте увязнешь. Словом: сгинешь без следа.
О событиях в мире и на фронте достоверно ничего не знаем. Радио нет, газеты редко приходят и с большим опозданием. Живём, в основном, слухами, догадками, надеждами и воспоминаниями.
…
Оказывается, в лагере издают (раз в неделю) и свою (местную) газету-многотиражку – для заключённых (официальное название «Лес – стране», а в зонах её сразу же прозвали «козьей газетой» – очень уж на самокрутки она годится). Распределяют эту газету по лагпунктам, а в них – по баракам и бригадам. Проводятся «громкие читки», для чего назначаются специальные люди – из грамотных. В нашем бараке это дело поручили мне. И я здесь чуть было не дал маху. Иногда я – из баловства, безо всякого умысла – картавил при чтении: как Ленин в довоенных фильмах, или как это бывает у евреев. И на днях мои соседи по нарам – Володя Эртель и Костя Кунстман – говорят мне: «Ты, Альбин, больше так газету не читай! Понял?» – «Почему?» – «А потому: если не хочешь отправиться вслед за Морландом, то лучше остерегись!»
Я их понял. Догадался. Был в нашей бригаде молодой мужик из «горячих» – Иоганн Морланд. Партийный, между прочим. И когда мы вечерами после работы вспоминали о родине на Волге, он доказывал, что и там, мол, было много неправды: надои одних доярок приписывали другим, чтобы те попали на Сельхозвыставку в Москву, во время уборки урожая составляли фальшивые сводки – стремясь выйти в «передовики», и так далее – в том же духе. И вот через некоторое время пришел в барак какой-то военный и спрашивает: «Кто Морланд? Собирайся с вещами!» – «А что случилось?» – Потом узнаешь. Собирайся!» Больше мы Иоганна этого не видели. Потом уже (из приказа по лагерю) узнали, что получил он «на всю катушку»: десять лет лагерей – за «клевету на советский строй»…
Для меня же моя «политическая шалость» вроде бы осталась без последствий. Во всяком случае – пока.
…
Ну, вот оно: сглазил я, похоже, – насчёт «без последствий». Вызвал тут меня к себе оперуполномоченный (по-лагерному – «кум»). И начал свои игры: «Сколько вам лет?» – «Шестнадцать». – «Образование?» – «Окончил 8 классов. Надеюсь и десять окончить». – «Ну, до этого надо дожить». – «Попробую выжить», – говорю неуверенно. – «Если мы вам дадим такую возможность. Комсомолец?». – «Да», – отвечаю. – «Комсомольский билет при себе?» – «В нагрудном кармане». – «Покажи!»
Достаю билет, протягиваю «куму». Он говорит: «Вы, поволжские немцы, – очень упрямые люди. Таких нет – ни среди донских, ни среди черноморских. Вам, Клейн, оказано доверие: будете раз в две недели приходить к нам и рассказывать, о чём говорят ваши земляки меж собой!». Отвечаю: «Я не согласен доносить на своих товарищей! Я же – комсомолец!». Тут раздался хохот: «А мы – чекисты! Ладно – иди!». – «Можно один вопрос?» – спрашиваю. – «Давай!» – «Почему нас охраняют? Водят под конвоем? Нет доверия? За что?!» – «За то, что ты – немец!» – разъясняет «кум». – «Но я же – советский немец!» – «Да хоть – голландский! Иди уж давай – пока я не передумал!»
…
(Середина июня)
Нашу бригаду перевели на дальнюю делянку. До неё – километров двенадцать. Это – в одну сторону. Туда проложена железнодорожная узкоколейка, и курсирует по ней паровозик – с лесовозными платформами, а к ним – утром и вечером – прицепляют пару «пассажирских» вагонов. В них возят (в лес и обратно) трудпоселенцев – раскулаченных крестьян, в основном – с Украины. Пытаемся и мы в один из этих вагончиков примоститься, но «кулаки» не пускают, орут, что, мол, немцев не пустят – самим тесно. Галдят все: «Фашистов не визьмемо – хай идуть пешком!».
Отвечает наш бригадир (хоть он пока ещё с трудом по-русски говорит – сам-то родом из чисто немецкого села): «Та какие ш мы «фашисты»?! Мы – такие ше софетские люти – как и фы!» – «Як же – «советские»?! Та я немцев за версту бачу!»
Что делать? Посовещались мы: если пешком пойдём – так лишь к обеду до места доберёмся, а работники из нас и без того никудышные. Решаем: взять место в вагонах с боем! Берём в руки свои топоры – и сообща «атакуем» тех «кулаков», что загородили проход в вагон. Впереди, как и положено, – наш бригадир. Его зычный голос перекрывает общий гвалт: «Только попропуй толкни, кулацкая морта! Я са сепя не рутшаюсь! Ну-ка – стай насат! Витишь – места тут сколько?!»
До драки дело не дошло. Мало-помалу всё кончилось миром. Всем места хватило: расселись – поехали. В пути разговорились. Слово за слово, и оказалось, что среди наших (немцев) есть выходцы с Украины и близких к ней мест (кстати, и я ведь тоже родом оттуда – из-под Одессы). Перезнакомились, и после этого «кулаки» нас, своих земляков, даже каким-то домашним пирогом угостили – с грибами и картошкой. Вкуснятина!
А в лагере кормёжка отвратительная. Суп прозрачно-жидкий. Отходят люди со своими мисками от окна раздачи в столовой – и приговаривают про себя:
«Immer – Wasser! Reines Wasser! Helles Wasser! Wasser, Wasser!»
(«Всегда – вода! Чистая вода! Светлая вода! Вода, вода!).
При таком питании и тяжёлой работе силы покидают человека стремительно и безвозвратно. Принялись поить нас (от цинги, раз в день) отваром крапивы и хвои, но дела всё хуже и хуже. У многих начали ноги опухать. Хорошо ещё, что вольнонаёмные иногда нас понемногу подкармливают – из дому приносят, от себя отрывают. Даже начальник нашего участка – Шигорин – делится со мной варёной картошкой. Иногда.
…
(Конец июня)
Сегодня вечером на меня навалилась куриная слепота: внезапно перестал видеть – в сумерки. Это – от голода. «Вольная» учётчица – Капа – пожалела меня, рассказала вечером своей маме: она тоже недалеко работает – на железной дороге. Достали они где-то кусок свежей говяжьей печени, сварили его и дольку небольшую отдали мне. Что я мгновенно поглотил – и с огромным удовольствием. Спасибо Капе: хорошая, добрая она девушка! И маме её – спасибо!
…
(Июль)
Наконец-то пришло письмо с Алтая – из нашего «нового дома». Слава Богу: там все живы! А вот моих писем они так и не получили. И главное: что с папой? Всё тревожнее за него.
…
(Сентябрь)
Пришло письмо с Алтая – от дяди Эмиля. Маму и Пауля отправили на север – в тундру. И адрес неизвестен. Ужас! Но главное – живы! А вот бабушка умерла: почти сразу после отъезда мамы и Пауля. Милая, любимая бабуля! Пусть Алтайская земля будет тебе пухом!
…
(Ноябрь)
Ад кромешный! Я снова – в лесорубах. К лесосеке добираемся пешком – километров за семь. Выходим из зоны затемно – ранним утром. В бригаде – около тридцати человек. Охраняют нас два солдата-«вохровца» с овчаркой. «Шаг влево, шаг вправо – стреляем без предупреждения! И без промаха!»
Труд на лесоповале (особенно зимой) – самый изнурительный из всех, что могут быть на этом свете. Полуголодные, плохо одетые и обутые, мы несколько километров бредём гуськом – по глубокому снегу – и добираемся до места уже обессиленными. А впереди – целый день изматывающей работы.
Вальщики разбиты на пары, орудуют лучковыми пилами («лучками»). Но сначала требуется очистить снег вокруг дерева: чтобы видно было, какой высоты оставлен пень – разрешено не более 15 сантиметров. Да и для себя место освободить нужно. Приходится вставать на колени – на лёд и снег – или постоянно работать внаклонку («в три погибели» – по-русски говоря).
Подпиливать дерево надо тоже умеючи: чтобы оно в намеченное место упало, никого из соседнего звена не накрыло, волчком на комле не завертелось и самих вальщиков не задело. Для работы-то отводится лишь небольшой пятачок, который конвоиры лыжнёй очерчивают – «запреткой». Выйдешь за эту границу (преднамеренно или по ошибке) – получишь пулю за «попытку к бегству».
Как правило, сваленное дерево утопает в снегу, и его надо откопать – на всю длину. После этого начинается обрубка сучьев (топорами на длинных ручках – «канадками). Для охранников разжигается костёр, у которого и нам иногда (в сильные морозы) дозволяется чуточку обогреться и малость отдохнуть.
Работы много, а толку – пшик один. Ведь даже с хорошего дерева (толщиной 30-40 сантиметров, ровный ствол, мало веток) больше кубометра делового леса не возьмёшь. И чтобы полный паёк («третий котёл» – 700 граммов хлеба) получить, нужно выдать на каждого лесоруба не менее шести кубов. Для этого с утра и до вечера в поте лица ишачить надо. А где сил набраться, если еда всё хуже и хуже – с каждым днём?
Возле лагерной вахты – у выхода из зоны – на большой доске красной краской выведено: «Труд в СССР есть дело чести, славы, доблести и геройства!» На деле же получается, что труд здесь, в лагере, – всего лишь орудие для убийства.
Странное дело, однако: все самые рослые и сильные из нас уже поумирали: как здесь, в лагере, говорят – «в могилёвскую губернию убыли». Да, они много и хорошо работали, но не могли восполнить затраты энергии голодной лагерной пайкой. Так же быстро погибают здесь и те, кто старше сорока лет – опасный возраст для мужчин.
Мой бедный папа! Боюсь (и чем дальше – тем больше), что его уже тоже нет в живых!
Работаем по 10-12 часов в день, плюс дорога – в лес и обратно. Охранники-то сидят у костров и греются, а нам и это «удовольствие» перепадает лишь изредка. Бежать отсюда – безумие, зимой – тем более.
…
Первый выходной за последние полтора месяца. И то – для того только, чтобы мы немножко починили одежду и обувь. Почти год в своём проходили, окончательно оборвались, а казённую «вещёвку» нам выдавать не спешат. Мёрзнем – словами не сказать как! Что они там, наверху, ждут, видимо, когда мы все тут перемрём?
Кроме того, надо наши бараки-полуземлянки от снега откопать. Зима только начинается, а их уже сугробами почти до крыши занесло. И это называется – выходной?!
…
После возвращения из леса в барак тут же валимся на нары, как подкошенные, – отдыхаем, понемногу приходим в себя. Рваную и мокрую одежду, а также обувку сушить негде – только на собственном теле. Спим, не раздеваясь, – на общих нарах, в тесноте, впритирку друг к другу. В бараке те, кто помоложе, располагаются на верхних нарах, а пожилые – внизу.
Иногда говорим о фронте, вспоминаем о родных местах, о своих семьях. Но все рассуждения обычно сводятся к еде: «Эх, мужики, дали бы мне сегодня то, чем мы дома собак кормили! Я бы ей свою баланду отдал, только не знаю, стала бы она её есть или нет». А те, что постарше всё ещё надеются: «Нас весной по домам распустят. Все мужики на фронте – кто хлеб сеять и убирать будет? На одних бабах далеко не уедешь!»
Когда же наступает время еды, усаживаемся по своим местам – как цыгане на базаре: ноги согнуты, локти на коленях, руки подпирают голову. И все взоры устремлены к входной двери. Сначала раздают хлеб, который тут же съедается. Потом выпивается баланда и пальцами начисто вытираются глиняные чашки, из которых мы «вкушаем». И опять продолжаются разговоры о еде. Но уже лежа.
…
Мы окончательно обессилели. Норму никто выполнить уже не может. А после того, как хлебный паёк урезали (на 100 граммов), и до леса едва добираемся. Все превратились в скелеты, многие умерли от голода. И каждое утро несколько мертвецов (до десятка, а то и поболее) отправляются из барака в особый склад – лагерное подобие морга: закопают их (нагишом, обглоданных крысами) только весной – за зоной, в общей яме.
…
(Декабрь)
Самая тяжёлая новость: папы больше нет. Об этом сообщил мне его сосед по палате в центральной лагерной больнице, недавно прибывший в наш «лесозаготовительный отряд» (ЛЗО). Наверное, и там, в «сангородке», всё было, как и у нас здесь: привязали к ноге папиной бирку с фамилией, а затем либо отвезли на кладбище и прикопали там в снегу (в общей яме), либо поместили в мертвецкий сарай – до весны.
В «похоронных командах» везде – одни доходяги. Весной-осенью умерших они складывают на кладбище штабелями в неглубоких «братских могилах» и сверху еле прикрывают землёй. А зимой вообще только присыпают трупы снегом – в надежде, что с наступлением тепла (в конце весны – начале лета) закопают их уже «по-настоящему». Но что от них к этому времени останется? В округе волков, лис – несчитано, да и собаки здешние не брезгуют человеческой мертвечиной.
Бедный папа! Так и не дожил он до своей учительской пенсии, о которой мечтал! Это уже третья потеря в нашей семье: дедушка, бабушка и вот теперь – папа! Царство им всем Небесное! (Gott hab' ihnen selig!)
…
И вот он, голод, достал и меня костлявой своей лапой – и оказался я в лазарете. Странная история: три дня назад после прихода с работы в барак я свалился на нары – и тут же «отключился»: как бы провалился в какой-то горячечный бред. Отказался от вечерней баланды и хлебной пайки (не было сил за ними идти) – и забылся в глубоком сне. Соседи по нарам, недолго думая и сомневаясь, «разыграли» моё «довольствие». Решили: всё равно умрёт Клейн – так не пропадать же добру?! Затем отнесли меня в лазарет, а тамошний дежурный санитар распорядился убрать меня в мертвецкую – до утра, «пока доктор придёт и разберётся». Но где-то глубокой ночью я очнулся: пошевелился, огляделся и, понятное дело, ужаснулся. Попытался встать – бесполезно! Кричать – не могу, только писк какой-то издаётся.
Чудом санитар в это время рядом оказался (по нужде, что ли, выходил), услышал мой писк, зашёл в мертвецкую – и руками всплеснул: «Ну, Клейн, ты даёшь! Мы-то думали – заработаем на тебе 200 граммов хлебушка, а ты вон какой живучий оказался!». Словом, помог он мне встать, перевёл меня в общую палату – для живых, принёс холодной баланды и граммов 400 хлеба (очевидно, остались от настоящего мертвеца). Умял я всё это, и начал проверять свои карманы, а там – нет ничего. Посчитали меня мертвецом – и всё подчистили: ножик перочинный, комсомольский билет, блокнот – с фотокарточками семьи, адресами, выписками.
Утром пришёл доктор, осмотрел меня, сказал: «Дня четыре ещё подержу тебя здесь, а потом – раз выжил – назад в бригаду! Нечего даром хлеб есть!» Ну, с больничной кормёжки тоже не шибко ожиреешь! Дают здесь в день 600 граммов хлеба и трижды – «суп»: плавают в нём по одной-две горошины и полскелета какой-то маленькой рыбки. Называется: «гороховый суп с рыбой». Для нас, изголодавшихся, это – что слону дробина.








