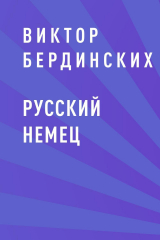
Текст книги "Русский немец"
Автор книги: Виктор Бердинских
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
Мария Васильевна, учительница русского языка, меня уже через месяц занятий похвалила – за грамотность. Ну а что тут такого удивительного: я ведь и здесь много книжек по-русски читаю, в основном – по вечерам. Бабушка ворчит: «Керосина не напасёшься на вас, книгочеи! Да и глаза бы поберегли!»
А слепой историк Михаил Иванович (он зрение на Финской войне потерял) недавно пригласил меня после уроков к себе домой – в шахматы с ним сыграть. У нас в семье все мужчины в шахматы неплохо играют, а среди местных мало кто о них и слышал вообще. Пришли мы, значит, к Михаилу Ивановичу на квартиру. Жена его нам даже по чашке чая приготовила – сладкого! Я, знамо дело, поначалу стеснялся очень. А Михаил Иванович первым делом строго меня предупредил, чтобы я играл честно – в полную силу – и ему не поддавался. Ну, я и выиграл. Понятно, что ему приходится труднее, чем мне: ведь он доскú и фигур не видит, да и вообще играет он заведомо слабее. Но всё же расстроился мой учитель заметно. Хотя и ненадолго. Думаю, что всё равно он остался доволен: ведь в школе-то (да и во всей округе, пожалуй) больше-то и не с кем ему «партеечку разыграть».
Бреду из школы домой. Снег уже глубокий: много навалило его за последние дни. Улыбаюсь про себя: свежо, хорошо – настоящая русская зима! И морозец стоит крепкий – уже целую неделю…
На днях папа вновь приходил к директору нашей школы – просился на работу. И снова отказ: «Нет места!..». А на лесоповале папе очень плохо: труд для него там – непривычный, невыносимый. И одежда на нём худая, и сил нет никаких: организм истощён до предела. Мужики из бригады колхозной его жалеют: сучкорубом назначили – с поваленных уже деревьев сучья обрубать. Работа как бы и не самая тяжёлая, но тоже не сахар. И всё равно сдал папа за последнее время сильно: нос заострился, дышит прерывисто, с хрипом…
Подхожу к нашему дому, вижу: мама – в слезах, а за ней – папа, и оба чуть ли не бегут куда-то – по проулку. Лишь потом я понял: к правлению колхоза.
Я – стремглав в дом. В дверях чуть Альку не сшиб. «Что случилось?» – спрашиваю. «Дедушка умер», – отвечает брат. И глаза прячет. Его ведь дедушка больше всех нас любил…
Конечно, мы давно уже этого ждали. Дедушка последнюю неделю вообще в сознание не приходил. Но ведь это же – наш дедушка Мартин! И жалко его – не сказать как!
Вспомнил я вдруг, как он мне по весне кораблики маленькие вырезал – чтобы их по ручьям пускать, как на своём станочке учил меня работать… Слёзы так и брызнули из моих глаз. Сижу – и рассыпаюсь на части от нахлынувших рыданий. И бабушка Эмилия рядом со мной: руку свою на колено мне положила – и тоже слёз сдержать не может. И не хочет. И ничего не говорит. Так и сидим: горюем вместе – рыдаем и молчим…
Вернулись папа с мамой: крайне возбуждённые, что-то говорят – оба и разом. Тут вышла к нам – в сени – Ольга Васильевна. «Не обессудьте, – говорит, – но вы уж как-то побыстрее это дело, с покойным-то, управляйте! Сами понимаете – тянуть незачем!» И удалилась к себе – в избу.
Папа с мамой опять загалдели. О чём – понять не могу. Тут Алька вмешался, и я «въехал», наконец: декабрь же на дворе, земля промёрзла, и могилу на кладбище нам своими силами не выдолбить – ну никак. И куда же тогда дедушку девать – до тепла, до весны?! Сошлись на том, что сделаем для дедушки большой деревянный ящик – и зароем его в снег: хорошенько, поглубже – на задах огорода. А весна придёт, земля оттает маленько – тогда и похороним уже по-людски. Иначе – ничего не получается.
Вот и ходили папа с мамой к председателю колхоза – доски для ящика просить. Но Фёдор Иванович досок не дал: «Нету!» – говорит. (Опять – непонятки: кругом тайга, колхоз лес заготавливает, а даже десятка досок у него нет. Как же это так?!) Вместо досок выделил нам председатель несколько фанерных ящиков – из-под каких-то продуктов. И на том спасибо! Алька быстренько сбегал в сельпо, притащил эти ящики. Кое-как они с папой сколотили из них гроб. Получилось невесть что: фанера всё-таки. Но в наших условиях ничего другого нам не оставалось.
Принарядили дедушку – как могли, положили его в эту фанерную «домовину». Бабушка собралась с духом и заупокойную молитву прочла – по-немецки. Потом мы все вместе похоронный псалом спели – по затрёпанной бабушкиной книжице (и как же она сохранилась-то – во всех наших передрягах?) Затем отнесли ящик к выбранному месту – на огороде. Разгребли там снег до самой земли (это больше метра глубины), обернули «гроб» какой-то холстиной и прикопали его – понадёжнее, с бугорком…
Вернулись в дом. Сварила мама картошку в мундире – по две на каждого. Хозяйка капусты квашеной в тарелке принесла. Уселись рядышком – дедушку помянуть. Тут бабушка сквозь слёзы начала рассказывать, какой чудесный гроб (Sarg) он себе лет пять назад смастерил: древесина – красивая, с прожилками, ручки-ножки сам выточил на своём токарном станочке… Сидим-слушаем – и тоже слёзы глотаем.
А папа порылся в закутке – и достал зелёную бутылочку с резиновой пробкой. Налил из этой бутылочки – по чуть-чуть в стаканы – маме и Альке. «Самогонка, – говорит. – К Ноябрьскому празднику лесорубам колхоз выделил – по чекушке на брата». Выпили они, и вижу я, что папа наш совсем надломился. Что-то в нём внутри ослабло. Вера, что ли, какая-то иссякла? Мы, все остальные, вроде приспособились: живём одним днём. Сутки прочь – и слава Богу: «Gott mit Uns!» А папа (видно – от непосильного труда) отчаиваться начал. И хочется мне хоть как-то утешить его. Сижу рядом с ним и говорю ему тихонько: «Не горюй, папочка! Я скоро вырасту, выучусь, буду хорошо зарабатывать – и костюм тебе новый куплю! Старый-то совсем дырявый стал!». Тут папа заулыбался – и на миг стал похож на себя прежнего – довоенного. «Хорошо! – говорит. – Только на тебя вся и надежда!».
Вот так и простились мы с дедушкой. Светлая ему память: очень добрый человек был. И ласковый. И руки имел золотые. Одно слово – Мастер!..
7. «Трудмобилизация»: первые проводы
Зима! Мороз! И всё равно – мне жить нравится: и когда морозец – солнце ясное, и когда дожди льют – на лицо капли падают, а я их слизываю языком, и когда метель – ни зги не видно (хотя что такое – эта «зга» – даже и не знаю). Какая же это радость – жить! Воздух иногда до того хорош – ну хоть ножом его режь да на хлеб намазывай!..
А вот хлебца-то и нет – ни кусочка, ни сухарика. Голод – постоянно есть хочется. Отощали все – до крайности. На трудодни («на палочки» – как местные говорят) выдают какие-то крохи, и только раз в неделю – четыре кило зерна сорного. Это – на всю семью. Картошки своей у нас нет, приходится на неё вещи выменивать – те, что ещё остались.
Мама, как всегда, в лучшее верит, часто повторяет: «Какое счастье, что мы вместе – всей семьей – живём! И дай Бог, чтобы так было как можно дольше!» Тут она крестится, голову склоняет, а в глазах слезинки появляются. Ну а папа режет правду-матку: «Конечно, это хорошо, что вместе! Только живём-то как на пороховой бочке. Или того хуже – на вулкане. Что угодно и в любой момент может произойти. И лучшего ждать не приходится». Алька добавляет: «Да, село здешнее – небольшое, а похоронки в последнее время рекой хлынули. Кто-то – убит, кто-то – без вести пропал. Народ озлобляется, отчаивается. И на нас всё мрачнее смотрят. Мы для них как будто враги становимся».
Один лишь председатель колхоза к нам, немцам, вроде как и подобрел малость. Мы же все («фрицы» – как он говорит) – народ трудолюбивый, дисциплинированный, душой за любую работу болеем и всё в срок стараемся исполнить. Дядя Эмиль, к примеру, всю колхозную технику отремонтировал и в дело запустил. Вот председатель и приговаривает: «Эх, если бы мне ещё человек двадцать таких «фрицев» прислали! Да я бы тогда с ними все планы выполнил и перевыполнил!»
…
Конец февраля, понедельник. Иду я из школы, по сторонам зеваю, на заснеженные деревья любуюсь, ворон по дороге спугиваю. Настроение хорошее: сегодня получил «пятёрку» по литературе и «четвёрку» – по физике. Вспоминаю, о чём вчера вечером читал. В школьной библиотеке я уже все художественные книжки «проглотил». Теперь пользуюсь тем, что Михаил Иванович даёт мне из своей домашней библиотеки: она у него приличная, пожалуй, даже побогаче школьной будет.
Более всего я люблю книжки про путешествия. Как же это здóрово, скажем, где-нибудь в Южной Америке – с индейцами по Амазонке плыть! Или – с Магелланом край света искать! Я – как его секретарь Пигафетта – всё бы увидел, занёс в дневник, а потом вернулся домой со славой и свою книжку написал!
«Ну, ладно, – думаю про себя на ходу, – стану в третьей четверти ударником – вот мне и слава! А что – очень даже может быть: все пропуски свои учебные я давно нагнал, а кое в чём даже и обошёл одноклассников».
Прихожу домой, гляжу: у бабушки в руках веник – разбила едва ли не последнюю нашу домашнюю чашку. Убирает осколки. Будем теперь пить только из алюминиевых кружек (а их у нас всего три). Расстроилась бабушка вся, конечно. Я пытаюсь успокоить её: «Да не горюй ты так, бабуль! Я летом работать пойду, и накупим мы этих чашек – прóпасть сколько! Сколько надо – столько и купим!» А она погладила меня по голове и говорит: «Работать ты и так пойдешь – и скоро. Повестки папе и Альбину из военкомата принесли».
Сердце у меня так и всколыхнулось. Вот и пришла она: самая страшная беда – разлука! Забрался я в уголок наших сеней – за дырявое деревянное корыто, переживаю, судорожно размышляю: «В армию-то, наверно, и хорошо – хоть с голоду там не пропадут! Только это какая-то другая армия – «трудовая». Значит – не настоящая? Значит – только хуже им, папе и Альке, там будет? Скорее всего – так».
Вечером сидим за столом – и молчим: ни говорить, ни плакать ни у кого уже сил нет. Безысходность – да и только. Но что тут поделаешь? Надо ведь как-то дальше жить! Алька говорит: «Кроме нас ещё пятерых немцев-мужчин призывают. От 16 до 55 лет – призывной возраст». Ему самому-то как раз шестнадцать исполнилось. Гордится, что взрослый уже. Он, Алька, конечно, очень умный – куда умнее меня. А вот чего-то самого простого, но крайне важного он иногда не понимает. Надо ведь не только головой соображать, но и сердцем жизнь чувствовать – как мама…
Собираем для наших «призывников» котомки. Как в военкоматовской бумаге сказано: «сухари и постельное бельё»? А где же это бельё взять? У нас его, как и всего прочего, хоть шаром покати – нету. Всё на продукты променяли – и почти задарма. За бабушкиного «Зингера», к примеру, всего-то два ведра картошки дали. За другое барахлишко – и того меньше…
А на следующее утро – снова солнышко, но морозец крепкий: февраль ведь ещё не миновал. Снег пушистый – искрится на солнце. В книжках пишут – «словно серебро». Серебра я ни разу в жизни не видел и не представляю, что это такое. Но раз в книжках пишут, значит – так оно и есть…
Мама с бабушкой простились с папой и Алькой возле дома. Рыдания сдерживают, но слёзы катятся неудержимо – одна за другой. Две кошевы (сани такие раскидистые) прислали за нашими немцами-«призывниками». И как только этот небольшой обоз тронулся с места, я вскочил на запятки полозьев той кошевы, где папа с Алькой пристроились. Папа ухватил меня за руку: губы у него шевелятся, а слов произнести не может – вытолкнуть их из горла. Я тоже: держу крепко его руку – и молчу…
Минут через пять выехали на пригорок – в конце села. Надо уходить мне. Соскочил я с полозьев. Тут папа поднял свою правую руку – словно остановить меня хотел или прикрыть от какой-то опасности – и глухо, с большим трудом вымолвил: «Прощай, сынок!».
В груди у меня что-то оборвалось, ударило в голову: «А ведь я, наверное, больше не увижу его – никогда!». Что-то закричал – вослед удаляющемуся обозу. И Алька мне машет, кричит. Я не слышу что, могу улавливать только – по его широко разинутым губам: «Береги маму с бабушкой! Ты у них теперь – единственный заступник!» Скажет тоже! «Моряк – с печки бряк», – так наша хозяйка, Ольга Васильевна, внуку своему всегда говорит…
…
Иду в школу. А что делать-то? Надо свою линию в жизни дальше тянуть…
Я сегодня – дежурный по классу. Первый урок – история. И нужно для Михаила Ивановича всё четко разместить: он же не видит ничего. Ну, вымыл я хорошенько тряпку для доски, мел красиво разложил. Но что-то муторно у меня – и в груди, и в голове. Да и спал я сегодня плохо: переживал за папу и Альку – увидимся ли вновь когда-нибудь? Ох, скорей бы эта война кончилась!
Ребята в классе – тоже все хмурые какие-то, заспанные. А Петька (парень из местных) – тот вообще: уселся за свою заднюю парту – и в одну точку уставился.
Но вот и звонок к началу урока. Входит Михаил Иванович, осторожно ощупывает стул и стол, садится. Как всегда, спрашивает вначале: «Кто сегодня дежурный?» И только я собрался встать и доложить – по форме, как тот самый Петька с задней парты неестественно громко и каким-то пронзительным голосом кричит: «Гитлер!»
Меня будто под дых кто ударил – и опять в голове и в глазах помутилось. Рухнул я на парту – и зарыдал: ну прямо как девчонка. И никак успокоиться не могу – слёзы ручьём льются. А в голове бьётся: «За что он меня так?! Что я ему сделал?! Разве все немцы – негодяи?! Да мы, русские немцы, самые главные патриоты в Советской стране! Мы горячее всех нашу Родину любим, а фашистов ненавидим!». И не могу остановиться: всхлип за всхлипом – аж дыхание перехватывает. Еле-еле и кое-как минут через десять остановился – успокоился немного. Глаза опухли – не вижу ничего. Нос – чувствую – красный. В голове – звон какой-то. Полная тоска и одиночество. Хорош – нечего сказать!
А в классе все молчат: что называется – гробовая тишина. И единственный слабый лучик надежды моей – тоже пропал куда-то… Михаил Иванович невидящим взором своим скользит поверх наших голов. И я понимаю: он тоже – совершенно беспомощен и не знает, что сказать. Наконец, собрался он, видимо, с духом и с глубокой какой-то горечью, хрипло произнёс: «Ребята! Я думаю, вы совершенно зря обижаете Клейна! Мне кажется, он и его земляки ни в чём неповинны. Пройдёт время – и правда возьмёт своё!».
Так и просидели мы весь этот урок – молча. А на перемене собираю я свои вещи – решил домой уйти, и тут мне сосед по парте, Вовка Коробейников, говорит: «Паш, ты на Петьку-то сильно не обижайся – ему вчера на отца похоронка пришла. Вот его и колбасит». Я молчу. У всех – своя правда. Плохо только, когда ты оказываешься при ней крайним!..
А на улице смотрю: председатель нашего сельсовета – Андрей Николаевич идёт. (Сельсовет-то у нас – один на несколько колхозов и находится там же, где школа.) Посмотрел Андрей Николаевич на меня, что-то понял, надо полагать, и решил, видимо, как-то ободрить или утешить: «Не горюй, парень! Мы с тобой вдвоём ещё всех фашистов перебьём!» Сказал – и дальше пошёл. Вот ведь как. Он, Андрей Николаевич, конечно, мужик добрый – не то что Фёдор Иванович, наш председатель колхоза!..
8. Моя «беспечальная» жизнь
Захожу домой, и бабушка мне тут же: «Иди в правление – тебя Фёдор Иванович срочно вызывает!» Ну, я и пошёл, знамо дело. Иду-бреду – пустой головой заборы да плетни отираю…
А в правлении Фёдор Иванович мне – с места в карьер: «Тебе ведь, Паша, уже четырнадцать-то исполнилось?» – «Да, – отвечаю, – две недели назад». – «Ну вот… Тут, понимаешь ли, дело такое: заболел мой счетовод. И Альберта (так он, председатель, нашего Альбина окрестил) в трудармию забрали. А у меня – просто завал с бумагами: райком, исполком – все какие-то свои отчёты требуют. И надо, чтоб цифры в них были не какие попало, а – правильные и нужные. Понимаешь?». Но я только глазами хлопаю.
«Одним словом, – продолжает Фёдор Иванович, уже заметно раздражаясь, – выходи-ко ты с завтрашнего дня на работу сюда – в правление, счетоводом, как?! А что: хоть подкормитесь с матерью и бабкой – аж до самого лета!». – «А школа как же?» – спрашиваю. – «Ну что – школа? Никуда она не денется. Пока оставишь, а потом – нагонишь!» Хитрован он, Фёдор Иванович! Ясно же – свою выгоду и тут смекает.
А я? Что – я? Да если б не утренняя обида – ни за что бы школу не бросил! И папа этого не допустил бы. Но ком-то в горле у меня до сих пор стоит – не уходит. На душе – ссадина. На этом и подловил меня председатель. В общем – согласился я: будь что будет!..
Мама потом сама сходила в правление: обговорила дополнительную норму выдачи зерна мне – уже как полноправному колхознику, а не какому-то там иждивенцу…
…
Вот и сижу теперь целыми днями в конторе – в душной комнатушке: подсчитываю цифирки всякие, бесконечные бумаги заполняю, отчёты – по прошлогодним образцам и плановым нормативам – строчу. Где-то и привру, где-то как-то и по-другому выкручусь. А если не уразумею, что и как писать, бегу к Василию Яковлевичу – старому счетоводу. Он по дому-то уже шарашится, но выходить на улицу ещё не может. И у него этих хитрых уловок – прóпасть бездонная: как всех начальников вокруг пальца обвести, «лапшу» им на уши навесить и при этом на бумаге все планы выполнить.
А тут и весна накатила: ледоход, травка первая на буграх зазеленела, в лужах – вода тёплая. И с местными деревенскими парнями я поближе сошёлся, особенно – с Гришкой. Друзья – не друзья, а вроде и как приятели: можно с ними и в лапту поиграть, и в городки переброситься.
Война-то грохочет будто и далеко где-то, но всё равно давит на всех и здесь – и со страшной силой. Сводки с фронтов – опять нерадостные. Зимой – из-под Москвы – надежду внушали на скорую победу, а вот теперь – вновь стали угрожающими какими-то и тревожными. Слежу по карте вслед за ними – и ужасаюсь: ведь половина страны (в европейской-то части) под Гитлером! Как же так получилось?! Мы же – самые сильные, быстрые, меткие! Так ведь нам везде и всюду говорили?! А что теперь? В село несколько инвалидов вернулось: кто – без рук, кто – без ног. А всё равно родные их, особенно бабы, радёхоньки: похоронок-то намного больше приходит. Мужиков-то всех из села выгребли: как только исполнится парню восемнадцать, сразу в военкомат его – и «прости-прощай!».
Но и здесь, в глубоком тылу, особо-то не разгуляешься и не расслабишься: рассусоливать некогда. Голод – не тётка: сосёт всё время, не отпуская. Только и разговоров: что и как раньше ели-пили, чего бы сейчас похлебал или откусил такого – предвоенного… Я вот тоже – совсем отощал: вырос, мослы торчат, а глаза ещё синее стали. Девчонкам, говорят, такие глаза нравятся, а я стесняюсь: по мне – лучше всё-таки кареглазым быть…
Мама на ферме приработалась. Бабушка по хозяйству хлопочет: каши нам из зерна варит да муку на ручной зернотёрке мелет. И с хозяйкой, Ольгой Васильевной, как-то мы сжились. Тёплыми наши отношения не назовёшь, но в беде друг друга не оставляем. Помогаем и хозяйской снохе, Анне: бабушка нередко с ребятишками её возится. Их двое – Коля и Валя, и они совсем маленькие: мальчугану – 4 года, девочке – 6 лет. Отцу их повезло, можно сказать: попал кузнецом в штабную армейскую автороту, так что он – не на передовой. Авось – и выживет…
…
А жизнь катится по своей колее. Конец мая – лето на носу. В колхозе – хлопот полон рот: то пахота, то боронование, то сев. Вот я, как учётчик, и мотаюсь по колхозным полям – с рассвета и до ночи.
Исход весны – самое голодное время. Запасы старого зерна давно кончились, а до нового урожая – ой как далеко! Все люди худющие ходят: питаются «подножным кормом» – молодой травкой, крапивой. И нам пришлось козу дарёную прирезать – ещё перед Новым годом: кормить-то её нечем стало. Но зиму и весну всё же как-то продержались…
Замечаю, что речь у меня стала как у всех местных селян: на «о» так же сильно напираю и все их редкие слова повторяю – которые раньше и не слыхивал…
…
Один из последних майских дней. Прихожу ранним утречком в правление: там уже сидит Фёдор Иванович, а с ним – и председатель нашего сельсовета Андрей Николаевич. В комнате – дым коромыслом: оба цигарками самодельными – «козьими ножками» – коптят, клубят как два вулкана. От этого самосадного курева дышать нечем, у нормального человека глаза на лоб лезут, а здешним чалдонам – хоть бы что.
Сидят они, смолят своё – и молча на меня смотрят. Долго молчат. Я уже заёрзал: что-то неладное намечается. И тут Фёдор Иванович вкрадчиво так начинает: «Вот, Паша, Андрей Николаевич разнарядку принёс на село наше: срочно надобно одного человека на лесозаготовки откомандировать. Не исполнить мы этого не можем – головы наши полетят. Война ведь – законы военного времени, сам понимаешь».
Понимать-то я понимаю, а на языке у меня вертится: «Так чего ж бы тебе, Фёдор Иванович, сынка своего туда не послать? Ему же – целых семнадцать лет. Здоровенный парень! А ты недавно в больницу его свозил. По злым слухам, справочку там выкупил – о язве желудка у сыночка, чтоб через год в армию не забрили его». Но я молчу: себе же хуже будет…
Тут и Андрей Николаевич голос подаёт: «Сходи, Павлик! Ненадолго – на месяц всего! А мы тебе потом отпуск выпишем!» Ну, что я мог поделать?! Подсунули мне повесточку, заставили расписаться на ней – и вперёд, на лесоповал – папе на замену!..
…
На другой день я и ещё пятеро местных парней собрались с утречка у правления и не спеша попылили в тайгу – на деляну. До неё – километров пятнадцать, так что шли почти полдня. Приходим на вырубку. Красотища кругом! Сосны стоят – мачтовые, неохватные. Где-то высоко-высоко пышными верхушками своими радостно помахивают. Зелень на них – свежая уже, не зимняя. Загляденье просто!
А зашли в жилой барак (их здесь четыре): временное сооружение – полусарай, полушалаш, полуземлянка. Ужас! Нары сплошные и в два этажа – спят все вповалку, не раздеваясь. Пол – земляной. Мрак, грязища, всякая живность насекомая прямо на глазах ползает. На весь барак – одна маленькая печка-буржуйка: ни согреться, ни обсушиться в непогоду…
Определили меня в бригаду: как и папа, должен я ветки с поваленных сосновых стволов обрубать (они потом хлыстами называются). Дело не самое сложное: топором научился только так махать. Главное – не переусердствовать: по ноге не попасть ненароком.
И всё бы ничего, терпимо, если бы не кормёжка. Она здесь – тощая и отвратительная. На обед и ужин выдают по чашке тошнотворной баланды какой-то – из репы или брюквы. Про мясо и вспоминать нечего. Иногда лишь рыбьи хвосты да кости в этом вареве попадаются. Хлеба (суррогатного, непропечённого) – 600 граммов на весь день. И более – ничего. Хуже бы – да некуда…
На работе бригадир бдит: чтоб не филонили, не отлучались с делянки никуда без нужды. После работы – надзор как над заключёнными: вокруг наших бараков забор из жердей соорудили, охранников назначили – следить, чтоб не сбежал никто.
Ну, проработал я в лесу день, другой, неделю – чувствую: ноги мои тяжелеют, начинают сдавать при ходьбе, живот к позвоночнику прилипает, руки двигаются с трудом, одышка появляется. И понимаю: пропаду я здесь – от работы, которая становится непосильной, от грязи, клопов и вшей, а скорее всего – от постоянной и нестерпимой голодухи.
Стал соображать: как быть? что делать? Наконец решил: бежать! Других вариантов нет, да и терять мне нечего. Понятно, что делать это надо в одиночку. Поэтому ни с кем на эту тему даже не заговариваю. Пару дней примеривался, приглядывался. В одном месте под забором тайком (поздними вечерами) подкоп небольшой руками разгрёб, дёрном и мхом его замаскировал.
После ужина, когда все успокоились, задремали, потихоньку встал со своего места на нарах (благо – оно у меня внизу и сбоку), напихал вместо себя под драное покрывало всякого барахла (заранее приготовил) – чтоб хоть издали на человеческую фигуру походило, выскользнул из барака – будто по нужде. Огляделся: охранник в противоположном углу забора стоит – курит, отвернулся. Я – бегом на цыпочках к проходу. Освободил его от дёрна и мха, протиснулся за изгородь, проход вновь аккуратненько заложил – и айда в тайгу! Со всех ног! Слава Богу, никто, вроде, не видел и не слышал! Теперь – только вперёд!..
А ноги-то еле идут. И бреду я черепашьим ходом по таёжной окраине – вдоль обочины разбитой лежнёвки (лесовозной дороги). По самой-то дороге нельзя: опасно, сразу заметят – если погоню пошлют.
А в ночной тайге страшно-то как – до дрожи: волосы на загривке дыбом встают. Огромные деревья вокруг поскрипывают да постанывают – словно чудища заколдованные. Птицы какие-то в чаще ухают – то ли перекликаются, то ли предостерегают, то ли угрожают. А может – беду пророчат? Короче: шумов, треска, шелеста, гомона кругом – прóпасть! На нервы это действует – да ещё с голодухи и со страху – просто оглушающе. Вот и у меня чувства все по-звериному обострились…
И вдруг я снова как бы провалился куда-то: в другое время, словно в яму – чёрную, бездонную. И чудится мне: стоит в пол-оборота девчонка – уже почти взрослая. Солнцем профиль освещён, волосы – как белый речной песок. И на меня так ласково-ласково смотрит. И понимаю я: нет у меня в жизни ничего дороже, чем она! И не будет никогда! Как будто на сердце моём этот девичий профиль отпечатался!..
Но тут – бах! – и ушло «видение». Как всегда – словно его и не бывало. Очнулся: стою – как пень! Вот так всегда: после этих «видений» меня ступор какой-то настигает.
«Нет, парень, это ты брось: вперёд – и как можно дальше!» – сам себе командую. А сил-то нет совсем: сердце в груди зайчонком испуганным колотится – трепещет, бьётся лихорадочно. Но надо – надо уходить! На четвереньках, ползком – как угодно!
Длиннее ночи у меня в жизни не было… Утром уже подхожу к своему дому: со стороны огорода – чтоб не увидел никто. Мама с бабушкой обнимают меня, целуют, плачут. А я одно твержу – в полубреду: «Я от голода из леса сбежал… Назад не пойду – помру я там… Спрячьте меня!..» Ну, накормили они меня – всем, что у них было, – и в подполье пристроили. Тюфячок мне туда подстелили, водички поставили…
Пролежал я там весь день – в тревожном забытьи. Бьёт меня какая-то лихоманка. И картины детства в распалённом мозгу мелькают: Волга… арбузы… папа с мамой – весёлые и молодые, как до войны…
Потом, к вечеру, вроде оклемался маленько. Слышу: наверху мама с бабушкой ходят и переговариваются: мол, у Ольги Васильевны в избе ещё одно подполье есть, и если что – можно туда Пауля перепрятать.
Тут раздаётся громкий стук – в наружную дверь. У меня – сразу сердце в пятки. Кто это там: за мной, небось, пришли? Различаю по голосу – тихому, рокочущему: это Андрей Николаевич к нам явился. Вновь тревога: зачем? Не по мою ли душу? Он, Андрей Николаевич, что-то спрашивает, мама тихо ему отвечает. Затем – грохот отодвигаемого стула, тяжёлые мужские шаги. Это Андрей Николаевич подошёл к крышке подпола, распахнул её и громко так командует мне: «Паш, а ну вылазь давай сюда! И не боись – больше никуда отправлять тебя не будем!».
Деваться некуда: выбрался я наверх – тощий, бледный, кудлатый. (Рыжеватые и густые волосы мои давно уже не укорачивали – «под горшок», здесь так всех парней обстригают, а поскольку бани в лесу патлы мои тоже не знали, то и превратились они в нечто чудовищно лохматое: ну – леший, ни дать ни взять!)
Посмотрел на меня Андрей Николаевич, покряхтел и говорит: «Ты, Павлуша, не бойся ничего! Договорился я с районом, чтоб нам эту единицу из плана по лесозаготовкам сняли. К тому же у нас в селе сегодня парнишка один умер. Я его в список вместо тебя внёс – задним числом».
Уф! Только тут отдышался я – и от души отлегло. Кому в тюрьму-то охота? А за побег с обязательного места работы – не миновать бы мне её. Но, как бабушка говорит: «Бог миловал!» – «Gott mit Uns!»
Посидел Андрей Николаевич у нас ещё немного – и ушёл. Спросил напоследок: что слышно от папы и Альки? А от них – ни слуху, ни духу: ни одного письма до сих пор нет…
Вытащили мы с мамой тюфячок из подполья. И тут стало мне совсем худо: чувствую – в беспамятство впадаю. Руки-ноги почему-то сразу отказали: болтаются как тряпки. Ольга Васильевна вышла в сени, посмотрела на меня, поправила платок на седых своих волосах и говорит: «Тащите-ко его к нам в избу – на печку! Его сейчас и долго потом лихоманка бить будет». Кое-как мама с бабушкой затолкали меня на эту русскую печку – на полати. Вроде, и невысоко – по лесенке-приступочке, а еле управились.
И начал я умирать. Поначалу-то страсть как хорошо мне стало: будто освободился от тела своего, воспарил в воздухе – ликование переполняет! Смотрю сверху на «кожуру» свою – что на полке распласталась: жалкое зрелище – мощи! Вижу: мама внизу на приступке сидит – плачет. Что-то кольнуло меня – в бок, туда, где раньше сердце было. С неохотой назад вернулся – в тело своё беспомощное. Ощущаю жар страшный – и жажду. Но всё это – сквозь какой-то смертный сон: не забытьё, а обморок – длинный-предлинный…
Мама пытается напоить меня, но вода в рот почему-то не попадает – мимо льётся. Язык распух – бревно бревном, не повернуть им. Есть ничего не могу – даже вечную бабушкину кашу-затируху. Все чувства умерли, равнодушие полное – ко всему и ко всем…
Сквозь дрёму слышу: фельдшерица сельская пришла. Лоб мой потрогала, огромный волдырь на шее пощупала зачем-то. Потом говорит (маме с бабушкой, видно): «Надо бы парнишку вашего врачу показать. Но я пятнадцать лет тут работаю – и без него всё ясно. Парень ваш – не жилец. Всенепременно помрёт. Но тепло ведь ещё на воле-то. Так что в избе вы его, покойного, не оставляйте. Досок у председателя попросúте – на гроб, не откажет, поди. А похороните рядом с дедом».
Где-то в подсознании возникает: «Откуда это она про деда узнала? Ведь мы с мамой сами тайком в апреле могилу выкопали – здесь, на огороде, потихоньку – целую неделю копошились».
Ушла фельдшерица. А я продолжаю парить в своем предсмертном тумане – ни на что внимания не обращаю. Вдруг различаю голос Ольги Васильевны, обращённый, как понимаю, к маме: «Дай-ко, Катерина, я научу тебя, что надо с Павлом-то делать. Он парень добрый, молодой – может, и выживет. Так вот: я буду тебе два стакана молока в день давать – неполных, правда: не обессудь – мне и внуков поить надо, они у меня тоже что-то зачахли. А ты молочко-то погрей, растопи и потом остуди – но чтоб оно тёплым оставалось. Понимаешь: именно топлёное потребно молоко – не иначе. И травки я дам тебе – в молоко это её добавляй. Поить парня надобно через каждый час – помаленьку, с ложечки. Может, и отутобеет».
Мама отвечает: «Так я же день-деньской на ферме. Не управлюсь с этим. А вот бабушка… Ольга Васильевна, миленькая, ты уж, Бога ради, повтори ей это всё!» Хозяйка, надо понимать, не отказала, а уж про бабушку – что там говорить?! Её добрые руки и удержали меня на этом свете!








