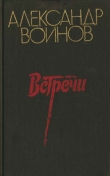Текст книги "Внимание: «Молния!»"
Автор книги: Виктор Кондратенко
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц)
3
Маленький домик наполнен жужжащим звуком зуммеров. Не смолкают полевые телефоны. После двадцатидневных боев войска генерала армии Ватутина отбросили гитлеровцев к исходным рубежам, с которых они начали наступать на Курск. Враг, прикрываясь сильными танковыми заслонами, цеплялся за каждую высотку. Но Ватутин не давал ему ни малейшей передышки. Натиск с фронта, удары с флангов! И гвардейцы снова вернулись в свои траншеи, блиндажи и окопы. Это еще больше воодушевило воинов. Бои усилились. Совсем близко лежала многострадальная украинская земля, и велико было желание как можно скорее освободить ее. Но Ватутин приказал прекратить атаки.
Фронт остановился и замер...
Ватутин остановил его согласно директиве Ставки. В течение одной недели он должен незаметно для противника подготовить войска к огромной по своему размаху операции. Подходили танки и артиллерия! На марше находились стрелковые дивизии. Все это требовало самой что ни на есть строжайшей дисциплины и маскировки.
– Если мы хотим добиться внезапного удара, так наденем же на войска шапку-невидимку, – говорил командующий штабным офицерам. И по всем проводам летело властное слово приказа: маскируйся!
Перерыв в активных боевых действиях давал отдых войскам, а их командующий получал возможность планомерно подготовить прорыв обороны. Но и противник мог принять меры и еще больше укрепить свои силы.
Силы! Для Ватутина это слово приобретало особый смысл. Если Манштейн станет подтягивать резервы, то... прощай, внезапность. Тогда ясно: он ждет удара под Белгородом и готовится отразить его. А вот если начнет перебрасывать войска на другие направления, то этим подтвердит, что временную остановку Воронежского фронта он рассматривает как вынужденную необходимость для советских войск, израсходовавших все свои резервы. Но так ли всё, или нет, – этого Ватутин еще не знал.
Вот почему он с такой надеждой ждал фотопленку с разведывательных самолетов. И как только она оказывалась на рабочем столе, он сейчас же оставлял все дела, принимался за самый тщательный просмотр. Пилотам разведывательных самолетов каждый метр пленки доставался нелегко. Фашистские асы зорко стерегли небо над важными дорогами. И все же пленка бесперебойно поступала в штаб фронта. Но то, что так хотелось увидеть Ватутину, пока оставалось только лишь желанием. И когда он, в который уже раз просматривая фотопленку, действительно увидел переброску войск, то в первое мгновение подумал: «Не ошибка ли?» Нет, не ошибка! Шло самое настоящее, причем крупное передвижение войск. Танки двигались на север и на юг. Враг усиливал фронт на Орловском плацдарме и в Донбассе.
«На что же надеется Манштейн? Конечно, на крепость своей обороны, – думал Ватутин. – Нет спору, она построена на большую глубину и очень прочна. Если бить врага, так бить! Оборону его взламывать одновременно на огромном фронте с немедленным вводом в прорыв танковых армий и на большую глубину. Войскам предстоит действовать в самых сложных условиях. Это будет маневренная война, и успех ее зависит от четкой и бесперебойной работы тыла».
Тыл! Армейские и фронтовые склады находились на удалении от действующих войск на 150 и 300 километров. Там накоплены запасы горючего, боеприпасов и продовольствия. Все эти огромные грузы во время наступления должны двинуться вперед. У него остались считанные дни до решительной атаки. В штабе много неотложных дел, но он должен выкроить время, побывать в тылу, узнать, какой там порядок и какая готовность к бою.
Свой глаз – алмаз!
Было и другое желание. Хоть на часок заглянуть в близкое сердцу село, навестить мать. Недалеко Чепухино, где он родился и рос, где в юные годы исходил многие стежки-дорожки.
«Виллис» движется медленно, осторожно. Ватутин одет в комбинезон цвета хаки. На груди неизменный бинокль, на боку планшетка с картой. За его спиной – порученец полковник Семиков и ординарец Митя Глушко. Поглядывая в зеркальце, что висит над головой водителя, Ватутин роняет:
– Что-то Митя совсем притих. Стихи, наверно, сочиняет?
– Шутите, Николай Федорович. Все рифмы словно замаскировались. Разве стихи придут сейчас на ум? Дорожка-то какая...
– Пронеси, господи, – добавляет водитель. Он по-ястребиному смотрит вперед.
На крутом повороте – то слева, то справа – возникает дорожное предостережение: «Разминировано только на 5 метров!»
Водитель останавливает вездеход, соскакивает на дорогу, осматривает ее, быстро возвращается. Утро. Тишина. В траве стрекот кузнечиков. Но опасность рядом. Нужен глаз да глаз. Наезженная колея в глубоких рытвинах, и машину при толчке может занести на обочину.
– Тише ход, тише, – говорит водителю порученец командующего.
К дороге теперь все чаще подступают неубранные хлеба. Всюду предупредительные дощечки. Земля густо усеяна минами. Колосья ржи спутались и поникли. Примятые ветрами, исхлестанные дождями, они почти осыпались.
Ближе к Чепухину хлеба скошены. У деревянного моста, перекинутого через обмелевшую Полатовку, водитель, по знаку командующего, останавливает «виллис». Ватутин выходит из машины.
Родная земля! И радость возвращения, и какая-то грусть по тому, что ушло и никогда больше не повторится. Как близки и дороги его сердцу знакомые с детства тополя, и соломенные крыши хат, и голубой купол церквушки, меловые бугры, которые казались когда-то огромными горами, – все это будит воспоминания, наполняя душу невольным трепетом.
Он стоит, вслушиваясь в далекое прошлое. Берет ком земли. Мнет его в руках.
Доносится крик. Сначала неразборчивый, а затем, приближаясь, становится ясным:
«Мужики, ко мне! Все ко мне!»
Ватутин смотрит вдаль. Ком земли в руках словно расплывается в необъятную ширь поля. Оно шумит, наполняется голосами. Бегут крестьяне, спешат старики, старухи, дети. Его отец, Федор Григорьевич, яростно размахивая листом бумаги, вскакивает на случайно подвернувшуюся телегу, кричит:
«Вот она, наша долюшка-судьбинушка... Эта мужицкая грамота Лениным подписана». Но прочесть ничего не может: слезы радости заливают и заливают глаза.
«Где твой Никола? Пусть он читает!»
«Николку, Николку! – настаивают другие голоса, – Федор, где твой сын?»
Ватутин чувствует, как он пробирается сквозь жарко дышащую толпу. Слышит свой звонкий, юношеский голос:
«Помещичья собственность на землю отменяется немедленно без всякого выкупа».
Прошло столько лет, а он видит улыбки на лицах, узнает голоса ликующих крестьян.
Дальше Ватутин идет пешком, не торопясь, как бы отыскивая одному ему давно знакомую тропинку. Война безжалостно изменила пейзаж родного Чепухина. Деревья хранят следы артиллерийского обстрела, чернеют горелые хаты. С полуразрушенной церквушки неожиданно поднимается аист, пролетает над Ватутиным, направляясь к Полатовке. И тут же откуда-то издалека ему слышится детский голос: «Ко-о-ля! Иди-и до-мой! Дедушка Григорий приехал. Нам пряник привез!»
Ватутин уже идет по широкой дороге. На месте школы – одни развалины. Но все далекое оживает: «Тише, дети, тише! Коля Ватутин прочтет нам стихотворение». Слышит он голос учителя и про себя повторяет заученный в детстве с таким старанием первый стих:
Вчера я отворил темницу
воздушной пленницы моей,
я рощам возвратил певицу —
я возвратил свободу ей.
Ватутин проходит мимо чудом уцелевшего здания сельсовета. Судя по белому флагу с красным крестом, теперь здесь санбат. А когда-то... Слышится удар камня в оконную раму. Звон разбитого стекла, выкрики: «Кончай с колхозом! Долой!» – «Спокойно, граждане! Мы не пойдем на поводу у кулаков. Нас не запугать! Колхоз будет жить! Сейчас выступит наш земляк, комбриг Николай Федорович Ватутин!»
У дороги старая, склонившаяся над колодцем верба. И сразу же горячий шепот из ее листвы: «Коля, я тебе не пара... Я батрачка... неграмотная... А ты командир Красной Армии». – «Не смей, молчи, не надо... люблю тебя...» Тишина. Бесконечность неба. Бесконечность земли. И только лишь двое: Он и Она во всей этой необычности...
Ватутин прошел под тенью вербы и, выйдя на ранний утренний свет, увидел, как из хаты с небольшими оконцами под соломенной крышей, окруженная детьми, вышла мать. На голове у Веры Ефимовны по-крестьянски повязана косынка, на шее, поверх ситцевой кофточки, старенькое монисто. Петух, взлетев на ствол танковой пушки, бьет крыльями, возвещает утро. Вера Ефимовна строго обращается к нему:
– Ах, ты, горлан! Гитлеряку прогнали, так ты голос повысил! Птенцов моих рано разбудил! А ну-ка, слазь с этой оглобли! Пошел, петька, пошел!
Вера Ефимовна стояла у калитки, возле нее толпились дети. Какое же чуткое изболевшее материнское сердце... Вера Ефимовна оглянулась, увидела сына и невольно всплеснула руками.
– Мама! – Ватутин ускоряет шаг, стремительно идет, бежит... – Мама! Он обнял мать. Ее глаза, вечно любящие и вечно ждущие, в слезах... И в них – то далекое, когда носила она своего Николеньку на ласковых, нежных руках, купала его в настоях пахучих степных трав, снаряжала первый раз в школу...
Несколько мгновений они стоят молча. Дети, образовав круг, смотрят на них тревожно, настороженно, с какой-то надеждой – так смотрят только дети войны.
А в хате Ватутиных раздается отрывистый стук. Танкисты на старом дубовом столе играют в домино.
Сержанту Козачуку не везет. Он горячится, нападает на своего партнера:
Ты опять проехал! Зевать нельзя!
Партнер медлит с ходом.
Козачук злится:
– Божье несчастье... Завтра танковый полк переформируют, а ты все чего-то ждешь. – Стремительно встает: – Крыша! – С оглушительным треском ложится на стол костяшка. – Ну, что же вы скисли? – обращается Козачук к растерянным противникам. Торжествует. – Попались, тигры!
За окном пофыркивают моторы. В хату входит Вера Ефимовна.
– Коленька, приехал, сыночек! – говорит она и от внезапной радости не может сдвинуться с места.
Увлеченные игрой в домино, танкисты пропускают мимо ушей ее слова. Но тут неожиданно Козачук вытягивается в струнку, делает руки по швам. Игроки, оглядываются и вскакивают.
На пороге – командующий фронтом.
Вихрем слетают солдаты с лежанки, с печки. Хватают гимнастерки, пояса, на босые ноги надевают сапоги. Ватутин стоит в дверях. Козачук мечется по хате: не может найти гимнастерку. Кто-то подает команду: «Смирно!» И Козачук в майке оказывается возле командующего.
– Вольно! – говорит Ватутин.
Солдаты быстро собирают вещи.
– Давай, хлопцы, пошли. Кто шлем забыл?
Козачук выступает вперед:
– Извините, товарищ командующий, мы не знали, что остановились в вашем доме.
– Никаких извинений не принимаю. – И широко улыбается. – На то и хата, чтобы в ней жили. Оставайтесь. В соседней комнате место найдется. Я тут проездом. У меня свободных всего три часа.
– Как же так, товарищ командующий?!
– А вот так...
Танкисты с нескрываемым сожалением смотрят на Ватутина.
– Ой, батюшки! – спохватывается Вера Ефимовна. – Коленька, я сейчас, хоть чайку заварю. Ты всегда любил его... Особенно с дороги. – Бросает взгляд на Козачука в майке: – Ох, боже, куда я твою рубашку задевала? – Накрывает стол скатертью, ставит чашки. Худенькие натруженные руки так и летают. Бежит в соседнюю комнату, приносит гимнастерку. – Вспомнила, я же рукав чинила.
– Вот теперь порядок, – обрадованный Козачук надевает гимпастерку, затягивает ремень.
Вера Ефимовна спешит вскипятить в чугуне воду.
Ватутин с интересом смотрит на гвардейца.
– Два ордена Красной Звезды. И медаль «За отвагу». Молодец. Кадровый, старый танкист.
– Четыре машины пережил!
– Немало. И горел? И подрывался на минах?
– Было все, товарищ командующий.
– А где войну начал?
Под Бродами. Потом Киев оборонял. На Северском Донце воевал. Под Сталинградом был. А с прохоровского поля прямо сюда на переформирование пожаловал.
– Так, значит, пожаловал? – Ватутин улыбается.
– Полк новую технику получил. Знаете, как сейчас мой танк называется?
– А как?
Козачук с особой гордостью:
– «Чапаев». Я уже с этим КВ до Берлина дойду. Недавно кино снова смотрел... Так в память крепко слова Василия Ивановича врезались, когда он под пулями реку переплывал: «Врешь, не возьмешь!» Теперь я сам буду их повторять.
Ватутин обводит взглядом однополчан Козачука. Веснушчатые, загорелые, сероглазые, кареглазые, стоят стройные, молодые танкисты. На груди ордена и медали, золотые и красные нашивки «За ранение».
– Вы все из одной стали. Благодарю за службу и желаю вам воинского счастья – победы в бою!
– Спасибо, товарищ командующий. Служим Советскому Союзу!
Солдаты быстро собирают вещи.
Со двора Митя вносит фанерный ящик с подарками для Веры Ефимовны. Ставит его на лавку. Подходит к большому ткацкому станку, с любопытством рассматривает стародавнее «чудо». Нажимает ногой на дубовую планку – станок приходит в движение, шумит.
Глушко останавливает его, качает головой.
– Наверно, он работал еще при крепостном праве.
– Ты не ошибся, Митя. На нем моя прабабка ткала полотно для графа, – говорит Ватутин.
Полковник Семиков тихо роняет:
– Иди, Митя, подежурь у ворот.
Вера Ефимовна не может наглядеться на сына. Мешают слезы, хоть и радостные, а все же так и наливаются в глазах.
– Приехал... Порадовал...
– Мама, меня Таня и дети в каждом письме просят: «Пусть приедет бабушка к нам». Поезжайте в Москву. Хоть немного отдохнете.
– Не могу, сынок. У меня в колхозном садике двадцать малышей. Многих война круглыми сиротами сделала. Как же я оторву их от сердца? Они от меня ни на шаг, как цыплята за наседкой ходят.
– Я видел, мама, любят они вас.
Вера Ефимовна вздыхает:
– Вот что, сынок, хочу тебе пожаловаться... Письма долго идут. Ни от Афанасия, ни от Семена с Павлом давно не получаю... Сказал бы ты кому надо...
– Трудно на войне, мама. Порой вздохнуть некогда. Но братья живы и здоровы. Это я знаю. Воины они хорошие. Хвалят, их за храбрость.
– А чего ж не хвалить моих сыновей? С детства за плугом, за бороной. Не белоручками росли. Три солдата и генерал. И все на фронте. Ох, скорей бы эта клятая война кончилась. – И концом платка вытирает слезы.
За окном шум, голоса.
У калитки Митя Глушко окружен колхозниками. Дед – георгиевский кавалер настаивает:
– А ты доложи: мол, соседи пришли, односельчане, хотят повстречаться.
Митя уговаривает:
– Да поймите, дедушка, командующий только с машины сошел.
Дед нетерпеливо постукивает палкой.
– А что мундир в пыли? Тут не парад. Свои люди. Для тебя он командующий, а для меня – Коля, – с достоинством. – Я с его дедом Григорием на Балканы ходил, с турками воевал. Двадцать лет в кавалерии процокал. Я Колю в армию провожал, генерала ему предсказал. – С еще большим достоинством: – А вот уж командующим – он сам стал. Доложи!
Митя с укоризной:
– Вы, дедушка, двадцать лет в кавалерии процокали, а сейчас две минуты подождать не желаете.
– Я тебе не дедушка, а председатель колхоза. Сказано – доложи, выполняй!
Митя почти шепотом:
– Я вам военную тайну открою. Верховный дал ему увольнительную на три часа. – Показывает деду часы. Постукивает пальцем по циферблату. Многозначительно повышает голос: – Горит! Просто пожар!
Ватутин распахивает пошире окно!
– Что там горит, Митя? На пожаре люди нужны. Открывай калитку! – И, уже спускаясь с крыльца, радушно обращается к входящим односельчанам: – Здравствуйте, мои дорогие. Входите, входите!
Односельчане заполняют двор. Маленькая сухонькая старушка прикасается рукой к Ватутину:
– Вот ты, Коленька, к матери приехал... Не в отступ ли армия идет? Не вернется ли Гитлер-душегуб снова?
– Не-ет, не-ет! Не позволим.
– А то лучше умереть. Такого натерпелись... – скорбным голосом продолжает старушка.
– Я вам как землякам скажу. – Ватутин показывает рукой на стоящий посреди двора новый КВ. – Вот он, защитник надежный. Красавец Урала. Смотрите, какой богатырь! – Кладет руку на плечо сухонькой старушке: – Незачем вам умирать. У нас таких тысячи, дорогая соседушка.
Дед, председатель колхоза, выходя из толпы, обнимает Ватутина:
– Здравствуй, мой дорогой, здравствуй, наш богатырь Красной Армии! Пришли проведать тебя, Коля, помощи попросить... Как жить будем? Поля в минах, а скоро пахать.
– А чем?
– Правильно спросил – чем? Хоть на палку садись... Ни коня, ни трактора. Может, ты нам какой трофей подкинешь?
– Чтобы только гудел да двигался.
– На душе веселей будет, – послышались голоса.
– Тихо! Товарищи, тихо! Послушаем, что Коля скажет.
– Поля уже начали разминировать. Но, – качает головой, – даже после войны сразу их не очистить. Ну, а трофей, конечно, подкину. Будет трактор, и кони будут. – Обводит взглядом односельчан. – Но только трофей – это капля. Всем разоренным колхозам наше правительство окажет помощь. Это я точно знаю. – Ватутин смотрит на часы. «Вот и пролетел краткий отпуск». Ищет глазами мать.
Вера Ефимовна молча, с тревогой глядит на сына, руки сжимают монисто: бусинки текут сквозь пальцы медленно, как слезы, – одна за другой.
Дед, председатель колхоза, постукивает о землю толстой тяжелой палкой:
– А мы по-прежнему, Коля, за всех – одни. Где же этот второй фронт? Пришли к тебе спросить: будет ли он аль нет?
– Я вам так скажу: каждый наш шаг вперед приближает его открытие. Будет второй фронт. Можете, земляки, в этом не сомневаться.
– Я вчера у солдат радио слушал. Все союзники да союзники... – Дед со всей силой стучит палкой. – Где же эти мистеры на том земном полушарии?!
4
А на том земном полушарии по реке Потомак скользят быстроходные нарядные яхты именно тех мистеров, от которых в значительной мере зависит открытие второго фронта.
За надежными оградами и пышно цветущими розариями поблескивают широкими окнами и мраморными колоннами фешенебельные особняки. Над их железными крышами еще ни разу не выли бомбы и гранитный фундамент не сотрясали близкие разрывы.
Когда в Европе бушуют опустошительные войны, истекают кровью и голодают целые народы, владельцы этих солидных особняков занимаются увеличением своих банковских капиталов и украшают просторные гостиные скупленными за океаном полотнами Рембрандта, Рубенса, Рафаэля, Веласкеса и Тициана...
В кварталах миллионеров и важных чиновников – пышные розарии, зеленые лужайки.
Резиденцию президента украшает тоже зеленая лужайка. Он занимает довольно солидное здание, выдержанное в строгом классическом стиле, которое, начиная с 1814 года, окрашивают только в белый цвет и по старой традиции называют Белым домом.
Порог Белого дома переступали всемогущие императоры, банкиры, премьеры, султаны, боевые генералы, папские кардиналы, влиятельные дипломаты, а в последнее время шейхи, к чьим нефтеносным землям на Ближнем Востоке американские деловые круги проявляют повышенный интерес.
По коврам Белого дома шагали многие преуспевающие газетные короли – «творцы сенсаций», без которых не может существовать Америка.
Вот и сейчас в личном кабинете Рузвельта, в так называемой Овальной комнате, идет пресс-конференция. Рузвельт сидит в своем специальном кресле на колесах. Рядом стоит его личный слуга – негр. За спиной президента – книжный шкаф. На полках золотые корешки толстых томов Британской Энциклопедии. У противоположной стороны под старинными гравюрами, запечатлевшими морские бои, выстроились представители прессы.
Стоящий в первом ряду политический обозреватель журнала «Юнайтед Стейтс Ньюс энд Уорлд Рипорт» Дэвид Лаурс возбужден. Он порывается вперед.
– Господин президент, как стало известно, победа на Курской дуге позволила русским начать мощное наступление на фронте до двух тысяч километров. Они освободили Орел и Белгород, взяли Харьков и Полтаву. Их танки выходят на Днепр. Как вы лично расцениваете эти события?
– У наших союзников несомненный успех, – отвечает Рузвельт со свойственной ему непринужденностью.
– Это тревожит читателей нашего журнала, – возбужденно продолжает Лаурс. – Новая победа коммунистов на Днепре может откликнуться эхом в Америке и в Англии.
– Вы не уточняете каким? – нотка вызова звучит в голосе Рузвельта. Он привык вести полемику с прессой, которая своими нападками так часто раздражала его.
– Самым нежелательным, – повышает голос Лаурс. – Я лично не могу поверить в то, что Россия наш друг.
– Единственная возможность иметь друга – это стать другом, – улыбаясь, удачно срезает своего противника Рузвельт.
Лаурс отступает, становится на свое прежнее место и демонстративно закрывает блокнот. На смену явно недовольному Лаурсу спешит репортер в темных очках:
– Джерри Кин из газеты «Монитор», – бросает он. – Господин президент, в битве за Днепр какое самое главное направление?
– Я полагаю... Киевское... – растягивая слова, Рузвельт поглаживает ручку кресла.
– Кто командует там русскими войсками?
– Генерал армии Ватутин, – по знаку Рузвельта слуга-негр ловко поворачивает кресло на колесах. Президент смотрит на книжный шкаф. – Этого молодого полководца вы не найдете в Британской Энциклопедии. – Снова знак и ловкий поворот кресла на колесах. – Он выдвинулся в ходе войны.
Из толпы выпархивает быстрый, как птичка, репортер.
– Джек Бенсон из газеты «Балтимор Сан», – представляется он и поспешно задает вопрос: – Против генерала Ватутина действует лучший стратег гитлеровской Германии фельдмаршал фон Манштейн. Смогут ли русские форсировать Днепр?
Рузвельт говорит подчеркнуто:
– Русские все могут. Они уже не раз удивляли мир. Мы будем с вами свидетелями битвы за самую неприступную водную преграду в Европе.
– Почему вы, господин президент, считаете Киевское направление главным? – допытывается все тот же быстрый, как птичка, репортер.
– Если генерал Ватутин овладеет Киевом, его армии нависнут над всей, южной группой германских войск. С Киевского плацдарма можно шагнуть на Западную Украину и в пределы Южной Польши. – Рузвельт следит, как быстро скользят по страницам блокнотов вечные перья. На его лице появляется усмешка. – Но... – пауза, – это не для печати.
В порывистом беге спотыкаются вечные перья, представители прессы застывают с открытыми блокнотами. Репортер из «Балтимор Сан» обращается к главе правительства заискивающе:
– Орел не должен мешать хору маленьких птичек.
Рузвельт поправляет на переносице золотой кренделек-пенсне, улыбается:
– Этот хор маленьких птичек способен порой заглушить даже орлиный клекот... К сожалению, я не могу дать никаких указаний цензуре.
Бойкий корреспондент, увешанный фотоаппаратами, протискивается вперед.
– Роберт Джексон из газеты «Чикаго Таймс». – Щелкает «лейкой». – Господин президент. Гопкинс – социалист?
– Вы уверены в этом? – отвечает на вопрос вопросом Рузвельт.
– Ваш советник и специальный помощник кичится своим скромным происхождением, – выпаливает корреспондент.
– Да, он сын шорника. Однако это не мещает ему быть другом большого бизнеса. – Огонек задора в глазах Рузвельта. – Но...
– Что вы этим хотите подчеркнуть, господин президент?
– У Гопкинса свой взгляд на большой бизнес. – Все журналисты шелестят блокнотами. Они оживились. Начеку авторучки. Рузвельт поднимает указательный палец. – Он за то, чтобы наши деловые люди сгребали деньги не острыми вилами, а... широкими лопатами.
Смех.
– Распространился слух о том, что вы направили Гопкинса в Лондон. Не связана ли его миссия в Англию с открытием второго фронта? – допытывается все тот же корреспондент.
– Я ни на минуту не забываю о наших интересах во всех уголках земного шара. – Кресло на колесах, в котором сидит Рузвельт, отъезжает к письменному столу. Президент снова поднимает указательный палец и чуть шевелит им: – Но... никакой сенсации вам выудить не удастся. Гарри отправился в Лондон... передать привет моим друзьям.
Смех.
На фоне утренней зари возникает черная точка. Она растет, превращается в силуэт четырехмоторного транспортного самолета С-54. Он описывает круг, заходит на посадку. Приземляется и по бетонной дорожке подруливает к зданию аэропорта. И вот по трапу спускается небрежно одетый, в изрядно поношенной шляпе худой усталый человек. Его с распростертыми объятиями встречает элегантный высокий джентльмен. Это представитель английского правительства, друг и советник премьер-министра Брендан Бракен.
– Я уже начал тревожиться, мистер Гопкинс. Время вашего прибытия истекло, а самолета все нет и нет.
– Что поделаешь... Мы опасались встречи с «мессер-шмиттами» и, подходя к Лондону, петляли, как зайцы. Но все обошлось благополучно.
Небрежно одетый Гопкинс и лондонский денди Бракен проходят мимо полицейской охраны, направляются к лимузину.
Толстый полицейский-офицер, провожая взглядом Гопкинса, тихо говорит своему соседу офицеру:
– Если бы я встретил этого господина на окраине Лондона, честное слово, принял бы его за бродягу.
– Мистер Гопкинс большой оригинал. Он носит одну и ту же шляпу двадцать пять лет, но зато меняет каждый день галстук и рубашку.
Хлопают дверцы лимузина. Он сразу набирает скорость. Гопкинс, осматриваясь по сторонам, говорит Бракену:
– Когда я нахожусь в вашем городе, невольно вспоминаю стихи одного поэта: «То Лондон, о мечта! Чугунный и железный».
– Но мы отправимся за город. Черчилль ждет вас на своей вилле. – Брендан Бракен открывает крышку карманных часов. – Дело в том, что врачи прописали ему одночасовую горячую ванну. Пришлось рядом установить телефон. – Слегка усмехаясь: – Теперь Уинстон из ванны отдает распоряжения морскому флоту.
– Это забавно, – роняет Гопкинс.
Премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля они, действительно, застают за лечебной процедурой.
На пороге ванной комнаты появляется элегантный Брендан Бракен.
– Прибыл мистер Гопкинс, – докладывает он.
– А, Гарри! – восклицает премьер-министр. Он расстается с телефонной трубкой, шумно плещет водой и говорит во весь голос: – Входите, мистер Гопкинс, входите! – Черчилль взмахивает руками и, усмехаясь, продолжает: – Я хочу, чтобы союзники знали: у меня от них нет никаких секретов. – Он скрывается за ширмой и через несколько минут приглашает Гопкинса позавтракать.
В маленькой столовой старая женщина-служанка ставит на стол свежий салат, сыр, холодное мясо, бутылки шотландского виски, портвейна, шампанского.
Круглый, краснолицый, улыбающийся Черчилль в коротком черном пиджаке, в полосатых брюках. Он говорит мягко, почти ласково:
– Гарри, я налью вам легкого вина. – Черчилль наполняет рюмку Гопкинса портвейном. – А себе чего-нибудь покрепче... В потреблении шотландского виски я могу состязаться с богами Олимпа.
Посланец Рузвельта держится непринужденно. Гопкинс пьет, закусывает и оживляется. Он быстро побеждает дорожную усталость. Теперь это энергичный, проницательный собеседник.
Черчилль поднимает полный бокал:
– За ваше здоровье! – И, как бы между прочим, замечает: – Я уважаю вас, Гарри, за то, что вы, пожалуй, единственный американец, который не желает растаскивать остатки Британской империи.
– Доверие – это основное.
– А еще знаете за что? – Премьер-министр пьет. В упор смотрит на Гопкинса. В голосе шутливый тон. – У нас одинаковая судьба... Мы семимесячными младенцами появились на свет. Вы, Гарри, в кладовой хижины, я – в раздевалке Бленхеймского дворца. На шубах и шапках съехавшихся на бал гостей. – Снова пьет, продолжает в упор смотреть на Гопкинса. – Вашего отца, Гарри, донимали репортеры, когда он выигрывал в кегли сотню долларов, – шутливый тон Черчилля переходит в нарастающее презрение. —Моих предков, привозивших на фрегатах несметные сокровища в Лондон, очернили в своих сочинениях Свифт и Теккерей, – с циничной откровенностью. – Но мне наплевать на это, – с гордостью, с видом превосходства. – Часто говорят: Черчилль – воинственный. Да, Гарри, это так! В моих жилах течет кровь морских пиратов. Но не простых разбойников, а кавалеров рыцарских крестов, которым покровительствовала английская королева, – он тянется к нераскупоренной бутылке.
Гопкинс откидывается на спинку кресла.
Черчилль сквозь дым сигары:
– Вы знаете, Гарри, что я дал вам прозвище – «Корень вопроса»?
– О’кей... Я начну с корня. Надо всеми силами форсировать второй фронт. Советские войска уже у Днепра. Они готовятся штурмовать Киев. Я хочу передать вам слова президента: «Дальше Америка не может ждать и Англия медлить».
Черчилль раскупоривает бутылку шампанского. Хлопает пробка, летит в потолок и падает на стол.
– Сегодня ночью, Гарри, я получил совершенно секретную информацию: Гитлер прибыл в свою ставку под Винницей, чтобы удержать Днепр.
– Он надеется на господствующие над рекой стометровые кручи?
Черчилль берет сигару, затягивается, энергично дымит и снова кладет ее в медную пепельницу. На лице усмешка.
– Сама Германия, Гарри, уже не господствующая страна. – С откровенной ненавистью: – Большевистская Россия выходит вперед. Я боюсь ее мощи, коммунизм угрожает Европе. Я даже готов взорвать антигитлеровскую коалицию. – Но эти слова не вызывают у Гопкинса сочувствия, специальный помощник президента пристально, с удивлением смотрит на премьер-министра. Черчилль понимает: в своей ненависти к союзной державе он зашел слишком далеко. Сейчас нет надобности выдавать сокровенные мысли, и он изворачивается. – Но все это фантазия. Наши народы симпатизируют Советской России. А нам с вами прежде всего надо спешить. – Он загибает пальцы на левой руке. – В Афины, в Белград, в Будапешт, в Прагу и Варшаву...
– Вы пропустили главный город... Берлин, – настораживается Гопкинс.
– Я буду чувствовать себя одиноким без войны, – уклончиво отвечает Черчилль. Его лицо становится печальным.
– Нет, так можно опоздать в Берлин. Затягивать открытие второго фронта нельзя. – Гопкинс встает. В его голосе оттенок торжественности. – Господин президент пожелал, чтобы я напомнил в Лондоне стих из Евангелия от Матфея: «Просите – и дано будет вам, ищите – и найдете, стучите – и отворят вам».
Черчилль тоже встает. Наливает шампанское Гопкинсу, себе – виски. Поднимает бокал.
– Для похода на Берлин нам нужна ваша щедрая помощь – больше самолетов, десантных судов и танков. – Тучный Черчилль отодвигает кресло, выходит на простор. – В послании Иакова сказано: «Всякое даяние – благо. – Он довольно улыбается. Гопкинс подхватывает стих, и они заканчивают вместе в один голос: – Будьте же исполнители слова».