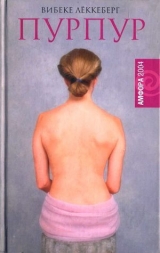
Текст книги "Пурпур"
Автор книги: Вибеке Леккеберг
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц)
Мать назвала ее в честь выдуманной женщины. Действительно, честь. Кругом лишь о Лукреции и говорят.
Папа Римский перечеркнул свое создание, в котором было слишком много земных страстей. «Выкиньте из головы, забудьте», – сказал Пий Второй. Но перестала ли Лукреция после этого существовать? Да нет же, вот она: висит, держась за ветку обеими руками.
Автор придумывает героев. Затем делает с ними, что пожелает, может даже убить. Но если их именами успели назвать настоящих людей – неужели этим воплощениям книжных строчек, абзацев, страниц тоже суждено исчезнуть? Власть писателя и в самом деле так велика?
Суставы пальцев, вцепившихся в ветку, побелели. Лукреция из плоти и крови не хочет умирать, даже если в ней заключена душа Лукреции вымышленной. Пусть лучше жизнь придуманной продолжается в теле живой. В чужеродном теле убогой девушки, не нужной никому, кроме Андрополуса. А она ведь еще помнит, что значит быть здоровой.
С недавних пор Лукреция стала чувствовать, как внутри происходит что-то новое. Сладкое томление, иначе не назовешь. Да и вовне многое менялось: в какого красавца превратился за последнее время Андрополус!
Умывая ее однажды утром, кормилица приметила между лопатками молочной дочери, в том месте, откуда у ангелов должны расти крылья, а у Лукреции засел осколок железного наконечника, припухлость – твердую, округлую, похожую на маленькую луну.
В луне-то все и дело. От ее движения по небосклону, сказала кормилица, зависит, когда крови течь из лона; ночное светило перейдет в другую фазу, регулы кончатся, жить станет легче, шишка исчезнет. Луна передвинулась, но гадкий нарост остался. Стало быть, от положения луны на небе зависит лишь лоно, а не спина.
Припухлость меж ангельских крыльев не проходила. Наоборот: с каждым полнолунием она становилась чуть больше.
Потому-то Лукреция и висела на ветке.
Лечить таким образом спину посоветовал Андрополус. Он, когда не был занят, даже помогал ей: стоял внизу и тянул Лукрецию за ноги до тех пор, пока она криком не давала знать, что стало больно.
По ночам ей снилась матушка. Матушка, которая даже смотреть на нее не хочет с тех пор, как дочь стала убогой. Вот бы стать прежней!
А вчера ее перепугал странный сон. Будто бы баронесса Анна умерла, и Лукреция спустилась в царство мертвых навестить покойницу. Матушка предложила ей поесть, села рядом за накрытый стол, но к пище даже не притронулась. Лукреции еда понравилась, за ушами трещало. Когда тарелки опустели, матушка недовольным голосом спросила, почему это дочь не приглашает ее к себе на ответный обед. Лукреция очень удивилась вопросу. Ведь каждому понятно, что мертвецы не могут вернуться назад к живым. Или могут? Недовольство матушки сильно ее опечалило, потому что было несправедливым: ведь она многим рисковала, спускаясь сюда! Между тем тьма становилась все гуще, Лукреция сидела, уставясь во мрак, ее вдруг снова начал мучить голод. Матушка сказала, что оно и понятно: в царстве мертвых и еда мертвая. Зачем же сразу не предупредила? Вот чем она, оказывается, потчевала дочь: стервятиной и молоком из сгнившей груди. Сама-то, небось, есть не стала! Матушка ее не любит, поняла Лукреция, проснувшись с привкусом падали во рту.
Она встала с постели, пошла в спальню матери и, открыв дверь, увидела, что Анна лежит на полу совершенно нагая, странно восторженный взгляд уставлен в потолок, кожа белая-белая. Окно открыто, легкие занавески полощутся на ветру, как паруса. Балдахин над кроватью чуть колышется, словно от могучего дыхания. Но кровать пуста, отца в ней нет.
Под порывами ветра в спальне было свежо, и вместе с духотой, казалось, ушло из нее ощущение надежности, которое раньше охватывало Лукрецию вблизи матушки. Анна не чувствовала прохлады. Она даже не заметила, что испуганная дочь, затаив дыхание, стоит в дверях.
Лукреция закрыла дверь и ушла к себе.
Внутри тела царила пустота. И впервые появившееся острое желание поскорее ее чем-нибудь заполнить.
* * *
Приходской священник, погрузившись в раздумья, брел по загаженной коровьей тропе в сторону Корсиньяно. Под мышкой он нес внимательно изученную и вновь обернутую в ткань картину. Чем дальше, тем отчетливей падре осознавал, что женщина, изображенная на ней, никакая не великомученица. Грудь этой Агаты, вовсе не святой, полна сладострастным огнем, который тысячу с лишним лет назад охватил мужчину плотским желанием. Наместник Квинтилиан посватался к юной деве Агате, она отказала ему, пожираемый похотью римский префект жестоко отомстил – столь жестоко, что память о том сохранилась в веках, – вот и все.
Неужели Папе Римскому желательно, чтобы алтарный образ не давал прихожанам забыть о борении страстей? К чему белизна тщательно выписанных грудей, если они скоро будут отрезаны? Изображения святых не должны бередить умы и души. Вот, например, он, приходской священник, глядя на картину, невольно ставил себя на место палача, ощущал в одной руке упругую податливую мягкость правой груди, а в другой – удобную рукоять ножа, глубоко вонзенного в левую.
У падре вспотели ладони, по телу пробежала дрожь. Грань между желанием и убийством так хрупка! У сатаны тоже есть своя литургия. В задумчивости священник ускорил шаг, он почти бежал, шмякая башмаками по жиже из мокрой глины и коровьих лепешек, с трудом вытаскивая ноги из засасывающей вонючей трясины. Все глубже и глубже. Зато миазмы смутных вожделений, таившихся под спудом где-то в глубине, поднимались на поверхность. Приговоренные к аутодафе женщины со связанными за спиной руками молят его о пощаде: «Все что угодно, святой отец, только спасите!» Приходской священник посмотрел прямо на палящее солнце, пытаясь отогнать морок. Видение исчезло, глаза заслезились, сердце бешено бухало в такт шагам.
Он вошел в Корсиньяно.
Встречные кланялись, но он их не замечал.
Опустив взгляд, падре обнаружил, что обувь целиком заляпана навозом. Он шел не Божьими путями, а дьявольскими тропами.
И еще сорочка, вдруг сделавшаяся пурпурной… В пурпуре издавна являлись подданным властители, чтобы принять поклонение черни. А вот в Элладе, говорят, так метили блудниц. Соблазнительная краска с рыбным запахом отдающим ароматом плотских мужских извержений. С древнегреческих времен ничего не изменилось. Сорочка окрасилась в цвет похоти. Смрад любострастия пытался соблазнить его.
– О Господи! – вслух воскликнул священник, входя в двери храма.
Он чуть было сам не загнал себя в западню, приняв женскую ночную рубашку за знак Божий.
И все-таки тьма этой ночи постепенно развеялась, обернувшись дивным светом. Чудо было явлено! Долг пастыря – рассказать об этом прихожанам, донести до их ушей и душ тайный смысл небесного знамения. Для этого нужно отрешиться от всего постороннего. Сумеет ли он? На мгновение падре парализовала робость. Но чего ему бояться? Разве не этого звездного часа ждал он так долго? Постыдно было бы его упустить.
Он помедлил, стоя спиной к пастве, безмолвно вознес короткую молитву, повернулся и взошел на кафедру.
Он готов говорить. Сорочку оставим в стороне. История с ней носит скорее комический оттенок и, стало быть, только повредит общему впечатлению. Он знает своих прихожан как облупленных: их грязные фантазии и страсть приписывать другим самое дурное. И вообще подробности ни к чему. Последовательность событий не так важна, как самое чудо. Итак: вашему духовному отцу явился ангел с вестью от святой Агаты.
Ангел был явно женского пола, но это мы упустим, оберегая мужскую часть паствы от излишнего соблазна.
Падре начал проповедь, но скоро, к собственному ужасу, убедился, что слово «чудо» совершенно для него непроизносимо. Как ни подбирался к нему святой отец, с какой стороны ни подходил, речь неизменно соскальзывала на иносказания и уподобления, дальше несколько неопределенной фразы: «Меня осенил небесный свет» – дело не шло.
Он так и не произнес ни звука о чуде.
Вина за случившееся, конечно, лежала на прихожанах. Они слушали вполуха, они всем своим видом намекали на слабость и уязвимость пастыря, они глядели с таким недоверием, что великолепный размах помавающих крыл стал блекнуть в глазах самого священника.
Это было невыносимо. Хотелось тут же высказать тупо таращащимся глазам все, что накипело. Огласить во всеуслышание исповедь за исповедью: тут – похоть, там – измена, в том углу – подлог, в этом – козни, лицемерие, гордыня, кража, клятвопреступление, детоубийство! Господь нашлет на вас чуму и прочие болезни! Как мечтал бы он выплеснуть обвинения и угрозы прямо с кафедры и освободиться от тяжкого груза, непосильной ношей легшего ему на плечи – ему, единственному чистому посреди гнусности и мерзости!
Между тем он продолжал толковать про небесный свет. И вдруг умолк, пораженный внезапной мыслью: слово «чудо» недоступно для языка, ибо молитвы остались втуне. Господь не пожелал оградить его от власти дьявола. А как же негласный договор, во исполнение которого падре трудился с первых дней своего священства: служение в обмен на защиту от сатаны? Видит Бог, ему необходима была эта помощь. Святая дева свидетельницей тому, как он смолоду отводил глаза от жеребца, покрывающего кобылу, от петуха, топчущего курочку, – отворачивался, чтобы не умереть от зависти.
Господь снял с него руку свою. Не пожелал поддержать. Не даровал очищения. Чудо непроизносимо, потому что чуда не было. Сорочка, упавшая с неба, пухлогубый юноша, явившийся в опочивальню, ширококрылый посланец небес – все это всего-навсего странное стечение обстоятельств. Или даже хуже: у его двери стоял ангел греха. Оттого-то во время проповеди блеск ангельских крыльев, столь светлый и чистый, поблек, расплылся, угас. Падре спустился с кафедры и ушел в ризницу.
Здесь, в святом месте, картина не должна пребывать больше ни минуты. Грудь обнаженной Агаты вызывает вожделение, ее соски вопиют о грехе. Прочь из ризницы, порождение дьявольских соблазнов! Но как вынести картину незаметно? И в церкви, и на площади полно народа.
Ангел греха повелел передать свой дар маэстро Росселино. Еще чего! Приходской священник не обязан выполнять веления сатанинского посланца. Он сумеет противостоять им, грядущий сан епископа обязывает к этому. Бернардо Росселино не увидит богомерзкого изображения. Решено: оно будет предано огню. Не сейчас, позже. После причастия прихожане разойдутся, и тогда падре, никем не замеченный, вынесет картину из ризницы и сожжет. А пока пусть лежит здесь вместе с заляпанными навозом башмаками. Кто ее тут увидит? Разве что церковный служка, когда станет чистить замаранную обувь священника, но этот и внимания не обратит, он ни на что не обращает внимания.
Окропить картину святой водой и передать Бернардо Росселино! Смешно и думать, что он мог бы на это пойти. Ни в коем случае. Падре сам решает, где кропить, а где не кропить. Хватит и того, что он впустил дьявольского ангела к себе.
Приходской священник ощутил голод.
Пора домой. Он пойдет в тех же башмаках, в которых читал проповедь. Подошвы стоптались, в пальцах жмет… Падре снял один башмак и поднес к носу. Никак, воняет? Так и есть, несет навозом. Ноги пропитались им насквозь. Впредь надо ходить другой, чистой дорогой. Он наполнил водой оловянный тазик и позвал в ризницу прихожанку из бедных. Она привычно вымыла ему ноги. Нельзя переступать порог собственного дома грязным.
На храмовой площади приходского священника окружила паства. Люди были взволнованы проповедью. Оказывается, про чуму и прочие болезни он сказал-таки вслух. Олухи поняли это в том смысле, что с приездом Папы Римского в Корсиньяно на город обрушится мор. Пий Второй, говорят, уехал из Витербо не просто так, а спасаясь от чумы. Там даже некоторые кардиналы отдали Богу душу. Кто жив остался, бежал сломя голову, это точно.
Перепуганные прихожане наперебой спрашивали у падре, что ему известно о моровом поветрии.
– Толстосумам да сутанщикам не впервой впереди чумы бежать, – крикнул какой-то старикашка. – А мы – ложись да помирай!
Атмосфера накалялась. На площади стоял гвалт. Чума, чума, чума, чума… Вот уж действительно, очумели.
– В аббатстве Сан-Сальваторе, слышь ты, тоже началось. Недаром Его Святейшество уехать оттуда изволили!
– И на носилках его тащили недаром – сам Пий Второй чуму подхватил!
– Теперь и нас заразит, коли явится на праздник Иоанна Крестителя!
Падре все сильнее хотел есть, а народ не успокаивался. Священник оглянулся по сторонам. Фасады домов украшены ветвями мирта и лавра. Из окон свешиваются восточные ткани и ковры ручной работы. Город прихорошился, ожидая прибытия Папы Римского. В проеме одного из окон ратуши на толстой веревке болтается повешенный. Смотрите все, как кончают жизнь преступники, пусть и вам неповадно будет. Скоро труп расчленят и части тела развесят по разным концам Корсиньяно.
Падре нетерпеливо проталкивался сквозь толпу. Вот бургомистрова вдова. Могла бы, между прочим, пригласить на обед, как это водится по четвергам. В церкви она вместе с великовозрастным сыном сидела на обычном месте поблизости от алтаря. Перед проповедью священник подошел к ним и осведомился о результатах утренней охоты на зайцев.
– Полный ягдташ, – ответствовал сынок, но отведать зайчатины на этот раз не позвал.
Какая разница, привезет Папа Римский чуму или нет? Пустой желудок пел свою голодную песню.
Неожиданно гомон толпы стих. Наступила тишина, тревожная и настороженная, как перед казнью или смертным боем. Падре недоумевающим взглядом окинул море голов. Не может быть! Нет, не померещилось. На ступенях храма с таким видом» словно отыскал сокровище, стоял церковный служка и держал в высоко поднятых руках картину с изображением святой Агаты, обнаженной во всей своей красе.
– Я нашел ее в ризнице! – возгласил служка и поднял великомученицу еще выше. – Она лежала под башмаками, испачканными навозом!
«Этого еще не хватало!» – пробормотал себе под нос священник.
Теперь картину будут связывать с его именем. Она, лежавшая под изгаженными башмаками, и сама мерзостна – с этими двумя богохульно голыми грудями и нежной улыбкой палача. Надо дать людям понять, что он, священнослужитель, не имеет с ней ничего общего. Иначе бед не оберешься.
– Должно быть, – нашелся падре, – скромный автор подбросил в ризницу свое полотно, не решаясь самолично передать его на суд маэстро Росселино! – Протиснулся сквозь толпу и вырвал картину из рук служки.
Приходилось импровизировать на ходу. С картиной под мышкой он направился к воротам папского дворца. Не потому, что так хотел ангел греха, нет, не потому. Пусть все видят, как, заботясь о благочестии паствы, священник спешит оценить качество изображения у людей знающих и облеченных доверием самого Папы Римского. Не секрет, что мастерская городского архитектора расположена во дворце.
Он дернул веревку колокольчика, и стражник, открыв калитку, впустил его.
На лестнице священник столкнулся с десятником, руководившим строительными работами. Тот стоял, прислонясь к стене, и плакал. Мокрые щеки, нос красный, волосы всклокочены. Десятник посмотрел на падре и по-детски всхлипнул.
– В чем твое горе? – мягко спросил священник.
– Вот записка для маэстро Росселино, – невнятно выдавил из себя десятник невпопад и протянул запечатанный конверт. – Хорошо, что мы встретились, святой отец. Сам я не в силах отдать письмо маэстро. – И он поперхнулся слезами.
– Расскажи, что случилось, тебе сразу станет легче, – настаивал падре.
– Приказано приступить к строительству тюрьмы. Боюсь, что мы возведем узилище для самих же себя. Тюрьма предназначается нам.
– Нам? – дрожащим голосом переспросил перепугавшийся священник.
– Маэстро истратил гораздо больше денег, чем было дозволено. Это уже само по себе плохо. А если припомнить, как жители Сиены ненавидят нас, флорентийцев, да прибавить, что в стенах есть трещины, то сомнений в грядущем не остается: застенок и петля. Здешние только повода и ждут.
– Какие трещины? – недоуменно осведомился падре, слегка успокоившись: он ведь не флорентиец.
– Раньше или позже церковь рухнет. – Десятник закрыл лицо руками. – Не передаст ли святой отец письмо господину Бернардо? У меня на душе кошки скребут. Маэстро слишком благороден, чтобы спастись, а я не могу спокойно наблюдать, как он идет к гибели.
Десятник всучил-таки приходскому священнику конверт и кинулся вниз по лестнице.
Как это – «церковь рухнет»? Что он имеет в виду? Надо прочесть письмо. Несомненно, десятник измучен тайным грехом и хочет покаяться, но боится напрямую обратиться к Господу. Вот и решил, так сказать, обратиться к Всевышнему через третьи руки. Но при чем тут архитектор? Куда естественнее, если посредником между землей и небом станет служитель Божий. Так распорядились сами небеса – иначе письмо не попало бы в руки падре. Господь руководит всеми в больших и малых делах и направляет наши стопы по верному пути. Не будем же ему противиться.
Священник вошел в боковые покои, где никто не мог помешать, и взломал печать на конверте.
Вот оно что! Десятник предлагает архитектору обмануть Папу Римского. Скрыть тот факт, что через фронтальную стену храма идут трещины. Предать доверенность Пия Второго. Теперь невольным свидетелем тайного умысла стал и падре. Перед его внутренним взором возникло горестное видение: троих ведут по городу к новой тюрьме. Десятник, Бернардо Росселино и приходской священник. Вся троица – в ручных кандалах.
«Третий – лишний! – безмолвно возопил он. – У меня и в мыслях не было предавать наместника Божьего! Я не Иуда! Я не совершал содомского греха, я сумел устоять, хоть и имел соблазн. За это не бросают в тюрьму!»
Ему нечего страшиться. Никого нельзя осудить за грезы.
Стоило только мысленно произнести: «грезы», как по всему телу разлилось тепло и детородный орган напружинился.
Он собрался с мыслями и внимательно перечитал письмо. Десятник убедительно советовал архитектору утаить от Папы Римского угрожающее положение вещей. А ведь все помнят, что, когда трещины обнаружились в первый раз, еще в начале строительства, этот Росселино только отмахнулся: мол, пустяки, случайность, преходящие обстоятельства. И убедил в своей правоте Пия Второго.
Нет, флорентийцам нельзя доверять.
А совесть падре чиста. Вскрывать чужие письма дурно, но если их содержание вопиет о предательстве, то в высшей степени необходимо. Маэстро Росселино попался.
Ощущение собственной значимости пьянило приходского священника. Архитектор допустил ошибку в расчетах! Кто будет виноват, когда церковь рассыплется, как карточный домик, круша камнями правого и виноватого? Росселино! А ведь знающие люди его предупреждали: под фундаментом храма течет подземная река. И вообще в здешних местах большие здания нельзя строить на склоне – может случиться оползень, и пиши пропало. Такая уж тут зыбкая земля.
Самоуверенный господин Бернардо отвечал: забьем сваи! поставим арочные перекрытия! укрепим фундамент! Трещины пошли не от ошибки в проекте, а от нерадивости каменщиков! Больше такого не случится, Ваше Святейшество!
Кто видел, тот помнит. На Амиате рубили под сваи деревья – высоченные, с башню величиной. Арочные перекрытия поставили. Фундамент укрепили. Ушли ватиканские денежки. И, как теперь становится ясным, кошке под задние ножки. Ошибся маэстро Росселино. Письмо десятника доказывает это как дважды два.
«Церковь оседает, – значилось в нем среди прочего, – трещины появились вновь. Их тщательно замазали, и никому, кроме меня и рабочих, об этом покуда не известно. Сиюминутной угрозы нет, но насколько тяжкими будут последствия, покажет время. Я молю Бога ниспослать нам спасительное землетрясение, на которое списались бы всеогрехи и несчастья. Проклятая почва! Во Флоренции она совсем другая. Мы понапрасну вырубили лес.Мы увязли в этой глине».
И под конец: «Лилль бы своды не обрушились, когда Папа Римский будет освящать церковь. Преданный Вам…»
Понятно, почему десятник искал кого-нибудь для передачи письма. Оно – вроде нижайшей просьбы: «Арестуйте меня, пожалуйста!»
Еще недавно, стоя на кафедре, падре сомневался в собственных силах и возможностях. Глаза молчаливой паствы, казалось, осуждали его, и он готов был принять безмолвное обвинение. Теперь – иное дело. Вместе с письмом он получил власть.
Приходской священник положил конверт в потайной карман внутри сутаны и твердым шагом поднялся по ступеням к двери мастерской маэстро Росселино.
* * *
– Богохульство и попрание канонов, не правда ли? – сказал священник архитектору, внимательно разглядывавшему картину.
Сам падре с любопытством озирался по сторонам, словно очутился в какой-то ином мире. Шелковые драпировки, скульптуры, эскизы, карандашные чертежи.
– Я думаю не так, – ответил Росселино, поправляя бархатный берет, – я думаю, что Его Святейшество высоко оценит работу и найдет для нее место в церкви. Можете сообщить об этом художнику.
Священник был смущен. Реакция Росселино оказалась для него неожиданной. Некие силы пожелали, чтобы архитектор первым из властных лиц увидел картину. Он, падре, стал орудием в руках этих сил. Богомерзкое изображение привело маэстро в восторг. Неужели ангел греха берет верх? Кто победит в сражении Господа и сатаны? Кажется, пришла пора поведать всем и каждому, подумал падре, как образ святой Агаты оказался у него. И тут же одернул себя. Положим, он признается, что ангел греха, явившись под видом женщины в одеянии с красной оторочкой, велел ему отнести картину к маэстро Росселино. А ему скажут: смелое признание! Приходской священник, слепо исполняющий приказы антихриста, пастырь, чуть было не окропивший святой водой безбожное воплощение плотских вожделений, станет притчей во языцех. Тому не бывать!
А тут еще, не дай Бог, пастух проболтается. Тогда падре вполне могут заподозрить в связях с дьяволом.
В глубоком раздумье он смотрел на Росселино. Вот человек, который думает, что ухватил судьбу за хвост. Господин Бернардо во исполнение воли Папы Римского превратил Корсиньяно в жемчужину из жемчужин. Пройдут века, а при упоминании Пия Второго как эхо будет слышаться: «Росселино». И наоборот. Завидная перспектива. Да только не знает маэстро, в чьих руках находится его будущее. Письмо-то – вот оно! Скоро, очень скоро Росселино придется выторговывать свою честь и самою жизнь и у него, бедного приходского священника, который в одночасье может превратить славу в позор!
Архитектор подошел с картиной к окну, чтобы получше рассмотреть ее в лучах света. Падре промолвил ему в спину:
– Знайте: вы разглядываете творение дьявола. Не советую показывать его Папе Римскому Ладно уж, открою правду, только обещайте сохранить ее: ко мне явился ангел греха под видом женщины в одеянии с красной оторочкой, настоящий тирренский пурпур, уверяю вас и вручил эту картину. Но меня не проведешь. Господь не тратит драгоценную краску на ангелов, лишь дьявол может быть столь расточителен и легкомыслен.
– Хорошо ли вы себя чувствуете, святой отец? – улыбнулся Росселино. – Не переусердствовали ли с вином на доброй трапезе? Полно чудачить. Картины создаются без ангелов. А это прекрасный алтарный образ, несомненно, флорентийской школы. Мученица действительно мучается, вы только поглядите. Палач и жертва. Сколько жизни в этом полотне!
Росселино отошел на несколько шагов, издали любуясь залитой солнцем картиной.
– На заднем плане глинистые овраги, – пробормотал он, – стало быть, художник работал здесь.
Погрузившись в созерцание, маэстро, казалось, забыл о присутствии священника. Чтобы напомнить о себе, тот несколько раз кашлянул. Росселино никак не отреагировал.
«Ужо будут тебе глинистые овраги, – мстительно подумал падре, – ты еще и ведать не ведаешь, до какой степени жизнь может зависеть от нашей зыбкой почвы!»
Росселино отрешенно прикоснулся подушечками пальцев к грудям святой Агаты, белым, как слоновая кость. Только он это сделал, как соски из розовых стали красными, потом бордовыми.
– Дьявольское наваждение! – возопил священник. – Теперь-то вы убедились?
– Какой мастер! – с восхищением прошептал Росселино. – Чудо!
– Сей мастер – сатана, – не унимался падре, – и это не чудо, а предвестие чумы, которую Господь обрушит на Сиену за наши тяжкие прегрешения!
Росселино нахмурился. Кажется, и до него дошло, подумал священник. Нас ждет расплата за содомские вожделения. Надо с корнем вырвать все свидетельства о них, и тогда пастуху никто не поверит, что бы он ни болтал. Вслух падре произнес:
– Сожгите картину, маэстро, а не то Сиену сожжет чума!
– Не всегда то, что превыше нашего разумения, имеет дьявольскую природу, как это кажется воинам святой инквизиции, – задумчиво молвил Росселино.
С чего это он завел речь про инквизицию? Осторожность и еще раз осторожность! Никогда нельзя быть уверенным в том, что слугу Божьего не захотят представить пособником сатаны. Тем более сейчас, когда люди взбудоражены предстоящим приездом Папы Римского. Показательное аутодафе в такие дни многим представляется более чем уместным. В этом есть свой резон. Тот, кто смотрит на пылающего еретика, как бы проходит через обряд очищения. Уж кому, как не падре, об этом знать! Но пусть лучше сожгут картину, а не его. Иначе епископом ему не бывать.
Или над ним просто смеются? Архитектор повернулся к священнику и выжидательно посмотрел на него, словно хотел услышать ответ, хотя никакого вопроса не задавал. Падре молчал. Маэстро все-таки снизошел до вопроса:
– Если я вас правильно понял, святой отец, картину принесла какая-то женщина?
– За ее вуалью скрывалось дьявольское обличье, – как можно убедительней повторил священник и приблизил губы к уху архитектора. – Эта картина богопротивна. Она может соблазнить кого угодно. Ведь и вам первым делом захотелось потрогать обнаженную грудь! Что уж тут говорить о прихожанах! Не показывайте срамное изображение Папе, оно больше подходит не для алтаря, а для публичного сожжения. Только так и следует поступить.
Росселино бросил взгляд на картину и тут же обратил его к священнику:
– Уж не сами ли вы написали святую Агату, падре?
– При чем тут я? И как только такое может прийти в голову? Хотя… – священник опустил глаза. – Прихожане тоже склонны подозревать меня во всяческих слабостях. Не слушайте их, люди болтают попусту.
– Что вы имеете в виду? – удивился архитектор.
– Ничего, – смутился падре и покраснел. – Всего лишь стараюсь оградить вас от злонамеренных слухов.
Наступило молчание. Священник, раздосадованный собственной неосторожностью, уставился в пол. Росселино вновь смотрел на картину.
– Образ святой Агаты, – уверенно вынес он окончательный приговор, – следует освятить и поместить в алтаре. На мой взгляд, картина того достойна. Скажите все-таки, кто ее автор?
Священник вспыхнул. В глазах у него потемнело от гнева.
– Неужели сказанного недостаточно? Да и неважно, кто автор. Важно, что если я не осужу неподобающее изображение должным образом, меня лишат прихода – и правильно сделают. Церковь не одобряет нарушения канонов. Надеюсь, это для вас не секрет.
– Сейчас для меня секрет – имя мастера, написавшего алтарную картину. Напрасно вы пытаетесь его скрыть.
Священник молчал, плотно сжав дрожащие губы.
– Что ж, думаю, перед лицом кардиналов вы станете разговорчивей.
Росселино приоткрыл дверь и велел одному из подмастерьев позвать кого-нибудь из монахов, чтобы отнести картину в парадную часть дворца.
От ненависти священника обдало холодом. Мысли его необыкновенно прояснились.
«И минуты не пройдет, как все твое высокомерие испарится, – подумал он. – Твоя гордыня неуместна, ибо репутация безупречного маэстро в моих руках. Ты был свободен и обладал властью – хватит!» Он достал из-под сутаны конверт и молча подал его Росселино.
– Я подожду за дверью, покуда вы прочтете. Потом заберу картину и сожгу.
Он еще не успел выйти, когда архитектор воскликнул:
– Стойте! Печать на конверте сорвана!
– Разумеется. Тот, кто написал письмо, просил меня об этом. Своего рода исповедь, знаете ли.
Взявшись за ручку двери, падре обернулся к Росселино и промолвил тоном, вовсе не похожим на мольбу:
– Если вы, паче чаяния, и прочтя письмо не соблаговолите отдать мне богохульный образ длясожжения, извольте сообщить всем заинтересованным лицам, что картину подбросили в ризницу неизвестные. Не упоминайте о посетившем меня ангеле: разглашение этих сугубо конфиденциальных сведений может породить в простонародье непристойные фантазии. Не доставляйте мне неприятностей, тогда и я не сделаю подобного с вами, – священник слегка задохнулся от длинной тирады и собственной смелости. Оставалось только поставить последнюю точку. Он выровнял дыхание и отпечатал: – Следуйте этому указанию. В противном случае мне придется огласить правду о вашем предательстве по отношению к Святому Престолу!
Неужели это он говорит так грозно и гладко? Вот это слог! Вот это решимость! Сердце так сильно колотилось в груди, что падре едва расслышал ответные слова архитектора:
– Вы забываетесь, святой отец. Ступайте прочь и не попадайтесь мне на глаза.
«Скоро твоему леденящему спокойствию придет конец, маэстро, – думал священник, застыв у двери. – Ты еще ходить в любимцах Пия Второго, тебе пока доверяют. Недолго осталось. Читай, читай, гнусный обманщик!»
Падре наблюдал, как от строчки к строчке у Росселино меняется выражение лица. Побледнел. Кажется, колени задрожали. В комнату вошли два монаха, прикрыли полотном стоящую у окна картину и молча понесли ее прочь.
Священник громко кашлянул, чтобы Росселино оторвался от письма и успел остановить их. Но тот стоял как громом пораженный. Взгляд устремлен куда-то вдаль, листки бумаги в руке колышутся, словно на ветру.
– Слишком поздно, – прошептал падре.
Монахи с картиной направились в парадные покои дворца. Где-то там кардиналы утоляли голод зайчатиной. Что это именно зайчатина, падре определил по доносившемуся запаху. Святая Агата ушла из-под власти приходского священника.
* * *
Андрополус нежился на кровати, застеленной свежими простынями. Сквозь щели закрытых ставней в комнату просачивались солнечные лучи и звуки тихого разговора, который вели Анна и Лоренцо, прохаживаясь по выложенной камнем садовой дорожке. Речь шла о том, как картина оказалась у священника. Кондотьер, только что вернувшийся из Баньо-ди-Виньони, где Пий Второй принимал целебные ванны, был обеспокоен до крайности.
– Падре не разглядел моего лица под вуалью, – успокаивала мужа Анна, – он вообще принял меня за какое-то видение.
Андрополус хотел услышать о другом. О том, что баронесса разрешила ему жить в господском доме. Как это воспримет ее муж? Голоса удалились от окна, слова стали едва разборчивы.








