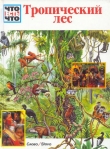Текст книги "Подвиг жизни шевалье де Ламарка"
Автор книги: Вера Корсунская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц)
ГЛАВА II
В КОРОЛЕВСКОМ САДУ

Конторщик г. Буля
Ламарк остановился у стола старшего бухгалтера. Если бы тот ничего не сказал молодому человеку, все равно он стоял бы перед ним с таким же виноватым видом, глубоко уверенный, что, конечно, опять напутал в этих длинных столбцах цифр.
Нет, с цифрами он совершенно не в ладах!
Как и все другие служащие бюро парижского банкира г. Буля, Ламарк просиживал с утра до вечера над толстой бухгалтерской книгой, но, кроме беспорядка, ничего не мог внести в нее.
Год тому назад, устав от тщетных поисков заработка Ламарк с радостью занял высокий стул перед конторкой которую ему указали, но быстро понял, что сел не на свое место. С каждым днем он все более и более убеждался, что должен переменить занятие.
Откровенно говоря, эта мысль мешала ему сосредоточить внимание на рядах цифр. Они начинали двоиться в его глазах, потом прыгали с места на место, как живые. Чернильная капля падала с конца пера и расплывалась в большую кляксу. В испуге Ламарк присыпал ее песком; холодный пот проступал на лбу, но страница была испорчена – невозможное событие в бухгалтерской книге.

И сколько таких бед случилось с бедным отставным поручиком за год! Два опытных бухгалтера потом еле-еле восстановили порядок в книгах, которые он вел.
Под вечер Ламарк спешил из конторы, находившейся на правом берегу Сены, к себе, на левый берег. Здесь, в одной из маленьких улочек Латинского квартала, этого настоящего городка ученых и студентов, он снимал за небольшую плату жалкую получердачную комнатку – мансарду.
Тогда в Париже не было грандиозных, прямых, широких и длинных улиц – авеню, обсаженных с обеих сторон прекрасно содержащимися деревьями. Не было и бульваров, которые так любят французы, больших бульваров, протянувшихся, словно гигантские щупальца, с одной стороны к Елисейским полям, а с другой – к площади Республики.
Сколькими старинными зданиями пришлось пожертвовать парижанам, чтобы сделать парижские улицы такими, какие они теперь!
В то время еще сохранялась значительная часть средневековых стен, рвов, бастионов. На месте них полвека спустя парижане создали великолепные бульвары.
Ламарк должен был очень быстро идти, почти бежать, стараясь попасть домой до наступления полной темноты, в которой рискуешь сломать себе ноги. Улицы Парижа тогда не мостились, тротуаров также не устраивали. Там же, где встречалась мостовая, она была с такими рытвинами, что лучше бы ее вовсе не было.
Улицы освещались плохо. Одинокие масляные лампы, прикрепленные к дверям домов, зажигались обычно в те дни, когда не было луны. Поэтому «если луна не принимала на себя обязанности освещать дорогу», то идти по темным, а зимой вдобавок и скользким, улицам было очень трудно.
И все-таки Париж – столица – освещался куда лучше, чем другие французские города. В Тулузе, Безансоне, Орлеане только некоторые улицы получили освещение в шестидесятых годах, а в Марселе – в восьмидесятых годах.
Иногда темноту прорезывал луч факела, с которым шел предусмотрительный пешеход, неся его сам или послав с ним впереди себя мальчика-слугу. Но хождение с факелами запрещалось, ввиду опасности пожаров, и вечером можно было пройти несколько улиц, не встретив светлого пятна.
Подчас в густом мраке раздавались, крики и ругательства: это повозка провалилась в яму и опрокинулась или на кого-то напали грабители.
Путешествие по парижским улицам в вечерние часы имело и еще одну неприятную сторону, о которой Фонвизин писал в 1777 году из Франции: «Везде в городах улицы так узки и так скверно содержатся, что дивиться надобно, как люди с пятью человеческими чувствами в такой нечистоте жить могут».
Действительно, в то время парижские улицы невероятно загрязнялись.
По существу говоря, если не считать тряпичников, главными санитарами служили ветер и дождь: первый развеет, второй – смоет, не сразу, разумеется, а постепенно.
Чтобы попасть в свое жилище, Ламарк отсчитывал более ста искривленных сбитых ступеней по темной лестнице.
Стол с книгами, стул, узкая кровать – вот и все имущество нашего героя.
Одежды и белья, кроме того, что было надето на нем, у него почти не имелось. Впрочем, он носил кружевные манжеты и шелковые чулки, которые, постоянно и крайне нуждаясь, вероятно, сам и стирал в водах Сены по утрам в воскресенье.
Это было в обычае бедняков; на берегу Сены часто видели людей, стиравших единственную рубаху и платок. Они развешивали эти вещи здесь же на солнце и, полунагие, ждали, пока их белье высохнет.
В мемуарах того времени мы читаем следующие любопытные строки: «Чиновники, музыканты, художники, поэты покупают сукно и даже кружева, но белья они не покупают. Таков парижанин. Парикмахер ему нужен ежедневно, но прачка является лишь раз в месяц. Парижанин с доходом менее 10 тысяч ливров обыкновенно не имеет ни постельного белья, ни столового, ни рубах; но зато у него есть часы, зеркала, шелковые чулки, кружева».
Ламарк имел пенсию в четыреста ливров да ничтожное жалованье конторщика, так что же удивительного, если он жил впроголодь на пустом чердаке.
В немногие свободные часы он стоял у открытого окна своей мансарды, любуясь открывающимся видом. Вдали зеленели прямоугольники парков, высились громады церквей, внизу расстилалось море старых закопченных черепичных крыш. Сверху казалось, что по морю бегут волны, проткнутые черными прямыми линиями, – бесчисленными трубами домов.
Вечерами от заходящих лучей солнца в окнах верхних этажей вспыхивал пожар. Жан Батист любил смотреть, как солнце по очереди пылало в стеклах домов.
Когда же закатное пламя гасло и внизу становилось мрачно, Жану больше не хотелось смотреть на дома, на улицу. Он устремлял взор в небо. Оно синело, становясь бездонно глубоким, загорались звезды. Слабым светом мерцал Млечный Путь…
«Что там, в вышине небес? – думал Ламарк. – Какую силу дает атмосфере луна?»
Он следил, как плывет она среди облаков. Неужели пребывание ее на небе бесплодно?
Стихал вечерний шум на улицах… наступала ночь, а Жан не мог отвести взгляда от звезд.
«Что движет небесные светила?»
Но вот набегает тяжелая черная туча, задергивая луну и звезды. Небо чернеет. Непроглядную тьму разрезают зигзаги молнии. Под ударами грома сотрясается жалкая мансарда. Потоки внезапно хлынувшего ливня изливаются на город.
Под раскаты грома над Парижем Ламарку вспоминаются провансальские грозы и ливни.
«Отчего бывают грозы? Что происходит с воздушными течениями над сушей и морем?»
Струи дождя стучат по старой крыше, в одном углу протекающей, и капли мерно ударяются о пол. В трубе воет и стонет ветер, где-то поблизости скрипит железный ставень. Порывом ветра захлопнет оконную раму, а Жан все стоит, прижавшись головой к косяку, поглощенный думой о том, что происходит в атмосфере во время грозы. Наконец, усталый, он ложится на жесткий тюфяк и видит во сне, что провансальским мистралем он заперт в каком-то помещении, хочет и не может выйти из него!

Жан просыпается и не понимает, где он: в крепости, там в Провансе, или в Париже.
Наяву он часто вспоминает о черном борее, сравнивая его с мягкими западными морскими ветрами Парижа. В мыслях он следит за горячим воздухом, быстро поднимающимся вверх над знойными средиземноморскими берегами, место которого занимает холодный воздух с гор. Ламарк мысленно видел этот быстрый вертикальный круговорот воздушных слоев – зарождение беспощадного мистраля. Он понимал теперь причину, по которой ночами мистраль стихал: ночной порой охлаждалось побережье. Наоборот, чем резче разница в температуре обоих атмосферных слоев, тем яростнее становился «владыка».
Утренние лучи солнца озаряют один только угол мансарды, но и этого достаточно, чтобы молодой человек тотчас вскочил и подошел к окну. Нежное кружево перистых облачков вызывает в нем чувство тихого восторга. Он никогда не уходит из комнаты, не бросив взгляда на клочок неба, видимый из его окна.
По собственному выражению Ламарка, он жил тогда более высоко, чем ему хотелось. Но изо дня в день он мог наблюдать за направлением ветров, скоростью движения облаков, рисовать их причудливые форумы. Ради этого стоило жить на высоте ста ступеней над землей даже и в том случае, если бы его средства не были такими скудными.
Через год с конторой г. Буля было все покончено и надлежало искать какое-то новое занятие.
Грезы
День клонился к вечеру, но было еще жарко. На тропинке, пролегавшей через лесную опушку в Романвиле – одной из окрестностей Парижа, показался старый, худощавый, сильно сгорбленный человек. Он шел, энергично размахивая одной рукой и бережно придерживая другой пучок лесных растений.
Выйдя из леса, путник остановился, снял шляпу и расстегнул верхние пуговицы своего довольно поношенного камзола. Он стоял так, устремив взгляд куда-то вдаль. Легкий ветерок шевельнул его длинные седые волосы, поиграл кружевом манжет и замер в траве…
Зеленый луг, пестревший яркими цветками, прорезала серебряная лента ручья, затейливо извиваясь между кустами. Немолчно трещали кузнечики, радугой переливались крылья то и дело взлетавших стрекоз, где-то поблизости в лесу гудел бархатный шмель. В воздухе плыли густые волны аромата шиповника, горячей земли, звуки самых разнообразных голосов природы…
В стороне от тропинки темнел широкий пень. Путник отправился к нему, изредка оглядываясь, видимо в ожидании кого-то. Он тихо опустился на пень и стал рассматривать через лупу цветок, который держал в руке.
На тропинке показался молодой человек. Завидев его, путник проговорил, как бы обращаясь к подходившему:
– Прикованный прелестью картины, я начинаю растения рассматривать, наблюдать, сравнивать, учусь их классифицировать и таким образом становлюсь ботаником, просто в силу того, – проникновенный голос его возвысился почти до громкого, – что чувствую потребность изучать природу…
Молодой человек, поравнявшись со стариком, молча остановился в самой почтительной позе. Он что-то хотел сказать, но, поймав себя на этом желании, тотчас потушил его и безмолвно положил к ногам сидевшего книгу в колоном переплете с застежками и большой букет. Взглядом, преисполненным восхищения, он смотрел на старика.
Тот, словно не ожидая и не нуждаясь в ответе, медленно проговорил:
– …чтобы безостановочно открывать новые причины любить ее.
– O Maître,[1]1
Maître – учитель, хозяин, господин (франц.).
[Закрыть] – с жаром произнес молодой человек.
На вид ему было лет тридцать; скромный костюм, манера держаться по отношению к тому, кого он назвал «мэтром», гербарная папка, лупа позволяли угадать в нем студента.
Лицо его горело сильным воодушевлением, и весь он был само благоговение и внимание к старику.
Опустившись на землю, молодой человек раскрыл гербарную папку и принялся раскладывать между листами бумаги растения. Ловкие, быстрые движения его тонких пальцев, расправлявших лепестки цветка, выдавали большую сноровку и любовь к этому занятию.
Иногда они оба брали в руки книгу и искали в ней нужные сведения. Это был том Линнея.
Изредка обменивались они между собой двумя – тремя словами и снова умолкали, всецело поглощенные растениями.
Наконец старший из них подал знак, что хочет подняться. Молодой человек вскочил на ноги и помог ему встать, потом молча подал палку, и они пошли по тропинке, ведущей к дороге на Париж.
Молодой человек, ловкость движений, стройная фигура и энергичная походка которого выдавали бывшего военного, предупредительно придерживал по пути ветви деревьев и кустарника, оберегая от них своего старшего спутника. Он указывал ему на корни, местами сплетавшиеся на тропинке в замысловатые петли, чтобы тот не споткнулся о них.
– Я не в таком положении, чтобы снова покупать ботанические книги; поэтому я решил списывать те, которые мне одолжают, и составить себе гербарий еще богаче, чем прежний, в который войдут все растения моря и Альп и все деревья обеих Индий, – говорил старик.
Огонь загорелся в его глазах, глубокие морщины на лбу и нахмуренные брови расправились. Он шел, твердо ступая старыми ногами, не ощущая в них болей, которыми уже много лет страдал.
Он выпрямился и ускорил шаг, как будто видел перед собой все эти растения и спешил их собрать. Но возбуждение быстро прошло, он опять сильно сгорбился и казался теперь еще ниже.
С тихой иронией над самим собой, над этим только что испытанным возбуждением и наступившей вялостью, старик сказал:
– Пока же я попытаю счастья с куриной слепотой, огуречником, кервелем и крестовником.
Кривые морщины, шедшие у него от ноздрей к углам рта, стали еще резче. Впалые глаза выражали глубокую меланхолию. Он шел теперь усталой медленной походкой, еле передвигая ноги.
Молодой человек ничего не отвечал. Видно было, что они привыкли к такому общению друг с другом, когда говорил один из них – старший, а младший молчал, всей душой проникаясь сочувствием к его словам.
Они привыкли проводить долгие часы прогулок в совершенном молчании и понимать один другого с полуслова. Такие своеобразные отношения не тяготили их. Старший чувствовал себя наедине с самим собой и в то же время ощущал открытую перед ним восхищенную молодую душу. И в лучах этого восторга, этой преданности он отогревал свое стынущее сердце…
Младшему же чудилось, что он стоял на пороге святилища, тайны которого ему открывал старый мудрый жрец…
Старец говорил о красоте природы и наслаждении, доставляемом человеку тихим журчаньем ручейка, прохладной тенью лесов, зелеными лужайками, пеньем птиц.
Лежа на траве и полузакрыв глаза, он предавался воспоминаниям о проделанных им когда-то путешествиях…
Долина Роны. Как она знакома ему, начиная от Лиона до Прованса. А Англия с ее холмами и долинами… Швейцария… Кистью настоящего художника он рисовал картины Женевского озера с причудливой игрой окраски его вод, от нежнейшего голубого цвета до темно-синего.
Длинными тонкими пальцами, дрожащими от волнения и старости, он перебирал листы гербарной папки и говорил о великом назначении гербария.
– Мне достаточно раскрыть гербарий, и все вновь передо мной. Все впечатления различных местностей я уносил с собой б гербариях…
Иногда он вспоминал о своем спутнике, начинал расспрашивать, с удовольствием слушал его рассказы. Молодой человек рассказывал, как несколько лет тому назад он жил на побережье Средиземного моря, на лазурном берегу, как поднимался в горы, собирал растения.
Но старик быстро терял внимание, взор его становился блуждающим, мысль улетала куда-то, и молодой человек умолкал…
Путники вышли на дорогу, ведущую в Париж. По сторонам тянулись виноградники и луга. Доносилось мычанье коров и блеянье овец. Потянуло вечерней прохладой.
– Прежде я много и глубоко думал, но процесс мышления являлся для меня тяжелым и безотрадным напряжением, думы утомляли меня и нагоняли грусть; я оставил их, чтобы не бередить своих страданий, – сказал мэтр, обернувшись к молодому человеку, шедшему чуть-чуть позади. Брови говорившего сдвинулись, лицо стало мрачным. Некоторое время оба шли молча. Потом старик снова заговорил:
– Мечтания освежают и веселят мою душу; она парит на крыльях фантазии по всей вселенной в невыразимом восторге, с которым ничто не может сравниться, и, в блаженном упоении, тонет в гармонии чудной мировой системы. Частности ускользают от нее, ей дано высшее блаженство: сливаться, чувствовать себя заодно с природой. Снова охотно покоится взор на пленительных впечатлениях окрестности; вокруг цветы, свежие ручьи, прохладная тень лесов, зелень дерев.
Почти стемнело. Они шли по улицам затихавшего под вечер города – старый, сильно сгорбленный человек с усталым лицом и его молодой, полный сил и надежд спутник.

Как и там, в лесу, он бережно поддерживал старика, внимательно обходя выбоины и ямы. В то же время он приглядывался к подъездам домов, портикам часовен, прислушиваясь, словно чего-то опасался. Они задержались в лесу, и молодого человека это явно беспокоило.
В те времена вечерами, а тем более ночью, ходить по неосвещенным парижским улицам было совсем небезопасно. Улицы казались безлюдными, но это только казалось. В темных углах, узких переулках, на лестницах иногда слышался подозрительный шорох, шепот, тогда молодой человек быстро менял направление, уводя доверившегося ему товарища в другую сторону.
То могли быть нищие, бродяги. Они скрывались в разрушенных домах, остатках бастионов и рвов, под портиками церквей.
В молодом ботанике читатель, вероятно, уже узнал Жана Батиста Ламарка, – теперь студента-медика. В те времена врач нередко сам собирал и засушивал лекарственные растения, даже готовил лекарства, а поэтому студенты-медики должны были хорошо изучить ботанику.
Кто же был его спутник, чьим грезам и размышлениям во время прогулок он так благоговейно и жадно внимал?
Гражданин Женевы
Это был философ, писатель и ботаник Жан Жак Руссо.
С Ламарком его свела любовь к растениям. Познакомились они в 1774 году, случайно встретившись в окрестностях Парижа, где тот и другой любили бродить, собирая гербарий.
Руссо, по происхождению француз, родился в швейцарском городе Женеве.
Чувствительный по натуре, увлекающийся, еще ребенком он страстно полюбил природу; восхитительные ландшафты Женевского озера располагали к тому как нельзя лучше.
Очень рано проявилась у него и другая черта – склонность к размышлениям. Забывая о крове и пище, юноша уходил бродить по окрестностям, мечтать в уединении. Он рано столкнулся с несправедливостью, жестокостью и неравенством среди людей. Уже в детстве он узнал, что значит быть бедняком. В самой ранней юности его подвергал жестоким истязаниям гравер, к которому Жан был отдан в учение, и в шестнадцать лет он убежал от хозяина.
Многое пришлось ему пережить, пока он не попал в один дом, хозяйка которого вела торговлю различными лекарственными растениями. Она и ее помощник познакомили Жана со своим делом, став его первыми наставниками в ботанике.
Жан Жак любил красоту природы; его привлекали лужайки, освещенные солнцем, лунный свет, дрожащий на глади озера, свежая зелень лесов и полей, пение птиц и аромат роз. А его заставляли выкапывать корни растений, сушить их и толочь в ступке, собирать травы да еще пробовать приготовленные из них лекарства. Нет, такая ботаника была ему отвратительна!
«В то время я, не имея никаких понятий в ботанике, питал к ней презрение и даже отвращение. Я смотрел на нее как на аптекарское занятие», – вспоминал позднее Руссо.
Все же, преданный своей хозяйке, Жан Жак по обязанности многое узнал о растениях. Больше того, в ее доме он услышал впервые о ботанических садах, о различных флорах, о пользе растений и многом другом из области ботаники, что развивало его молодой ум.
Руссо очень много читал. Философскую книгу сменял труд по физиологии, потом приходил черед какой-либо поэме; с огромным увлечением он играл на шпинете (предшественник роялей). И, наконец, двадцати девяти лет, переселился в Париж, где началась его литературная и общественная деятельность. В первых же литературных работах Руссо напал на современное ему общество, его испорченность, лживость и неравенство.
«Разве общество не отдает все преимущества богатым и сильным мира сего? Разве не они заняли все выгодные места? Не они ли присвоили себе все привилегии, преимущества, и не для них ли делаются всевозможные исключения? Им даром сыпятся все блага мира только за то, что они богаты. Не так живут бедняки! Чем печальнее, безотраднее их положение, чем больше они нуждаются в сострадании, тем больше общество отворачивается от них. Если нужны рекруты, матросы, толпой собирают бедняков. На них сваливают все тяжести, все то, от чего избавлен богатый сосед».
Всю накипевшую горечь, все негодование на сильных мира с блестящим красноречием он изливал в своих произведениях.
«Я тогда возненавидел народных притеснителей, и эта ненависть все растет в моей груди: я понял народные страдания», – говорил Руссо.
Налоги и всевозможные подати возросли в то время во Франции неимоверно. Крестьяне платили различные акцизы, налог на соль, 1/10 часть дохода – десятинный налог, таможенную пошлину, землевладельцам, винный налог, подушную подать и другие. Четверть года им приходилось работать на казну на больших дорогах, чтобы выровнять путь для карет богачей. Стаи барских голубей истребляли крестьянское зерно; барские охотники ломали заборы и топтали огороды. У крестьянина отрывали последнего сына и тащили его в солдаты. Скот почти весь перевелся, отощал и исхудал, как и сами хозяева его. Жалкие орудия были поломаны; поля еле вспаханы и плохо унавожены. Виноградники одичали. В ветхих хижинах без окон не было никакой мебели.

Деревни пустели, необработанные и незасеянные поля становились пустырями.
Ни король, ни дворянство не беспокоились о народе. В роковой близорукости они не видели, что в народе накапливается горючий материал и, доведенный до полного отчаяния, он решится на бунт, на восстание.
Зато дворянство утопало в роскоши, получая привилегии от короля.
Король Людовик XV народные деньги раздавал на пенсии и различные субсидии своим любимцам.
Руссо громко осуждал науку, искусство, литературу, театр, потому что в порочном обществе, по его мнению, они служат злу и испорченности нравов.
Надо создать другое общество, в котором исчезнут крайняя роскошь и нищета, в котором человек не будет волком другому и в котором не станет частной собственности, этого источника всякого горя и неравенства.
В новом обществе дети должны получать другое воспитание, в результате которого они вырастали бы не жадными и злыми себялюбцами, а гармонически развитыми, преданными и любящими членами общества, готовыми к светлому и чистому труду.
Руссо заговорил так смело об общественных основах и правительстве, как никто не говорил до него.
Да и время шло. Французский народ, устав от бед и несчастий, становился все смелее.
Во Франции пробудились народные силы. В литературе, начиная от острых памфлетов, толстых философских книг, кончая четверостишьями, которые распевались рабочим людом, подвергались осмеянию и осуждению король, дворянство, церковь – все, что было до сих пор святым, неприкасаемым.
Громче всех звучал голос Жан Жака Руссо.
Бурный и страстный, изящный по стилю, неумолимый в логике рассуждений, он был неотразим для народа. Слава, блеск, поклонение выпали на долю «гражданина Женевы», как называл себя Руссо.
Аристократы с любопытством прислушивались к идеям Руссо, таким новым и свежим. Даже церковь сначала его не трогала. Но вскоре знатное дворянство и церковь поняли, какая революционная сила, какая смертельная опасность, какой сокрушительный взрыв готовятся произведениями Руссо, и тогда начались преследования…
Сжигают книги Руссо в Париже, Женеве, Гааге. Ему грозит арест, он спасается бегством то в одну, то в другую страну.
Все темное, невежественное, что таится в народе, используется против него. Он проходит до улице, женщины и дети осыпают его камнями потому, что какой-то монах сказал им: «Этот человек – колдун, он испортит ваших детей».
Швейцарские женщины проклинают имя Руссо; они бьют окна в его доме и забрасывают камнями скромное убежище того, чье сердце открыто для простых людей: их восстановили против Руссо в церкви.
У Руссо остаются почитатели; среди них есть влиятельные люди, у них он, замученный и затравленный, находит приют.
Всегда нервный, беспокойный, много переживший, теперь гонимый и проклятый попами, он не выдерживает и заболевает манией преследования.
Под постоянным страхом изгнания, всегда возбужденный Руссо впадает в галлюцинации. Всюду чудятся ему враги, измена.
Он отталкивает от себя всех его любящих, к нему расположенных, прекращает переписку на ботанические темы, которая доставляла ему так недавно высокое наслаждение.
…Беспросветный мрак и отчаяние вдруг прорезает светлый луч, – любовь к растениям вспыхивает в нем с небывалой силой. Растения проливают целительный бальзам в измученную душу, проясняют разум, смущенный и затемненный болезнью, смягчают и успокаивают ожесточение против людей. Зеленые дубравы, нежный барвинок, аромат фиалки, – вот что может оградить его от когтей ненависти и мести.
– Пока я гербаризирую, я не несчастен, – говорит Руссо.
Страсть к растениям, начавшаяся еще с детского влечения к природе, ширится, растет, захватывая все существо Руссо.
Он живет только растениями; изучает, старательно собирает и сушит их. Друзья присылают гербарии. Тесное жилище его загромождается всевозможными картонками, ящиками, пакетами, коллекциями плодов и семян.
Отказывая себе в самом необходимом, Руссо покупает, книги по ботанике, дорогие гравюры с изображением растений, чтобы по ним узнавать в природе оригиналы.
Переезжая с места на место, Руссо не расставался с огромной кладью – гербариями и книгами. Он любил их, как величайшее сокровище, но этот груз при постоянных вынужденных переездах стеснял его все больше и больше: ему не на что было перевозить свой все возрастающий багаж.
Даже друзья над ним иронизировали:
– Сено стало единственной его пищей, ботаника – существенным занятием.
И в 1775 году под влиянием обостренной душевной болезни Руссо продал в Англию свой гербарий и книги.
Но как только он освободился от своего груза, так его охватила великая тоска по утраченному богатству. Скорбь больного и старого Руссо была неутешной, и опять только в милых сердцу растениях эта страстная кипучая натура нашла спасение.
«Шестидесяти пяти лет от роду, потеряв уже остаток слабой памяти, без сил, без руководителя, без книг, без сада, без гербария, чувствую вдруг прилив страсти к ботанике и даже более сильный, чем в первый раз», – пишет он о себе в это время.
Теперь он не может уже совершать дальние экскурсии, но существуют парки, сады в самом Париже, в окрестностях! Руссо вновь в природе за сбором своих любимцев – растений.
За этим занятием мы и застали его в обществе Жана Батиста Ламарка.
Они быстро подружились. Их сближали любовь к растениям и увлечение музыкой.
Руссо одно время даже сам сочинял произведения для клавесина. Ламарк играл на скрипке и флейте, у него был приятный бас, и студент-медик не раз подумывал, а не стать ли ему лучше артистом.
Их часто видели в окрестностях Парижа, то в Романвиле, то в Севре, занятыми ботаническими сборами. Они любили смотреть, как солнце садится за горой, пребывая почти всегда в полном безмолвии.
Руссо не выносил вопросов и разговоров во время прогулок. Молчание было условием для тех, кто хотел сопровождать его в экскурсиях.
Лишь немногим, умевшим молчать, Руссо давал согласие на совместную прогулку.

С этим человеком и свела судьба Ламарка, как раз тогда, когда он стоял на распутье, не зная, какой дорогою идти: ученого или артиста.
Это знакомство не могло пройти бесследно для молодого человека. Руссо своей пламенной и возвышенной страстью к природе затронул самые нежные струны в его душе.
Тесная дружба старого философа с молодым ботаником, их частые совместные прогулки, долгие беседы привязали их друг к другу.
Они вместе разбирали растения, и Руссо рассказывал, как лучше всего их засушить. Не случайно гербарии, составленные Ламарком, так живо напоминают гербарии его учителя.
Не подлежит сомнению, что Руссо оказал влияние на Ламарка и в другом отношении. Он первый посеял в душе его демократические идеи.
При той душевной близости, которая возникла между ними, невозможно и предположить, чтобы в часы долгих бесед Руссо не делился с молодым другом своими мыслями об общественном переустройстве.
Наконец, Ламарк читал произведения учителя, – разве мог он не заговорить с ним о них, не спросить его совета, разъяснения по неясным для него вопросам…