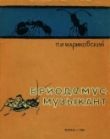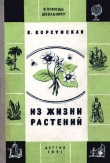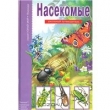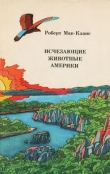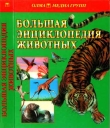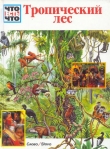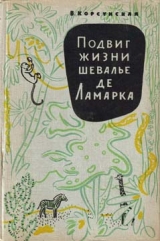
Текст книги "Подвиг жизни шевалье де Ламарка"
Автор книги: Вера Корсунская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 18 страниц)
Низшие животные также претерпевают изменения, но по-иному, чем высшие. У высших животных они наступают в такой последовательности:
1. Измененные условия существования при постоянном характере изменяют потребности животного.
2. Изменение потребностей ведет за собой новые действия у этих животных.
3. В результате упражнения или неупражнения животное одни органы употребляет чаще, чем другие. Наступает изменение органов.
4. Измененные действия обращаются в привычные и приводят либо к усилению органа, либо к его ослаблению и даже к исчезновению, если отсутствует упражнение.
5. При повторении наступивших в органах изменений, и если приобретенные изменения общи обоим родителям, такого рода изменения, повторяясь в ряде поколений, сохраняются в потомстве.
У низших животных, не обладающих нервной системой, изменения наступают прямо, непосредственно под влиянием внешней среды.
Раздражения внешней среды они воспринимают всем телом. Внутри его происходит перемещение жидкостей, в результате чего органы изменяются.
Растения отличаются от животных тем, что они, – думал Ламарк, – никогда не раздражаются, у них нет пищеварения, и они не движутся.
Вообще же Ламарк слишком в общих чертах представляет себе условия существования растений. Между тем, в его время Пристли, Сенебье, Соссюр своими опытами уже открыли процесс разложения углекислоты воздуха на свету зеленым растением. Многое было известно и о питании растений из почвы. По-видимому, ему не были известны эти работы, или недостаточно им оценивались, если он и был с ними знаком.
У растений при изменении условий питания, количества света, воздуха, влаги изменяются их органы. Кто не знает водяного лютика с его разной формы листьями, в зависимости от степени погружения их в воду. Подводные листья этого растения тонкие, волосовидно-разветвленные, а развивающиеся над водой – широкие, округлые, лопастные. Если же водяной лютик растет на влажной почве, но вне воды, то ни один из его листьев не разделяется на тонкие дольки.
Еще примеры приводит Ламарк.
Пусть семя какого-нибудь травянистого лугового растения попадет в возвышенную местность, на участок с каменистой почвой, где к тому же часто дуют ветры. Предположим, что оно все-таки произрастает здесь и будет расти в этих плохих условиях. Потом даст семена, из которых там же вырастут новые поколения. В конце концов образуется новая разновидность, отличающаяся от родоначальной – луговой. Это будут низкорослые растения с другой формой стебля и листьев.
Прямое влияние среды, и только его, признает Ламарк в отношении растений. Один вид растений перерождается в другой через ряд промежуточных форм, лучше и лучше приспосабливаясь к новой обстановке.
Таковы основные выводы Ламарка, выводы вполне материалистические.
Если бы Ламарк остановился только на влиянии среды на животных, не прибегая к своей схеме о потребностях – действиях, – привычке и прочем, – он избег бы многих нападок.
Дело в том, что он злоупотребил терминами, применимыми только к человеку, вроде «потребности», «привычки», «усилия». И получилось, что улитка ощущает потребность нарастить себе щупальца, гуси и лебеди – растянуть перепонки на ногах, а змея – потерять конечности.

Особенно высмеивали пример влияния образа жизни на строение тела жирафы.
Кто не видел в Зоологическом саду или хотя бы на картинке это животное, один вид которого вызывает улыбку из-за непомерно длинных передних ног и шеи. И таким стало оно, говорит Ламарк, потому, что постоянно вытягивало шею до листьев на деревьях, постоянно делало к тому усилия. Сколько нападок, насмешек, унижений выпало за это на долю Ламарка! Не давая себе труда ознакомиться с учением его во всей полноте, противники эволюционной идеи дали себе полную свободу в издевательствах по адресу старого ученого.

Правильно отметив влияние всемогущей среды при условии фактора времени, Ламарк не разглядел в историческом процессе образования видов самого важного звена, – естественного отбора.
Также как он не увидел в происхождении сортов культурных растений и пород домашних животных искусственного отбора.
Это сделал полвека спустя Дарвин. Он разъяснил, что процесс образования новых видов и приспособления к среде идет путем естественного отбора, то есть сохранения одних особей и вымирания других. Выживают более приспособленные к жизни в данных условиях особи, вымирают – менее приспособленные.
Естественный отбор творит новые виды.
О вымирании и выживании организмов говорил и Ламарк, но в другом свете.
У него есть указания на вытеснение и уничтожение слабых видов более сильными, но без всякой связи этой борьбы с появлением новых видов. Поэтому Ламарк понимает борьбу за существование совсем не так, как Дарвин.
Ламарк совершенно не связывал ее с учением о происхождении видов, считая «мудрой предосторожностью природы», чтобы ни один вид не вытеснял другой. «Благодаря этим мудрым предосторожностям природы… виды в основном сохраняются».
И напрасно некоторые ученые говорят, что у Ламарка мы найдем борьбу за существование между видами и якобы он в этом отношении раньше Дарвина подошел к естественному отбору.
Ламарк не дошел до естественного отбора и потому, что он не верил в полное вымирание видов. Он думал, что они просто истребляются человеком. Этим он еще раз хотел подтвердить факт эволюции. Такие рассуждения мешали выяснить действительные причины полного исчезновения многих систематических групп. Вымерли древние пресмыкающиеся, и напрасно стали бы искать теперь живого стегоцефала, археоптерикса или живых предков слона или лошади.
Полное вымирание – неопровержимый факт, который нельзя объяснить одним вмешательством человека уже по той причине, что многие виды вымерли задолго до появления человека. Только теория естественного отбора Дарвина дала объяснение исчезновению отдельных видов и даже более крупных систематических групп.
Что касается законов Ламарка, то один из них – об упражнении и неупражнении органов – не встречал и не встречает особых возражений. Фактов, подтверждающих его, каждый может привести сколько угодно.
Правда, дарвинист не назовет этот закон основной причиной эволюции, как считал его Ламарк. Для дарвиниста основной закон – отбор. Домашняя курица не взлетит выше забора не только потому, что поколения ее предков не имели надобности летать, но прежде всего потому, что попадавшихся среди кур хороших летунов человек скорее отправлял в суп, чем оставлял для потомства. Куры, хорошо летающие, его не интересовали. Вымя у молочного скота хорошо развивается дойкой, но ведь отбор и совершался по признаку молочности.
Другой же закон, о наследственных изменениях, вызванных меняющимися условиями, до сих пор – предмет ожесточенных споров в науке. Одни отрицают, что наследование приобретенных изменений происходит очень широко. Другие считают, что оно проявляется только тогда, когда изменение наблюдается у обоих родителей и закрепляется в ряде поколений, если при этом сохраняются условия, вызвавшие изменение.
Для Ламарка наследование приобретаемых признаков – это общая биологическая закономерность. Он не углубляется в вопрос о самом механизме передачи признаков по наследству.
Наследование приобретаемых признаков ученые наблюдали и отмечали задолго до Ламарка. Но только один Ламарк выдвигал это как общий закон, не предлагая, однако, никакой определенной теории наследственности и лишь отмечая самый факт наследственной передачи.
Законы наследственности еще и теперь далеко не во всем выяснены наукой и невозможно ставить в упрек Ламарку то, что он не смог объяснить их на пороге XVIII–XIX веков.
Есть ли ум у животных
«Эту вымышленную сущность, не имеющую себе образца в природе, я рассматриваю лишь как плод воображения, созданный для того, – говорит Ламарк, – чтобы разрешить затруднения, которые не могли быть устранены иным путем вследствие недостаточного изучения законов природы».
Речь идет о физическом теле и духовном уме, его «особой сущности», – как тогда говорили. Что они собою представляют: два разные, не зависящие друг от друга начала или они связаны единством происхождения?
Что такое ум человека, воля, психика его? Есть ли ум у животных? Что такое инстинкты? Этими вопросами занимается Ламарк все последние годы жизни.
К ним он пришел, последовательно развивая свое учение об эволюции животного мира. Перед ним возникла совершенно новая область, неизведанный край. Ученые изумлялись, восхищались совершенством созданий творца и славили его. Можно описывать поведение животных, их удивительные привычки и инстинкты, но каким методом их исследовать? Ведь нельзя же посмотреть, что делается в мозгу!
Мозг, ум – нечто особое, не поддающееся изучению, то, чему нет примера в природе, область, стоящая вне человеческого разумения, – таковы представления того времени.
Психическая жизнь животных интересует ученых, но как чудесное начало, дарованное свыше. В книгах пишут о «чудесах» в мире животных. Говорят о «виновнике» их – творце, благодаря которому все в природе есть разумение, искусство, мудрость, предусмотрение и цель. «На каждом шагу совершенство создания выказывает нам искусство художника».
Эти «чудеса» рассматривают независимо от условий и образа их жизни. Психическая деятельность животных описывается без всякой попытки исторически подойти к ней. Все повадки, инстинкты животного рисуются вечно неизменными, установленными раз навсегда.
Многие люди, неподдельно восхищаясь сложными целесообразными действиями животных, всегда предполагали, по крайней мере молчаливо, что всем этим действиям предшествует «обдумывание».
Разве, на первый взгляд, нет продуманной целесообразности в том, как ловит добычу муравьиный лев? Он роет в сыпучем песке ямку-ловушку и поджидает, пока мелкие насекомые не упадут на дно этой западни и не станут его жертвой. Но в действиях его нет ничего загадочного, подобно тому как лишены всякой таинственности движения устрицы, «которая для удовлетворения своих потребностей только и делает, что открывает и закрывает створки своей раковины».
Ламарк утверждает, что в их действиях нет никакой мысли или воображения. «До тех пор, пока не изменится организация этих животных, они всегда будут продолжать делать то, что делают теперь, и притом без всякого участия воли или разума».
Что касается беспозвоночных, то, по словам Ламарка, «…ни одно из этих животных не может произвольно видоизменять свои действия».
Только у птиц и млекопитающих, – говорит он, – наблюдается способность изменять привычные действия. Но и они, животные, обладающие органом ума, лишены воображения. Это происходит потому, что «у них мало потребностей, и потому они вносят мало изменений в свои действия и, следовательно, приобретают небольшое число представлений…»
Надо вспомнить, что эта попытка Ламарка проникнуть в происхождение и развитие сложных форм поведения животных была сделана задолго до учения об условных рефлексах.
Вопрос о поведении животных из области сверхъестественного и непознаваемого Ламарк сумел перенести в мир «физических причин», в котором и ищет объяснения. Прежде всего он правильно заметил связь степени общей организации животных с развитием нервной системы. Наиболее высокоорганизованные животные обладают и наивысшей пластичностью нервной системы.
Что касается «особой сущности» мозга и ума, то Ламарк высмеивал ее, найдя в своем богатом словаре полемиста отличное сравнение:
«Это нечто вроде всемирных катастроф, которые были придуманы для объяснения не понятных нам геологических вопросов».
«Весьма скоро я понял, – говорит Ламарк, – что умственная деятельность животных, подобно всем прочим, производимым ими актам, не что иное, как явление, вытекающее из организации животных…»
Уже одно это утверждение ставило Ламарка в особое положение среди всех тех, кто до него принимался за разрешение вопросов, связанных с мозгом и его работой.
Вот план, по которому Ламарк собирается открыть единство физического и духовного:
«Я покажу сначала путь, которым, по-видимому, природа пришла к созданию органов, – обусловливающих способность чувствовать, а при их посредстве – к созданию силы, порождающей действия; далее я раскрою, как, благодаря наличию особого органа ума, могли возникнуть у обладающих этим органом животных представления, мысли, суждения, память и т. д.».
Для Ламарка этот путь ясен: эволюционное развитие, постепенное совершенствование организации животного в целом.
Психические способности животного определяются развитием его нервной системы. Природа ничего не создавала сразу.
«Если верно, что природа ничего не делает внезапно и за один прием, то нетрудно понять, что для создания всех способностей, которые наблюдаются у всех совершенных животных, – она должна была последовательно создать все органы, обусловливающие эти способности…»
И Ламарк в силу своего эволюционного мировоззрения не может не добавить следующих замечательных заключений: «…и она действительно выполняла это на протяжении долгого времени и при помощи благоприятствующих этому обстоятельств».
Нервная система у животных могла возникнуть только естественным путем.
Когда-то на земле жили только низкоорганизованные животные. У них, – говорит Ламарк, – не было даже намеков на нервную систему.
Их действия были чрезвычайно бедны и примитивны, но все же целесообразны. А в чем причина этой целесообразности? В изменении напряжения их тканей и только.
Позднее появилась раздражимость, – думал Ламарк. Но это совсем не та чувствительность, которую он приписывает животным, обладающим нервной системой. При этом Ламарк неправильно полностью отделяет раздражимость от чувствительности у животных, как будто бы эти свойства ничего общего не имеют, как будто нет между ними переходных стадий.
На следующих ступенях животного мира стоят насекомые, паукообразные и ракообразные – у них имеются нервные узлы, то есть скопления нервного вещества в виде «продольного мозга», проходящего по всей длине их тела. Здесь уже возможны более разнообразные мускульные движения и некоторые ощущения. Насекомые, «по-видимому, в известной мере наделены памятью», – думает Ламарк.

Близки к ним и моллюски, у которых нет «продольного мозга». Они обладают расположенными довольно далеко друг от друга нервными узлами с отходящими от них нервными волокнами. Обладая примитивной нервной системой, моллюски способны производить лишь медленные движения.
Но вот позвоночные, с их высоко развитой нервной системой – спинным и головным мозгом.
У них наблюдаются не только целесообразные мускульные движения, но чувства, переживания, а с дальнейшим развитием мозговых полушарий – элементы представлений, памяти, воли, достигающие высокого развития у человека.
Млекопитающие и птицы – животные, имеющие полушария головного мозга – обладают и высоко развитыми инстинктами, памятью, способностью чувствовать. Им свойственны элементы воли. Но все же и у них преобладают инстинкты.
Животные с высоко развитой нервной системой также имеют, – говорит Ламарк, – чувство существования, которое он называет еще внутренним чувством.
«Оно составляет то „я“, которое у животных как бы разлито во всем их теле, но не осознается ими. Лишь животные, имеющие орган ума, наделенные способностью мыслить и уделять внимание этому чувству, могут отдавать себе в нем отчет».
Что же вызывает его?
Во всех чувствительных частях тела непрерывно рождаются какие-то неосознанные смутные ощущения, – результат, их и есть внутреннее чувство.
Оно возникает и по другой причине. Жажда, голод, боль, опасность и другие потребности организма возбуждают в нем внутреннее чувство, свободные части нервного флюида направляются к той или другой мышце или части полушарий головного мозга. Тогда «…оно становится мощной силой, способной вызывать действия и порождать мысли».
Ничего таинственного, мистического, близкого к понятию «душа» Ламарк не имел в виду под внутренним чувством, хотя это ему впоследствии иногда и приписывали. Нет, – он понимал его как свойство самой нервной системы.
Совершенствование строения нервной системы и ее функций теснейшим образом связано. Поэтому психические способности животного усложнялись вместе со всей его организацией, в первую очередь его нервной системой.
Насекомые и другие животные, близкие им по развитию нервной системы, руководствуются в своих действиях инстинктами и привычками, в которых разум не принимает никакого участия.
Как же возникли инстинкты?
Многие поколения животных, которые находились в сходных условиях среды, испытывали на себе ее повторяющиеся влияния. Это заставляло нервный флюид направляться к тем или иным мышцам, и «в конце концов привычка эта становится как бы неотъемлемым природным свойством индивидуума, уже не властного изменить ее».
Ламарк отметил такой неоспоримый факт: если животное повторяет одни и те же действия, то они становятся для него все более и более легко выполнимыми.
Почему? В силу «проторения путей» повторяющимися возбуждениями.
В нервном веществе происходят такие изменения, которые облегчают (Ламарк не может обойтись без своей гипотезы о флюиде) прохождение флюида по нервным путям.
«При всяком действии, вызванном нервным флюидом, происходит перемещение этого флюида», – вот исходное положение Ламарка.
Дальше следует совершенно логическое рассуждение: «Когда это действие многократно повторяется, то несомненно, что флюид, обусловливающий его, прокладывает себе путь, прохождение которого делается с течением времени для него тем более легким, чем чаще он им пользуется и чем сильнее выражена склонность флюида следовать именно по этому привычному пути, а не по какому-либо иному, по которому он не столь часто движется».
Ламарк пытается заглянуть в физиологию нервной деятельности, познать путь, которым постепенно, скажем современным языком, вырабатывался рефлекс на определенный раздражитель.
Эволюцию нервной системы и в целом всего организма Ламарк обязательно связывал с флюидами.
Ламарк говорит: «Если отбросить воздействие движения флюидов», то «…для человеческого разума все будет ввергнуто в безысходный хаос; всеобщая причина фактов и наблюдаемых объектов станет неразличима и, поскольку наши знания в этой области потеряют ценность, связь и возможность прогресса, то вместо истин, которые могли бы быть познаны, встанут призраки нашего воображения и все то таинственное, что так нравится человеческому духу».
Современная наука многое знает о распространении нервного возбуждения, потому что теперь исследованы, химические и физиологические явления, связанные с ним.
Давно отошло в область истории и само учение о нервном флюиде, но самый принцип проторения путей Ламарка сохраняется.
Не зная, как и с какими приборами опытным путем можно изучать вопрос о нервном возбуждении, Ламарк поставил его верной силой своего проникновенного, острого ума.
По существу, он говорил о пути, по которому пробегает раздражение, вызванное воздействиями среды – раздражителями.
Это одна из его замечательных догадок. Однако за ней надо видеть настойчивые научные искания, далеко ушедшие вперед от науки того времени и даже нескольких последующих десятилетий.
Теперь известно, что сигналы к скелетным мышцам приходят много быстрее, чем к мышцам внутренних органов.
В то время не было приборов, которыми возможно измерять скорость распространения нервного возбуждения, но чисто умозрительным путем Ламарк правильно предположил, что возбуждения, идущие к мышцам скелета передаются быстрее, чем те, что направляются к мышцам внутренних органов.
Эти его догадки подтвердились впоследствии опытами.
Мысль же Ламарка о том, что большинство животных обладает способностью чувствовать, а наиболее высоко развитым из них свойственны и представления, вполне соответствует современным взглядам на психику животных.
Откуда произошел человек?
Если бы какой-нибудь человек попробовал всегда ходить на четвереньках, – это для него оказалось бы не только трудной, но и просто невыполнимой задачей. Для него «столь же трудно ходить всегда на четвереньках, как для других млекопитающих, даже четвероруких, ходить всегда прямо, опираясь – на стопу», – говорил Ламарк.
Почему? Вся организация человека не подходит к передвижению на четвереньках, а между тем для далеких предков его это был обычный способ хождения. Что же развело человека и животных в разные стороны?
Еще за семь лет до выхода в свет «Философии зоологии» в одном своем труде Ламарк отмечал, что человек по всем чертам своей организации – настоящее млекопитающее. Особенно близок он к обезьянам. В то же время человек отличается от всех самых высоко развитых из них.
Прежде всего у человека замечательное положение головы. Оно позволяет ему одновременно видеть вокруг себя значительно большее пространство, чем это может животное. Ведь голова человека не наклонена к земле, потому что затылочное отверстие у него находится как раз посреди основания черепа, а не отодвинуто назад, как у других позвоночных.
Пальцы кисти у человека удивительно подвижны. Смотря по надобности, он пользуется ими порознь или сложенными вместе. Концы пальцев обладают высоким чувством осязания: человек ощупывает, берет ими предметы, производит разнообразные точные движения. Ни одно животное не имеет такой возможности.
Исключительно важное отличие. Все строение человека приспособлено к вертикальной походке: у него развиты мышцы на нижних конечностях, кости ног по строению отличаются от костей животных, поэтому ему и трудно ходить на четвереньках. «К тому же человек не настоящее четверорукое, он не может подобно обезьяне с почти одинаковой легкостью опираться на пальцы стопы и брать при помощи их предметы. В ноге человека большие пальцы не противополагаются остальным пальцам при схватывании, как у обезьян…»
Это сравнение человека и обезьяны, удивительно четкое, точное и с современной точки зрения, принадлежит Ламарку.
Пройдет с лишним шестьдесят лет, прежде чем английский ученый, последователь и пропагандист учения Дарвина, Томас Гексли, проведет блестящее исследование близости строения человека и высших обезьян. Он подтвердит описание Ламарка огромным количеством фактов. И понадобится больше семидесяти лет, чтобы Энгельс раскрыл происхождение руки человека в процессе развития труда, то, что оказалось недоступным для Ламарка.
Человек – настоящее млекопитающее и в то же время так отличается даже от высших обезьян! Здесь есть многое, над чем может размышлять натуралист-философ.
Веками церковь проповедывала, что бог создал человека по образу и подобию своему и поселил его в раю. Но человек вкусил плод, запрещенный богом, нарушив тем самым закон, им данный… Все же по предначертанию творца человек занимает особое место в природе. Он венец творения, он центр мироздания. Весь мир, животные, растения, – все, что составляет живую и неживую природу, – создано на удовлетворение потребностей человека, потому что его происхождение божественное… Так учила религия, всеми мерами искореняя какое-либо сомнение в этом вопросе.
А сомнения в происхождении человека путем творческого акта возникали очень давно.
Если человек создан по подобию божию, то почему же в строении его так много общего с животными? Все, кто имел дело со вскрытием животных и трупов людей не могли не заметить этого поразительного сходства.
Церковь жестоко карала тех, кто производил изучение человеческого тела не по старинным книгам, а на трупах. Итальянскому ученому XVI века Андрею Везалию пришлось тайно похищать мертвые тела, чтобы изучать анатомию. Он дал первое правильное описание строения человеческого организма, сопроводив его прекрасными рисунками. И что же? Везалия объявили сумасшедшим, еретиком, и преследованиями он действительно был доведен до потери рассудка.
Другого ученого, Сервета, за то, что он почти открыл законы кровообращения, в Германии сожгли живым.
Несмотря на пытки и казни, находились смелые ученые, которые искали ответа на вопрос: откуда же произошел человек?
В начале XVII века появилось первое описание обезьяны шимпанзе, сходства которой с человеком невозможно было не видеть. Изучение животных и человека сильно подвинулось в XVIII веке в связи с развитием систематики и анатомии.
Встал вопрос: куда в системе поставить человека?
Линней, к чьему голосу прислушивались все ученые, не мог найти в своей системе иного места для человека, как рядом с обезьянами. Правда, он тотчас сделал оговорку: близость в его системе животных и человека не говорит еще об их кровной связи. Но одно признание этой близости подталкивало к вопросу: «А нет ли здесь и общего происхождения?»
Французские философы-материалисты XVIII века – Ламетри, Дидро и некоторые другие предполагали, что человек взял начало от каких-то животных форм. В России А. Каверзнев писал о том же; А. И. Радищев назвал человека «единоутробным сродственником всему на земле живущему».
В такой атмосфере догадок и намеков, которые не могли быть не известными Ламарку хотя бы в той мере, как они высказывались энциклопедистами, – разве мог он удержаться от искушения взяться за разрешение проблемы происхождения человека?
Надо напомнить, что значительная часть «Философии зоологии» посвящена происхождению различных типов животных. И вот, начиная свою систему от простейших по строению организмов к более и более сложным, Ламарк приходит к высшим млекопитающим. А что делать с человеком? И Ламарк находит ему место в цепи живых существ, хочет обосновать, почему это так и должно быть.
Так он приходит к необходимости высказать свои взгляды на происхождение человека.
Прежде всего Ламарк низводит человека с пьедестал, на который его возвела церковь: он не центр мира. Человек подчиняется законам природы, как любое животное, а не стоит вне их, что вытекало из религиозного учения о его божественном происхождении. Учение о человеке, созданном богом как центре и венце творения, – антропоцентризм – Ламарк решительно отвергает. И вот он набрасывает эскиз эволюции человека под названием: «Несколько замечаний относительно человека».
Ламарк выдвигает гипотезу о том, что человек произошел от каких-то высших обезьян, не современных, нет! От предков их. Какие же этапы могли пройти они на пути к человеку?
Эти этапы Ламарком намечены с удивительной прозорливостью и очень последовательно.
…Какая-то порода четвероруких, предположим, утратит, по каким-то причинам, свою давнюю привычку лазать по деревьям, спуститься на землю и из поколения в поколение станет пользоваться ногами – одними ногами. В конце концов они обязательно «превратятся в двуруких, а большие пальцы их ног перестанут противополагаться остальным, так как ноги будут служить им только для ходьбы».
Если существа, – говорит Ламарк, – о которых идет речь, будут испытывать потребность господствовать и видеть все, что совершается кругом них, то они проявят усилия держаться в стоячем положении. Постепенно у них изменится все строение ног, появятся икры, и ноги станут способными поддерживать тело в выпрямленном состоянии. Тогда, уже с трудом, эти животные смогут передвигаться на четырех конечностях; они будут привыкать к хождению на двух ногах.
Это первый этап – изменение образа жизни и передвижения от лазания к прямохождению. А в результате происходит освобождение рук.
При жизни на деревьях эти животные пользовались своими челюстями в качестве орудия. Ими хватали, кусали, раздирали пищу, спустившись на землю, рвали и резали траву.
Но если предположить, что на земле эти функции стали выполнять освобожденные руки, то какая же работа выпадает на челюсти?
Очевидно, исключительно пережевывание пищи. Новая функция повлияет на строение лицевых частей: лицевой угол у них увеличится, выступающие вперед лицевые части черепа сократятся. Изменятся и зубы, резцы примут вертикальное положение.
Это второй этап – изменение питания, челюстей и черепа. Что же может произойти дальше?
Ламарк рисует следующий, третий этап становления человека.
Эта порода стала двурукой, двигающейся на двух ногах, ее руки свободны, – она приобретает господство над всеми другими народами, завладеет всеми удобными местами для своего расселения на земном шаре и вытеснит оттуда «другие высокоорганизованные породы, оспаривающие у нее право на дары земли». Она принудит их уйти в менее пригодные для обитания места и этим поставит преграды к развитию их способностей.
«…сама же, пользуясь неограниченной свободой расселяться повсюду и размножаться, не встречая препятствий со стороны других животных, и жить большими группами, должна будет непрерывно создавать себе новые потребности, пробуждающие ее индустрию и постепенно совершенствуя ее средства и способности».
Ламарк старается представить, что могло быть в последующем.
Потом непременно должен произойти разрыв между этой господствующей породой и всеми прочими даже наиболее совершенными животными. К нему приведут с течением времени усиливающиеся мелкие различия.
Это неизбежно, потому что шло непрерывное обогащение способностей господствующей породы, увеличился запас их понятий. Сообщества их возрастали численно, и они должны были в какой-то момент «…ощутить потребность» передавать свои понятия другим, себе подобным.
Так возникла потребность в знаках, которые служили для передачи этих понятий. Сначала это были жесты, нечленораздельные звуки, и их было достаточно для общения друг с другом. Но способности совершенствовались, потребности возрастали, жизнь господствующей породы двуруких становилась все сложнее и богаче. Имевшиеся средства и способы перестали удовлетворять их.
Нужно было что-то другое, новое, более совершенное, то, чего еще не было в природе, и что могло отвечать жизненным запросам лишь этой породы, и только у них могло появиться.
И они «по-видимому, приобрели путем различного рода усилий способность производить членораздельные звуки. На первых порах они, без сомнения, применяли лишь небольшое число таких звуков, продолжая пользоваться для этой цели оттенками голоса, но впоследствии они увеличили, разнообразили и усовершенствовали их соответственно возросшим потребностям и приобретенным навыкам в произнесении этих звуков. В самом деле, привычное упражнение гортани, языка и губ при артикуляции звуков должно было чрезвычайно развить у них эту способность».
Родилась речь, говорит Ламарк: «Вот источник удивительной способности речи у этой особой породы».
Повсеместно расселяясь по земному шару и, следовательно, разобщаясь, разные группы этой высшей породы теряли единое произношение. Происходила неизбежная дифференциация речи, в результате которой должны были образоваться различные языки.