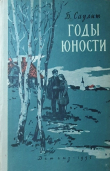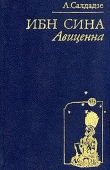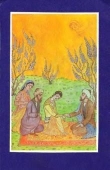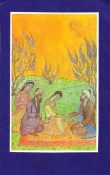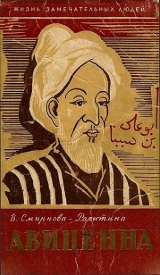
Текст книги "Авиценна"
Автор книги: Вера Смирнова-Ракитина
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 14 страниц)
Скитания

Так вот что такое великие, неисчислимые и ужасные «Семь песков Хорезма!» – думал Абу-Али ибн Сина, с тоской оглядываясь кругом. Куда ни бросал он взгляд, всюду желтые песчаные барханы и добела раскаленное небо. Песок сжигает ноги, а с безоблачного неба все льются и льются потоки расплавленного воздуха, от которого больно глазам, а тело немеет и делается мучительно тяжелым.
Во всем этом желтом море песка только крошечный островок тени, которую бросает растянутый на палках плащ. Под ним на коврике – больной. Лицо его почернело от страданий и жажды, глаза закрыты.
Третий день лежит здесь несчастный старик, на три дня задержалось путешествие. Давно уже уехал слуга на поиски воды и лекарств, но его все нет и нет. Неизвестно, когда он вернется, а вернувшись, застанет ли больного в живых…
Над умирающим склонился Абу-Али ибн Сина. Он сам страдает от жажды, сам измучен жарой и скитаниями, но все его помыслы сосредоточены на том, чтобы облегчить мученья друга. Его взгляд прикован к тяжело вздымающейся груди старика, к слабому биению жилки на его виске.
Ибн Сина снова и снова вспоминает несчастную историю их путешествия.
Началось оно при безоблачном небе. Едва брезжило утро, когда они покинули прекрасный, любимый обоими Ургенч. Все шло удачно, пока не остались позади плодородные земли, пока не вступили они в пески, окружающие Хорезм.
Из осторожности Абу-Сахль настоял на том, чтобы не брать проводника и не присоединяться к караванам, которых, кто ведает, сколько времени надо было бы ждать. Никаких дорог через пески не было. У пограничных жителей удалось только узнать направление да приметы, по которым можно было находить колодцы. Путники запаслись водой и тронулись в путь.
Абу-Сахль несколько раз в своей жизни пересекал пустыню и готов был считать себя опытным путешественником. Но он никогда не встречался с песчаной бурей. Не знал ее предвестников и как вести себя, когда приметы превратятся в бедствие. Едва начался ветер, который, казалось, сдвигал целые горы песка, поднимал их, крутил в небе и сваливал вниз, верблюды разбежались. Люди растеряли друг друга. Абу-Али сумел все же поймать своего верблюда, заставил лечь, накрыл его голову плащом, притулился тут же сам. Ночью ветер стих. На рассвете Ибн Сина бросился искать спутников. Слуга нашелся поблизости. Его верблюд был цел. А Абу-Сахля разыскали только к полудню и то лишь потому, что из-под груды песка виднелся край его одежды. Раскопали его почти без признаков жизни. Его верблюд, на котором были основные запасы воды, исчез. Кое-как, с помощью тех остатков, что плескались еще в бурдюках, привели старика в чувство, но все равно положение его безнадежно. Абу-Али, как врач, прекрасно понимает это. И все же надеется… Надеется, хотя бы облегчить его страдания.
Иногда Ибн Сина отходит от больного, взбирается на песчаный бугор и смотрит вдаль.
Солнце больно слепит глаза. На горизонте ничего не видно – пески, пески и пески…
Абу-Али снова возвращается к старику и видит, как беззвучно шевелятся его пересохшие губы. Наклонившись, он улавливает слово «пить».
«Чем же напоить его? – мучительно думает Ибн Сина. – Неужели слуга не привезет воды? И почему он так долго не возвращается? Не заблудился ли он? Может быть, он не нашел колодца и сам погибает в пустыне? А может быть, его убили или захватили в плен встречные кочевники? Как мы неосторожны! Как глупо неосторожны…»
Сердце Абу-Али разрывается. Он еще раз озирается вокруг в поисках помощи. Взор его падает на верблюда, обессиленно развалившегося на песке. Ибн Сина торопливо достает из вьюка пиалу, тонкий ножичек и небольшой зажим. Подойдя к верблюду, он осторожно, одним ловким движением вскрывает артерию. Красная пенистая струя бьет из надсеченной артерии и наполняет подставленную чашу. Не успевает верблюд рвануться, как быстрые руки опытного хирурга накладывают зажим на ранку, и верблюд, уверенный, что его всего лишь укусила злая муха, остается спокойно лежать.
Абу-Али подносит пиалу к губам умирающего. Абу-Сахль делает несколько глотков, и подобие тихой улыбки появляется на его лице.
Старик силится сказать что-то, но жизнь уже покидает его.
Абу-Али допивает пиалу и сам валится без чувств ка край ковра.
Когда вернулся слуга, солнце стояло уже над самым горизонтом. Верблюд бродил неподалеку, обнюхивая песок, разыскивая колючки. Над маленьким становищем вились черные коршуны, а на ковре лежали рядом мертвый Абу-Сахль и обессилевший Абу-Али. Вода, привезенная слугой, оживила ученого, а покойника могла только омыть.
Ибн Сина выкопал могилу Абу-Сахлю и сам положил в нее друга.
Под утро, пока еще не началась дневная невыносимая жара, жалкие остатки каравана двинулись в путь.
Четверо суток добирались путники до хорасанского города Абиверда, лежащего на границе пустыни. Там они прожили несколько дней в маленькой комнатке караван-сарая, пока не окрепли настолько, что смогли продолжать свой путь.
Без сожаления покинули они этот пыльный, обожженный солнцем, овеянный пустынными ветрами городок и тронулись в Несу. [32]32
Развалины города Несы находятся в 18 километрах от Ашхабада.
[Закрыть]
Еще в Бухаре Ибн Сина много слышал об этом городе, а в Ургенч часто приезжали купцы и ученые из Несы, так что даже среди своих знакомых Абу-Али насчитывал немало тамошних жителей. На их помощь и добрый отзыв он мог смело рассчитывать.
Неса пленила его с первого взгляда. Город тонул в зелени. Улицы тянулись, словно сплошные зеленые коридоры, изредка перерезанные серебряным ножом ручья или арыка. И жители понравились Ибн Сине – Здесь было много образованных, начитанных людей, к тому же ощущалась нужда в медиках. Чего же было еще искать!
Прожив в Несе некоторое время, Ибн Сина привык к городу и серьезно решил осесть в нем. Снял маленький домик и подумывал о том, чтобы выписать семью. От Бируни пока что вестей не было.
Никто не мешал тихой жизни ученого. Он писал все свободное от посещений больных время.
За последние годы общение с таким замечательным математиком, как Ал-Бируни, толкнуло Ибн Сину на серьезные занятия геометрией. Живя в Несе, он углубился в детальное и глубокое изучение Эвклида. Для учеников, которые, как всегда, очень быстро появились у Ибн Сины, он написал несколько трактатов о математических теоремах, о параллельных линиях на сфере, об углах. Геометрия подсказала ему мысль заняться исследованием измерений Земли – так появился его трактат «Об экваторе».
Ученики жадно вслушивались в новые для них мысли. Они переписывали книги и трактаты учителя в десятках экземпляров и рассылали их ученым Хорасана, Мавераннахра, Хорезма, Азербайджана. В ответ нередко приходили объемистые тома научных сочинений, которыми собратья делились со своим главой – шейхом, как начали уже называть Ибн Сину, не считаясь с его сравнительной молодостью. Ему в это время, в 1012 году, было не больше тридцати двух – тридцати трех лет.
Письма учеников и почитателей, книги и трактаты ученых, приходившие в Несу в адрес Ибн Сины, никогда не оставляли его равнодушным. Он отвечал на все вопросы, подробно разбирал работы, часто отвечая на трактат трактатом. Все это толкало ученого на дальнейшие исследования.
Пожалуй, давно ему не работалась так спокойно, как в Несе.
Но скоро все это изменилось.
Ка‘к-то под вечер слуга Абу-Али, просунув в дверь рабочей комнаты ученого свое веселое широкоскулое лицо, доложил, что какой-то почтенный старик хочет видеть уважаемого Абу-Али ибн Сину.
Старик оказался хорезмийским знакомым, богатым человеком, сменившим свою профессию ювелира на чалму имама.
– Приветствую тебя, сын мой, – сказал старик в ответ на почтительный поклон ученого. – Радуйся! Я пришел к тебе с хорошими вестями! – Говоря это, он протянул Абу-Али свиток.
Тот развернул. На него глянуло его же собственное лицо. Несколько ниже замысловатым стилем придворного писаки сообщалось, что всякий, кто встретит изображенного на портрете великого и знаменитого ученого Абу-Али Хусейна ибн Абдаллаха ибн Сину, пусть сообщит ему, что в Газне ждут его пресветлые очи султана Махмуда, жаждущего осыпать достославного врачевателя великими милостями. в– Как прекрасно передана на портрете твоя внешность, не правда ли? – воскликнул гость. – Мне говорили, что его нарисовал недавно прибывший в Газну Абу-Наср Аррак, математик и превосходный художник.
«Неужели и Абу-Наср уже в плену! – мысленно воскликнул Ибн Сина и невольно закусил губы. – Какие же длинные руки у этого Махмуда! Всех собирает в свою золотую клетку!..»
Ученый постарался не подать виду, как неприятно поразило его послание султана Махмуда. Ему даже удалось выразить на лице великую радость по случаю столь лестного к нему внимания всемогущего газнийского владыки и заверить старика, принесшего свиток, что он не замедлит воспользоваться оказанной ему милостью.
– Я никогда не слыхал, чтобы рисовались чьи-нибудь изображения! А тем более, чтобы они рассылались… Это большая честь… – бормотал старый имам. – Когда наш мулла показал мне это высокое произведение, я даже ахнул и не сразу сообразил, что оно относится к тебе… Потом подумал…
– А его давно прислали?..
– Дня три назад. Так вот, я подумал-подумал, припомнил твое лицо, прочел текст и понял, что сообщу тебе большую и радостную новость…
Разговаривая, улыбаясь и угощая гостя поданными слугой сластями, Ибн Сина все время ломал себе голову, куда же ехать ему теперь, чтобы скрыться от назойливого внимания султана Махмуда.
Едва старик, уверенный, что принес Абу-Али благую весть, удалился, ученый позвал старого, преданного ему слугу, и после непродолжительного совещания оба решили, что пора собирать вещи. Нет никакой гарантии, что имам, норовя выслужиться перед всесильным султаном, не напишет ему письмо о том, что Ибн Сина в Несе и приглашение ему передано.
Покидая через несколько дней гостеприимную Несу, Ибн Сина говорил всем, что едет в Газну. Его ли вина была в том, что лошади, на которых в этот раз решили совершить свое путешествие Абу-Али и его слуга, пошли совсем в другую сторону и вместо Гаэны привезли их в Нишапур? [33]33
Нишапур – город в Хорасане, близ нынешнего Мешхеда (Ираг).
[Закрыть]
Нишапур встретил Абу-Али не хуже Несы. Здесь также было много больных, жаждущих исцеления, и множество здоровых, которые слыхали уже об Абу-Али ибн Сине и мечтали попасть к нему в ученики.
Сам Нишапур напоминал и Бухару и Ургенч. Это был очень большой и богатый город с огромными базарами, полными привозных и местных товаров. Целый день не замолкала деловая жизнь города. Караваны, нагруженные товарами, прибывали издалека, и так же далеко отбывали другие, вывозящие из Нишапура продукты местного производства. Историки рассказывают, что на рынках Нишапура было множество караван-сараев, где проживали купцы и тут же торговали своими товарами. Каждый рынок обычно торговал каким-нибудь одним видом продуктов, которые производили тут же жившие ремесленники.
Те же историки упоминают, что плох тот город, где жители занимаются меньше, чем тридцатью двумя видами ремесел. В этом отношении Нишапур был, как видно, одним из первейших городов Азии, здесь можно было найти мастеров во всех ремеслах. И мастеров первостатейных, прославленных.
Богатой была не только торговая сторона нишапурской жизни, здесь было много ученых, проповедников, последователей различных сект.
К тому же в Нишапуре в этот период строилось медресе – высшая духовная школа. Такая, как была в Бухаре и о какой мечтал Абу-Али в Ургенче. Школы эти в Средней Азии были очень немногочисленны, а нужда в них очень большая. Методы преподавания еще не установились полностью, и, хотя они считались «духовными» учебными заведениями, в них изучали и античную философию и светские науки. Абу-Али живо представил себе, как хорошо было бы преподавать в медресе, передавать знания юным умам, и это сразу же примирило его с насильственным переездом.
Нишапурцы славились своей любовью к просвещению, а также страстью к публичным диспутам на различные отвлеченные темы.
Когда было объявлено, что предполагается не греча Абу-Али ибн Сины со знаменитым суфийским проповедником Абу-Саидом Мейхенейским, жившим в Нишапуре, это оказалось событием, переполошившим весь город.
Суфизм – идейное движение, широко распространенное в ту пору в странах Средней Азии, – претерпел много различных изменений. Но во времена Ибн Сины он под покровом философско-мистического ученья отражал недовольство трудового люда гнетом феодалов, ростовщиков, духовенства. Основной философской идеей суфизма являлось утверждение, что не разум, а интуиция, то есть внутреннее откровение, является источником раскрытия истины.
Шейх Абу-Саид Мейхенейский пользовался очень большой популярностью. Его учениками и последователями были виднейшие ремесленники города, такие, как Абу-Бекр кеффал марвези – мастер по выделке замков, Абу-Бекр куттани – мастер по изготовлению льняных тканей, Абу-Саид хаддад – кузнец, Абу-Саид хаттаб – дровяник, Абу-л-Аббас кассаб – мясник, Абул-Касим заррад – мастер тю выделке кольчуг, Абу-Мансур варракани – продавец бумаги и многие другие.
Двор соборной мечети, где всегда происходили научные споры, был забит нишапурцами с раннего утра.
Нарядный, в богатом кафтане, веселый Ибн Сина первым пришел на диспут. Вскоре появился и Абу-Саид, в грубой одежде, с лохматой седой бородой. Оба они имели своих поклонников, приверженцев, учеников. Обоих их приветствовали громкими, долго не смолкающими криками. Кому кричали больше и восторженнее, определить было невозможно.
Абу-Саид, философ-суфий и талантливый поэт, был далек от изнеженной жизни богачей. В своих произведениях, обращенных главным образом к трудовому населению городов, он проповедовал воздержание, непротивление судьбе, строгость и чистоту жизни. Взгляды его были смутны, проникнуты верой в таинственные связи с нездешним миром, а язык, которым он выражался, полон туманных намеков.
Ибн Сина во всем был ему полной противоположностью. Он всегда и прежде всего требовал твердых положений, доказательств, основанных на опыте. Прекрасный оратор, он не прочь был лишний раз напомнить об обязательной, по его мнению, практической проверке всякого научного положения жизненными примерами.
Ибн Сина с учениками.
Репродукция старинной персидской миниатюры XVII века.
Репродукция титульного листа латинского перевода «Канона врачебной науки» Ибн Снны.
На диспуте оба ученых вели себя так различно и непримиримо, что седобородые нишапурские мудрецы только покрякивали да почесывали затылки, не зная, чью сторону принять, а молодые слушатели даже много времени спустя после окончания этой встречи, ставшей в городе исторической, доказывали правоту собеседников кулаками.
Абу-Али и Абу-Саид во время спора подняли множество разнообразных вопросов – от греческой философии до физического закона свободного падения тел, от астрономии до влияния металлов на человеческий организм, от поэзии до музыки, удивив всех своими знаниями.
Но эти знания не сближали их. Присутствующие жадно слушали, чувствуя разницу их высказываний, но не сознавая того, что ученым таких различных взглядов никогда не убедить друг друга в своей правоте. Перед Абу-Али с каждым словом старого суфия все яснее открывалась сущность мировоззрения этого мистического проповедника, взирающего на мир сквозь таинственную дымку. Так же и Абу-Саид видел в молодом ученом чуждый ему способ восприятия жизни только через опыт и через факты действительности. В глазах присутствующих каждый из спорящих был искренен и достоин уважения. И каждого поддерживали криками и овациями.
– Жизнь коротка, – утверждал Абу-Саид, – и нет смысла тратить ее на борьбу с тем злом, которое мы видим вокруг себя. Все равно исправить его не в человеческих силах. Все наши помыслы должны быть направлены на усовершенствование своего духа, на то, чтобы сделать его достойным великой радости слияния с божественным началом, частью которого этот дух является. Это единственная достойная цель для всего сущего!
– Жизнь настолько длинна, – горячо возражал Абу-Али, – что человек может успеть сделать гораздо больше, чем Это нужно для его спасения.
– Чтобы спасти душу, не нужно ни работать, ни воевать! Это вносит лишь ненужные тревоги и волнения. Душа должна быть спокойна и гармонична, – убежденно твердил суфий.
– Спокойная и гармоничная душа будет в совершенном мире, а создать такой мир может только сам человек с помощью ясной головы и крепких рук. Только просвещение и труд могут улучшить жизнь человека и приблизить его к совершенству.
Искушенный в спорах Абу-Али старался высказывать свои мысли насколько мог тоньше и завуалированнее, так, чтобы богословы, присутствовавшие на диспуте, не вздумали обвинить его в ереси.
К счастью, они, очевидно, не отличались особенной сообразительностью, так как только один из поклонников Абу-Али, более вдумчивый, чем другие, и более других понявший свободомыслие ученого, тихонько обратился к нему за подтверждением своей догадки.
– Учитель, неужели ты так мало надеешься на аллаха?
Улыбающийся Ибн Сина отозвался стихами:
За безбожье свое пред собою одним я в ответе,
Крепче веры моей не бывало на белом свете.
Но коль даже единственный в мире и тот «еретик»,
Значит, нет, говорю, правоверных в нашем столетье!.
Уходя с диспута, шейх Абу-Саид возбужденно заметил своим ученикам:
– Он человек ищущий, этот почтенный Абу-Али. То, что я вижу, он знает. – А затем добавил: – И все же не может стать небывшее былым и сотворенное несотворенным!..
До Абу-Али донеслись эти слова, и он, улыбнувшись, повернулся к своим последователям:
– Шейх правильно говорит: то, что я знаю, он видит… – И тут же продолжал, – мгновенно сочинив экспромт: – Нам божье милосердие – защита. Оно избавит нас от всех плодов деяний, добрых и дурных. Там, где есть милосердие твое, там и несотворенное стать может сотворенным и бывшее – небывшим быть!
После диспута собрались для веселой застольной беседы, которая затянулась на всю ночь, в гостеприимном доме одного нишапурца. Беседе, как всегда, сопутствовали цветистые газели [34]34
Перевод И. Сельвинского.
[Закрыть]и острые находчивые ответы в стихах.
С юности Ибн Сина любил слагать стихи, а с годами он становился все более крупным поэтом, настоящим мастером коротких, точных четверостиший и легких газелей. Поэтический талант его, даже на фоне множества изысканных и изощренных придворных стихослагателей, сверкал и выделялся глубиной мысли, мастерством отделки. Стихосложение было в быту того культурного восточного общества, с которым сталкивался Абу-Али. В те времена были часты вечера, на которых полагалось говорить стихами, люди всех слоев любили острое словцо, особенно если оно было удачно срифмовано, так что удивить хорошими стихами было не легко, и все же Абу-Али блистал. Так было еще в Бухаре, в Ургенче, в Несе и здесь, в Нишапуре, где жило много любителей поэзии.
За ужином разгорелся спор о вине: добро ли оно, или зло и есть ли грех в его употреблении, как это утверждает коран? Гости, высказав свое мнение, обратились к Абу-Али.
– Ну что же, – начал он, приподнимая свой кубок, – можно сказать и так:
Общий смех приветствовал четверостишье.
– А можно сказать и так, – лукаво улыбнувшись, продолжал Абу-Али, когда смех несколько стих:
Бурные овации встретили и этот экспромт.
– Друзья мои! – воскликнул один из особенно рьяных поклонников Ибн Сины. – Я не хочу, чтобы вино стало моим врагом, и я не хочу пить его, как яд! Бросайте чаши, друзья! Дадим покой нашему прекрасному – да цветет его жизнь, как роза! – хозяину.
И гости стали шумно расходиться.
Выходя из-под гостеприимного крова доброго нишапурца в ненастную осеннюю ночь, утомленный диспутом и шумным сборищем, Абу-Али прочел своим спутникам стихи Фирдоуси:
– Живет где-то великий человек, старик уже, и вся его трудная жизнь, как прекрасная песня, а нас окружает благополучие и довольство, мы спорим о вещах, которые не стоят даже строчки его стихов, и сочиняем сами плохие стихи, – добавил Ибн Сина, прощаясь со своими спутниками.
Оставшись один, он долго не мог уснуть, шагал по комнате, присаживался к маленькому столику, где лежали письменные принадлежности, записывал стихотворные строки и тут же раздраженно зачеркивал их. Вино, выпитое за ужином, еще шумело у него в голове, ему хотелось с кем-то спорить, высказывать какие-то свои взгляды, создать не то поэму, не то газель, наконец в раздражении он записал: «О аллах!
Нет у тебя помощника, к которому можно было бы обратиться, нет у тебя и везира, которому я мог бы дать взятку. Повиновался я всегда твоему могуществу, И потому следовало бы тебе быть снисходительным ко мне, грешил я против тебя по своему невежеству, за это ты, конечно, можешь покарать меня. Я повинуюсь твоему пророку Мухаммеду и признаю его правоту в том, что он запрещал вино. Я даже указываю на вредность вина всем пьющим… Ну, а что делать, если оно так тянет меня к себе, что я могу утонуть в нем? Ты уж лучше заранее прости и помилуй меня – тебе ведь положено прощать, о аллах!..»
Абу-Али перечел написанное, засмеялся и скомкал листок, но все это как будто бы успокоило его.
«Чего я волнуюсь, и чего я хочу от себя? – с горечью подумал он. – Ведь все равно мои жалкие стихи никогда не смогут сравниться с великими произведениями Рудаки или Фирдоуси. Даже Абу-Саид как поэт во много раз выше меня. Нет уж, Хусейн, занимайся-ка ты лучше своими науками! Писать стихи, пожалуй, не твое дело!..»
Ибн Сина готов был уже бросить калам и отодвинуть чернильницу, но неожиданно почувствовал, что мысль его, метавшаяся в поисках слов, нашла, наконец, свое стройное и строгое выражение, и рука забегала по бумаге, записывая четверостишье:
Абу-Али долго еще не засыпал, забыв уже о стихах и думая только о своих работах, о планах на будущее, о задуманной книге. К ней он приступит немедленно, едва будет окончен трактат, над которым он трудится сейчас.
Наутро Ибн Сина принял своих больных и отправился к базарным кварталам навестить одного захворавшего бедного медника.
На площади, где читались глашатаями приказы и вывешивались объявления, внимание Абу-Али привлекла большая толпа. Подойдя поближе, он услыхал свое имя.
«Султан Махмуд! – понял он сразу и, приблизившись вплотную к толпе, разглядел знакомое объявление со своим портретом. – Удивительно, что правители Нишапура согласились вывешивать послания султана, – с досадой подумал Абу-Али. – Кроме того, они прекрасно знают, что я здесь, вызвали бы меня и сообщили, чего же проще! Но, может быть, это сделано для того, чтобы снять с себя ответственность, а мне дать возможность самому выбирать дорогу… За последнее время я, признаться, таил в душе надежду, что султан Махмуд забыл обо мне…»
Посетив больного и оставив ему лекарство, ученый поспешил домой. Когда он метался по своей комнате, обдумывая, куда же ему ехать дальше, просторы Азии показались ему необычайно ограниченными. Постоянное внимание султана Махмуда становилось мучительным и надоедливым. Абу-Али перебирал в памяти известные ему области, вспоминал рассказы друзей, побывавших в различных городах. Так мало оставалось мест, пока еще не подвластных султану Махмуду, что Ибн Сина приходил в отчаяние. Везде было трудно вольнодумцам!
«Ехать в Газну, – твердил про себя ученый, – это значит продать свою мысль в рабство…»
Его отвращение к разбойничьему гнезду – Газ-не – подкреплялось еще и возмущением, которое вызывал в нем султан, все решительнее и решительнее накладывавший свою лапу на Хорезм. Из писем родных, а особенно из скупых строчек прозорливого и вдумчивого Бируни, Ибн Сина ясно видел, что можно было ждать от султана Махмуда. Ему писали примерно следующее: «Мы каждый день ждем новых притязаний султана. То ему нужна еще одна хутба, прочитанная в больших городах Хорезма, и для его успокоения хорезмшах разъезжает по городам только затем, чтобы прослушать в течение десяти минут имама, который подтверждает аллаху и всем прихожанам, что нет никого более достойного быть защитником славы пророка на земле, чем великий султан Махмуд. То султан обижается, что его сестре, супруге шаха, не оказывают должного почтения. То он требует приезда к нему ученых, то еще чего-нибудь. Покоя нет, и нет надежды на него. За все приходится откупаться. На все это тяну деньги с трудолюбивого и рачительного народа Хорезма…»
Ал-Бируни подумывал о том, как было бы хорошо найти где-нибудь, хотя бы в лесах южной Индии, место, где можно было бы прожить отшельником. «Тем более, что время, в которое мы живем, не благоприятствует развитию наук», – заканчивал он свое письмо.
«Не последовать ли и мне мысли Бируни? – горько усмехаясь, подумал Ибн Сина. – Все равно мне не жить в ловушке, в которую меня заманивают. Я не хочу, чтобы султан Махмуд заявил мне так же, как говорил это неоднократно другим: «Если хочешь, чтобы счастье было с тобой, то говори не по своей науке, а говори, что соответствует моему желанию».
Но все же куда ехать? Где он, тот лес, в котором можно жить отшельником? Где же найдется пристанище скитальцу?»
К счастью, Ибн Сина вспомнил, что у него где-то должно быть рекомендательное письмо, написанное Бируни правителю Джурджана Кабусу ибн Вашмгиру. Люди, знавшие его, хорошо о нем говорили. Он был единственным правителем, который помогал несчастному Ибрагиму Мунтасиру, младшему сыну Нуха ибн Мансура Саманида, последнему эмиру Бухары.
Ученый решил еще раз попытать счастье в скитании. Он знал, что правитель Джурджана, бывший прежде сильным и независимым государем, теперь тоже платит дань султану Махмуду. Но отдаленность Джурджана, расположенного на южном, берегу Хазарского моря, от Газны позволяла Ибн Сине надеяться, что султан не подумает его искать там, во всяком случае до тех пор, пока ему не донесут его шпионы. К тому же он, наученный горьким опытом, решил не называть на новом месте своего имени.