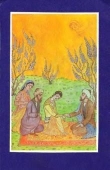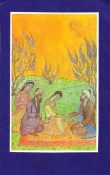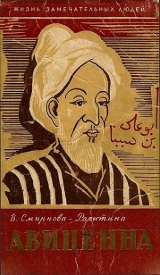
Текст книги "Авиценна"
Автор книги: Вера Смирнова-Ракитина
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц)
На одном из привалов Шамс-уд-Давла неожиданно для Абу-Али стал уговаривать его принять пост везира Хамадана.
– Ты видишь, государство рушится… Войско разбегается. Казна моя пуста. Помоги нашей несчастной стране и ее несчастному правителю. – Шаме хитрил и старался сыграть на доброте и доброжелательстве Абу-Али.
Пост везира совершенно не привлекал ученого, но он понимал, что Шаме гораздо более прав в своих жалобах, чем сам думает. Хамаданский народ голоден, разорен, несчастен. На чудной, плодородной земле из года в год погибал урожай. Неразумное, недальновидное хозяйничанье опустошало города. Все мало-мальски состоятельные люди старались уезжать отсюда, чтобы не быть вынужденными давать эмиру никогда не возвращаемые ссуды.
Абу-Али ясно отдавал себе отчет и в том, что ему, чужому здесь человеку, нелегко будет понять все взаимоотношения, столетиями создававшиеся между эмирами и народом. Абу-Али отказался, объяснив все свои доводы правителю. Шаме принял отказ по виду совершенно равнодушно, но в глубине души он твердо решил назначить ученого везиром.
Это прекрасно понял Абу-Али. Уезжать ему из Хамадана не хотелось, и он поставил себе задачей как следует подготовиться к своей будущей должности, если уж отказаться не удастся.
Прошло больше недели, как Абу-Али вернулся в Хамадан. Абдул-Вахид был вне себя от радости по поводу возвращения учителя.
Добродушный парень суетился, стараясь всем угодить, многое делал невпопад, но упрекнуть его или посмеяться над ним ни у кого не хватало духу. Оставшись один, он занимался перепиской глав из «Ал-Канона», и сейчас на столике в комнате ученого лежали высокие стопки бумаг, радующие глаз четкостью каллиграфического почерка.
Один за другим появлялись хамаданские друзья, ученики и знакомые Абу-Али, прослышавшие о его приезде. Ученый все еще не мог прийти в себя, все еще не мог поверить в то, что он уже дома. Многое в жизни он повидал, помнил вторжение в Бухару караханидов, стычки на улицах родного города, помнил частые казни на площадях Бухары и Ургенча, видал раненых, умирающих, но впервые во весь рост встала перед ним жестокая бессмыслица войны.
Пылающие деревни, дикая резня, стоны умирающих – все это казалось ему настолько противоречащим рассудку, настолько бесчеловечным, что Абу-Али даже во сне стал видеть потоки крови и искалеченных людей. Как никогда, остро понимал он, что война ничего не может изменить, никак не способна улучшить жизнь и ведет людей к горю и несчастью.
Шамс-уд-Давла после своего возвращения в город дня не мог прожить без Абу-Али. Ученого вызывали во дворец с утра. Шаме заставлял его присутствовать при совещаниях, встречах, разговорах с везиром, казначеем и даже принимать вместе с ним послов. Эта честь мало радовала Абу-Али, но он понимал, что Шаме знакомит его с делами.
В один из ближайших дней эмир Шаме прислал за Абу-Али особенно рано и твердо заявил ему:
– Отныне ты будешь везиром! Купцы и саррафы сказали мне, что дадут заем только в случае твоего назначения.
Чувствуя, что надо либо принимать пост, либо покидать Хамадан, Абу-Али почтительно склонился перед повелителем.
– Я готов согласиться, если ты разрешишь мне предварительно ознакомиться с делами государства.
– Разрешаю! – махнув рукой, заявил Шаме, довольный тем, что уломал, наконец, строптивого ученого.
Едва Абу-Али приступил к этому ознакомлению, как для него совершенно ясна стала картина тех хищничеств и злоупотреблений, которые совершал его предшественник. Бывший везир беззастенчиво присваивал себе значительную часть государственного дохода, умножая свое и без того крупное состояние. Родственникам и друзьям он раздавал богатые поместья. В диванах царило взяточничество и казнокрадство. Кадии решали дела в пользу тех, кто больше давал. Хаджибы, не стесняясь, пользовались деньгами, отпущенными для войска.
Только сейчас понял Абу-Али, за какое тяжелое дело он взялся.
Купцы и ремесленники Хамадана приняли назначение Абу-Али везиром как свою победу. Купеческий старейшина самолично привез во дворец деньги, обещанные правителю, и сказал Абу-Али:
– Наше купечество верит тебе. Первый раз мы даем взаймы повелителю, зная, что этот заем послужит на пользу Хамадану. Если хоть часть этого золота будет истрачена на проведение дорог, на охрану наших караванов, на устройство оросительных каналов, оно вернется к нам сторицей. Не дозволяй же ему бесплодно распыляться…
Но как только распространилась весть, что в казне получены деньги, сейчас же на них оказалось множество охотников. Первыми явились хаджибы, следом за ними прибежал векиль [47]47
Векиль – управляющий.
[Закрыть]дворца: жены и дочери повелителя требовали деньги на наряды, драгоценности, домашние расходы. Оказалось, что даже наследник правителя двенадцатилетний Сама-уд-Давла и тот наделал долгов.
Абу-Али, отказавшись выдать хотя бы динар, отправился к эмиру.
У эмира уже находились оба хаджиба, которым ученый ничего не дал. Первый из них – рябой, коротконогий перс с исполосованным шрамами лицом – отвернулся к окну, сделав вид, что не заметил прихода Абу-Али; другой – высокий стройный курд с роскошными усами, хаджиб личной охраны эмира, наоборот, нагло поглядел на нового везира и кивнул ему головой, как своему короткому знакомому. Пестрые шелковые халаты хаджибов, расшитые пояса, покрытое золотом и драгоценными камнями оружие придавали им торжественный и внушительный вид.
Едва Шамс-уд-Давла обратился к Абу-Али с вопросом о причинах задержки жалованья войску, в зал вошел Тадж-ул-Мулк.
Тадж придал своему лицу самое любезное и радостное выражение, на которое только был способен, и сладким голосом приветствовал везира.
– Я прах у твоих ног, о Абу-Али! Я готов не спать ночи, лишь бы стать твоим верным помощником…
Абу-Али передернул плечами. Его и раздражал и смешил этот пронырливый придворный, сумевший сделаться совершенно необходимым во дворце. Пока что Тадж-ул-Мулк оставался казначеем и правой рукой Шамса во всех его затеях. Ходили слухи, что он обязательно присутствовал на всех семейных советах во дворце, куда никого другого никогда не допускали. Ученый с усмешкой поглядел на его смазливое лицо не то евнуха, не то старообразного мальчика и в сотый раз спросил себя, сколько же ему лет: тридцать или шестьдесят?
– Ибн Сина, – обратился к везиру Шамс-уд-Давла, – распорядись, чтобы выдали деньги хаджибам.
– Государь, – ответил Абу-Али, видя, что Тадж-ул-Мулк поеживается, – хаджибы, должно быть, ошиблись. Судя по распискам, они требуют гораздо большую сумму, чем им причитается.
– Солдатам не плачено больше чем за год, – угрюмо заявил начальник войска. – Они вот-вот взбунтуются.
– Прости меня, хаджиб, – заметил Абу-Али, – совсем еще недавно, в месяце мухарреме, ты получил для них жалованье за полгода. Вот твоя расписка.
Хаджиб повертел в руках клочок бумаги, поглядел искоса на Тадж-ул-Мулка и, ничего не говоря, отошел в сторону.
Курд, поводя огромными глазами и покачивая своей перетянутой талией, подошел к Абу-Али.
– Ну, моей-то расписки нет, – насмешливо про тянул он, – подавай-ка деньги!
– И твоя расписка нашлась, – спокойно произнес ученый.
– Денег в этом году я не получал и расписки никакой не давал, – стоял на своем хаджиб. – Вот уж десять месяцев как мои солдаты без жалованья…
– Так вот твоя расписка годовой давности, – доставая бумагу, произнес Абу-Али. – Год назад ты получил жалованье на две тысячи двести человек. А всем известно, что в личной охране повелителя…
– Тысяча! – воскликнул, вмешиваясь в разговор, Шаме. – Всегда была и есть тысяча!
– О чем же говорить? У тебя есть чем заплатить твоим воинам.
Лицо эмира исказилось гневом.
– Как! – воскликнул он, поворачиваясь к хаджибам. – Вы осмелились жаловаться мне, когда вами все давно получено! И вы смели мне грозить бунтом! Чтобы завтра же все было роздано. Если хоть один солдат останется без жалованья, хаджибу снесут голову! Понятно?
Оба хаджиба молча вышли из зала. Начальник войска исподлобья мрачно поглядел на везира, а курд, смеясь, помахал ему на прощанье рукой.
Тадж-ул-Мулк, молча прислушивавшийся к этому разговору, дождался, когда хаджибы вышли из комнаты, и вкрадчиво заметил эмиру:
– Стоило ли тебе так гневаться, повелитель! Хаджибы, конечно, присваивают себе деньги солдат, но это всегда и везде так было. Зато ты можешь полагаться на них. Не надо вооружать их против себя. Тем более, что везир у нас – человек неопытный. Он привык обращаться с науками, а не с людьми. Ему еще надо поучиться, как поддерживать отношения с нужными тебе подданными.
– Ты покровительствуешь мошенникам хаджибам? – разъярился эмир. – Это ты выдавал им деньги не вовремя и прикрывал их штуки! – Шаме-уд-Давла кричал на казначея, не обращая внимания на присутствие Абу-Али. – Я заставлю проверить все дела! Не допущу, чтобы меня водили за нос! Хаджибы и так сожрали все государство…
Шамса едва уговорили не волноваться. Но, успокоившись, он потребовал вина и, несмотря на протесты Абу-Али, выпил два кубка подряд.
Слухи, разбегавшиеся по всему городу, рисовали Абу-Али ненавистником военных, защитником крестьян, ремесленников и купечества.
В значительной степени это было правдой и подтверждалось действиями везира. Слухи росли, и на каждую крупицу истины приходились сотни выдумок.
– Он хочет Хамадан, наш прекрасный Хамадан, превратить в гнездо черни и торгашей! – шипели во дворце. – Он околдовал повелителя… Везир так глуп, что сам отказывается от подарков и денег да и другим не позволяет брать. С таким везиром не разбогатеешь…
– Он продался купчишкам, – уверяли богатые землевладельцы. – Он собирается из Хамадана сделать базар!
– Он посягает на войско, он предает Хамадан! – вопили хаджибы, больше всего боявшиеся потерять свои выгодные и видные должности.
Купцы и ремесленники облегченно вздохнули при назначении Абу-Али, но они еще не имели достаточной силы, чтобы стать ему твердой опорой, а противники везира давно были объединены.
Хаджибы так и не выполнили приказания эмира о выдаче жалованья войскам из тех средств, которые они считали своими. Зато они подкупили нескольких сотников и десятников и научили их сеять среди солдат слухи, будто Абу-Али отказался выдавать деньги на войско, что он собирается разослать столичный гарнизон по отдаленным пограничным местечкам, а то и вовсе распустить по домам. Какие-то подозрительные муллы бродили по казармам и лагерям, внушая воинам, что Ибн Сина чернокнижник и еретик, околдовавший повелителя, что он не верит в коран и собирается жечь священные книги. Невежественные солдаты легко поддавались на эту удочку. В войсках росло недовольство.
Государственные заботы оставляли для науки только ночь. Однако «Ал-Канон» рос, все больше расширялась и естественнонаучная энциклопедия «Книга исцеления».
Абу-Али радовался тому, что работа над обещанными ученикам и почитателям книгами так успешно близится к завершению. Всякий труд, пользу которого он чувствовал, окрылял его.
До глубокой ночи сидел он за рукописью, дополняя и исправляя написанное накануне.
Сейчас он вспоминал книгу Ал-Фараби «Геммы мудростей». Не во всем он был с нею согласен, но логичная последовательность мыслей замечательного ученого всегда пленяла Абу-Али.
Он писал, и в то же время ухо его воспринимало доносящийся с улицы шум. До него все яснее доходил гул какой-то толпы и отдельные выкрики.
– Ахмад! – негромко окликнул Абу-Али, не отрываясь от работы, своего слугу. – Кажется, где-то по соседству пожар. Сходи посмотри!
Слуга, привыкший спать чутко, немедленно вскочил, вышел, но тут же вернулся.
Его круглое лицо было бледным.
– Хозяин, – сказал он дрожащим голосом, – к нам в ворота стучат какие-то солдаты… Похоже на мятеж. Я сейчас выйду к ним, а ты постарайся уйти через заднюю калитку…
Но Ибн Сина, не слушая слугу и проснувшегося Абдул-Вахида, вышел на крыльцо.
Действительно, кто-то уже ломал ворота. Через дувал бросали камни. Шум все усиливался, словно море подошло сюда, к самым дверям тихого жилища везира.
Абу-Али попробовал окликнуть ломившихся, надеясь на то, что присутствие хозяина, быть может, образумит толпу. Но голос его потонул среди рева возбужденных голосов. Ученый понял, что если кто и услышит его, то не для того, чтобы выслушать.
Он вернулся было в комнаты, чтобы успокоить своих растерявшихся домашних, но застал их за лихорадочной деятельностью. Слуга запирал сундуки с домашним скарбом, видимо считая его очень ценным. Абдул-Вахид торопливо собирал рукописи и засовывал их в мешки. Он знал, что именно это было самым дорогим для его учителя.
Абу-Али, несмотря на их уговоры, снова вышел на крыльцо. За прошедшее короткое время мятежники взломали калитку и ворвались во двор. Здесь они рассыпались по дворовым постройкам. От их пылающих смоляных факелов по стенам и деревьям плясали зловещие тени. Метавшиеся по двору люди своим мрачным обличием мало чем отличались от этих теней.
Абу-Али спокойно и прямо стоял на ступенях Приглядевшись, он разобрал, что почти все нападавшие были солдатами городского гарнизона. В толпе он заметил и нескольких мелких военачальников. Не принимая участия в прямом грабеже и взломах, они больше подзуживали и покрикивали. «Руби его, руби!» – кричали наиболее голосистые. Но во всей властной фигуре ученого, освещенной неверным пламенем факелов, было такое непоколебимое спокойствие, что толпа невольно остановилась и не смела приблизиться даже к порогу.
– Кто разрешил вам врываться в мой дом? Что вам здесь надо? – голос Абу-Али прозвучал повелительно. Резкие металлические нотки, появлявшиеся в нем, когда ученый сердился, теперь оказали свое действие. Шум мгновенно стих. – Это что – мятеж? Позвать сюда немедленно начальников этой своры!
Поведение Абу-Али, видимо, озадачило толпу и заставило ее оглянуться на своих зачинщиков. Узнав в лицо подстрекателей-сотников, Абу-Али насмешливо назвал их по имени.
– Чего же вы боитесь? Подходите, скажите, что вам надо…
– Где наше жалованье? Почему ты хочешь услать нас из города? – раздалось несколько голосов
Абу-Али попытался было ответить, но солдаты загалдели так, что голос ученого потонул в общем крике. В толпе появились неизвестно откуда взятые веревки, солдаты сгрудились, и Абу-Али был схвачен десятком рук.
Однако спокойствие и выдержка ученого спасли его. Солдат, видимо, смутил вид этого спокойного, величественного везира. Они даже не попытались его повалить, ударить или вообще проявить излишнюю грубость. Один из вожаков связал ему руки и тут же повел в тюрьму под конвоем десятка солдат.
Арест произошел так быстро и так слаженно, что причиной его могло быть только чье-то распоряжение, очевидно исходившее из дворцовых кругов.
Город спал. Абу-Али проходил по улицам, высоко подняв голову и презрительно глядя на своих конвоиров. В его ушах звучали строки из книги о философах древности: «Спокойствие – мудрость сильного».
Едва слуга и Абдул-Вахид успели вынести книги и рукописи из дома, как воины взломали запертые двери, и все имущество везира было разграблено, расхищено, разбито…
Не теряя времени, старшие хаджибы известили Тадж-ул-Мулка, что их общий замысел – убить Абу-Али и свалить вину на самоуправство солдат – провалился. Казначей помчался во дворец, приказал разбудить эмира и, подведя его к окну, указал на площадь, кишевшую возбужденными гулямами.
– Вот до чего довел их наш бедный друг Абу-Али, – с великим сокрушением сказал Тадж-ул-Мулк. – Говорил я ему, чтобы он не восстанавливал против себя этих бунтарей. А сейчас или они его убьют, или тебе, о повелитель, придется казнить его. Иначе как бы не повернулось недовольство воинов против твоего дворца… Как мне жаль этого несчастного ученого!..
До смерти перепуганный эмир Шаме готов был пойти на что угодно, но в этот момент в опочивальню вбежал векиль дворца.
– Новая беда, о повелитель! – воскликнул он. – Вторая толпа собралась на базаре и движется сюда. Ко дворцу идут купцы, ремесленники и хаммалы Они прослышали, что жизнь везира в опасности, и собираются его выручать…
Этой новости эмир вовсе не ожидал. Не ожидал ее и Тадж-ул-Мулк. Поняв, что в дело ввязалась большая сила и возникла угроза резни, от которой может пошатнуться трон, хитрый казначей на мгновение растерялся. С большим трудом нашел он выход из положения. Он посоветовал эмиру пообещать хаджибам не допускать ученого к власти и пока что держать в тюрьме, народ же постараться убедить, что тюрьма в настоящее время самое надежное убежище для ученого.
Эмиру на оставалось ничего другого, как послушаться совета Тадж-ул-Мулка. С этим решением повелителя пришлось примириться и горожанам, вставшим на защиту своего везира.
Глава 3
Абу-Али так и не узнал никогда, чего стоило богатым и влиятельным друзьям его освобождение.
Все полтора месяца, что он провел в тюрьме, они пытались добиться для него свободы любым путем– подкупом тюремщиков, подготовкой побега или просьбами, обращенными к повелителю.
Совершенным бедняком вышел Абу-Али из тюрьмы. Поздним вечером он скромно постучался у дверей одного из своих хамаданских знакомых – Абу-Сада ибн Дахдука.
– Пустишь ли ты меня в свой дом? Скроешь ли бедняка, потерявшего все? – тихо спросил Абу-Али у хозяина.
Тот вместо ответа раскрыл объятия.
Престарелый шейх Абу-Сад вел свое происхождение от Хусейна, сына четвертого халифа Али, и считался духовным главою местных шиитов К Совершая в течение многих лет постоянные паломничества в Кербелу, [48]48
Кербела – священный город шиитов.
[Закрыть]к могиле своего пращура, он завел там обширные торговые связи и составил себе крупное состояние. Последнее время он жил на покое, окруженный учениками и почитателями. Ибн Сина, которого он принял не только по рекомендации почтенных и богатых местных купцов, но и из личного к нему уважения, мог чувствовать себя здесь в полной безопасности. Даже сам эмир никогда не рискнул бы нарушить неприкосновенность дома Абу-Сада из опасения вызвать восстание всего шиитского населения страны.
О том, где находится Абу-Али, не знал никто, кроме Абдул-Вахида и преданного слуги. Жил ученый в саду, в большой, увитой виноградом беседке» и целые дни писал. Он начал книгу о восточной мудрости, но одновременно с ней написал несколько трактатов, которые Абдул-Вахид уносил для переписки в жалкий окраинный домик, где он проживал в ожидании изменения судьбы своего учителя.
– О, как я понимаю теперь суфиев и их последователей! – шутя говорил Абу-Али своему верному ученику. – Я и сам, пожалуй, готов стать проповедником нищенства! Не иметь ничего – значит стряхнуть с себя все обязанности. Может быть, действительно в этом и кроются корни счастья? Никогда у меня не было более спокойной жизни, чем сейчас и тогда, когда я жил в Джурджане бедняком… Никогда я не мог так плодотворно работать. Никогда мне в голову не приходили такие простые и такие нужные мысли! Смотри, рукописи мои растут, – Абу-Али жестом показал на груду исписанной бумаги. – Я заканчиваю уже третий трактат, он будет называться «Расследование спорных положений». Разобрав несколько случаев, когда хамаданские факихи вынесли неправильные решения, я попробовал вспомнить свои занятия законоведением и думаю, пришел к более справедливым выводам… А в свободное время, знаешь ли ты, друг мой, чем я занимаюсь?
Абдул-Вахид вопросительно поглядел на учителя. Тот достал с полки странный инструмент, формой своей напоминающий разрезанную пополам тыкву с очень длинным стеблем. Вдоль инструмента были натянуты три струны.
– Вот над чем я бился. Мне хочется назвать его гиджак, – улыбаясь, сказал Абу-Али и протянул инструмент ученику.
Тот осторожно взял его и почувствовал, что корпус еле заметно дрожит в руках от каждого сказанного поблизости от него слова – так легко и отзывчиво оказалось дерево, из которого он был выдолблен. Сам инструмент, казалось, готов запеть от легчайшего прикосновения пальцев. Возвращая его, Абдул-Вахид просительно поглядел на учителя. Абу-Али понял его и еще раз улыбнулся мимолетной ласковой усмешкой, которая одинаково относилась и к ученику и к своему новому созданию.
– Я никогда не думал, – почтительно заметил Абдул-Вахид, пока учитель доставал смычок, – что и нож и дерево покоряются тебе так же, как покоряется всякое знание.
Тихий вечер спускался над Хамаданом. Посинело небо. Выше поднялись розовые закатные облака. Темными стали купы деревьев. К ночлегу понеслись легкие птичьи стаи. Тихо-тихо, словно ветер, пролетевший по вершинам деревьев, запел в руках Абу-Али гиджак.
Абдул-Вахид, присевший на ступеньках беседки у ног Абу-Али, видел, наверное, почти то же, о чем думал, играя, его учитель – широкие просторы родных степей, синие дали неба, далекую юность и какую-нибудь Мариам или Ширин, протягивающую тонкие, нежные руки…
Долго играл Абу-Али, пока луна не поднялась, посеребрив вершины деревьев, пока из дому не пришел хозяин звать к ужину. Тогда только поднял голову Абдул-Вахид и едва слышно прошептал:
– Этим можно лечить душу и исцелять всякое горе, учитель!..
А через какой-нибудь час, за вечерней трапезой, хозяин дома сказал:
– Тебя, о достопочтенный Абу-Али, разыскивают по всему городу: Шамс-уд-Давла жаждет тебя видеть. Он опять болен, и без тебя никто не может ему помочь. Меня расспрашивали сегодня, не знаю ли я, где тебя можно найти.
Абу-Али помолчал несколько минут. В душе его боролись чувство долга врача и обида на Шамса, который не сделал ни единого шага к тому, чтобы предупредить или подавить заговор мятежников, или по крайней мере позаботиться о немедленном освобождении своего везира из тюрьмы. Эмир, видимо, относился к Ибн Сине, как к любому другому своему придворному.
Быть может, других он даже предпочитал, так как лучше понимал их нескрываемую корысть, останавливаясь в недоумении перед бескорыстностью и человеколюбием ученого, за которыми всегда можно было подозревать молчаливое осуждение правителя. И вот этот человек, недавно предавший его, сейчас, ища спасения от недугов, снова жаждет видеть его.
Абу-Али поднял склоненную голову. Долг врача, как всегда, победил.
– Если повелитель болен, я обязан быть у его постели, – решительно сказал он. – Завтра я сам пойду во дворец. Сегодня моя последняя свободная ночь. И я в твоем распоряжении, друг, – поклонился он хозяину.
Возвращение Абу-Али во дворец было встречено так, словно бы ничего не случилось. Больной эмир ворчал, ныл, жаловался, как обычно, на всех окружающих, а после своего выздоровления опять навязал Абу-Али пост везира и как ни в чем не бывало уверял его в своем особом расположении. Истинная причина этого расположения заключалась, пожалуй, в том, что купечество, доказавшее свое доверие ученому и поддержавшее его во время опалы, снова пообещало эмиру заем в случае восстановления Ибн Сины на посту везира. Абу-Али не мог забыть, что своим освобождением он обязан купцам. Делать было нечего, – чтобы отплатить за услугу, пришлось принять эту хлопотливую должность.
Но теперь в его душе не было той горячности, с которой он раньше занимался делами государства. Он убедился, что здесь, в Хамадане, все его усилия, направленные на улучшение жизни народа, встретят постоянное сопротивление придворных. Знатные тупицы никогда не задумаются над тем, как вывести страну из тяжелого полуголодного существования. Абу-Али одному не пробить стены косности и непонимания. К тому же трудно забыть обиду, нанесенную ему правителем.
Дни Абу-Али проводил за работой во дворце или в диване. Но по вечерам к нему сходились гости. Он любил собирать у себя местных ученых и молодежь. Все это были люди, которые хотя бы отчасти понимали его. Многие из молодых людей Хамадана слушали его лекции в глухие ночные часы – единственно свободное время ученого.
Иные гости приходили в дорогих одеждах, другие в скромных затрепанных халатах – хозяин одинаково радушно встречал как тех, так и других. За его столом хватало места и для старого философа и для юного талиба [49]49
Талиб – слушатель, студент медресе.
[Закрыть]медресе.
Но ночные часы были так быстротечны в сравнении с суетливым днем! Как ни был мил воздух собраний, посвященных науке, искусствам, государство властно требовало внимания. Своих забот ни на кого не переложишь, ответственности везира с себя не сбросишь. Приходилось возвращаться к постылым обязанностям первого сановника страны.
Казна опять была пуста. За время отсутствия Абу-Али никто не побеспокоился об ее пополнении, хотя это и было прямой обязанностью Тадж-ул-Мулка. Власти забросили начатые было оросительные работы. В Хамадане повторился недород.
Присмиревшие после возвращения Абу-Али на пост везира военачальники снова начали поднимать голову и уговаривать эмира собраться в поход, соблазняя его недалеким и богатым Таримом.
– Я знаю, что ты против войны, – не глядя ученому в глаза и криво усмехаясь, сказал как-то Шаме. – Я не собираюсь советоваться с тобой об этом. Я пойду в поход, взяв с собою Убейдаллаха ат-Тейми, а га останешься здесь. Я хочу быть уверенным в том, что страна моя в верных руках.
Голос эмира задрожал, и Абу-Али услышал в нем подлинное, непритворное волнение. Он всмотрелся в лицо Шамса. Оно было болезненным, бледным, одутловатым.
«Ему уже, кажется, недолго ходить в походы, и, вероятно, он чувствует это», – подумал ученый, а вслух произнес:
– Ты совсем не думаешь о своем здоровье, повелитель, между тем годы идут, и ты не становишься здоровее.
Эмир Шаме махнул рукой.
– Мне надоело голодать и пить твои микстуры. Удачный поход вылечит меня лучше, чем все врачи… Я хочу, – немного помолчав, начал он снова, – чтобы ты приглядел здесь за Тадж-ул-Мулком. Иногда мне приходит в голову, что он не прочь был бы передать трон моему сыну, не дожидаясь времени, назначенного аллахом. Уж слишком он очаровал мальчика и вошел к нему в доверие. Такие вещи бесцельно не делают. Сама привязан к тебе, поговори с ним… Может быть, он перестанет слушаться Таджа…
– Я давно предупреждал тебя об этом, повелитель. Боюсь, не поздно ли сейчас…
– Я знаю, – ответил Шаме, виновато поглядывая на Абу-Али. – Я знаю, ты всегда бываешь прав. Зря я не слушался тебя раньше, когда я был сильнее и страна моя тоже была сильнее и богаче… Вернувшись из похода, я буду править по-другому…
Это был один из последних разговоров Ибн Сины с эмиром.
Уже через несколько дней Шаме объявил о выступлении в поход.
На равнине под стенами Хамадана выстроилось войско, готовое в путь. Звуки барабанов и карнаев [50]50
Карнай – медный духовой инструмент. Труба длиной то двух метров с низким резким тембром. На карнае обычно исполнялись и исполняются сейчас боевые и торжественные сигналы
[Закрыть]оглашали огромную площадь, занятую отрядами эмира. Плясали на месте застоявшиеся кони, сдерживаемые тугими поводьями. Солнце играло на медных и стальных шлемах, щитах и конской сбруе. По дороге, уходившей на юго-запад, тянулась нескончаемая вереница обозных верблюдов, посланных вперед, чтобы не задерживать движения войска.
Из городских ворот выехал отряд всадников. Это был Шаме, его приближенные, хаджибы и телохранители Эмир сидел довольно прямо на своем жеребце, но невдалеке стояла крытая повозка, куда повелитель должен был пересесть в пути. Его пышный тюрбан, алый бархатный чапан, меч и сбруя коня сверкали бесчисленными драгоценностями, так же как и одежда его свиты. Все это придавало походу вид увеселительной прогулки. Сзади эмира, поднятое лихим наездником, развевалось яркое шелковое знамя, шитое золотом.
Эмир дал повод коню, и тот легко вынес его вперед. Оглушительно завыли карнаи Гарцуя перед неподвижно стоящими войсками, Шаме выхватил свой меч и трижды взмахнул им в воздухе Хаджибы отдали команду, повторенную сотниками, десятниками, и войско двинулось.
Мимо Абу-Али промчались командиры. Один из них, сверкнув зубами и белками глаз, помахал ему рукой. Ученый узнал хаджиба личной охраны эмира.
Везир провожал Шамса до первого села. При прощании эмир не напомнил ему о своей просьбе, но так поглядел на него, что Абу-Али понял все без слов. Глаза Шамса выражали тревогу.
Абу-Али почтительно поклонился, прижимая руку к груди. Эмир несколько повеселел.
– Я верю тебе, – шепнул он, выходя из палатки, где происходило прощание.
Не прошло и десяти дней, как тело Шамс-уд-Давла – раздутый, полуразложившийся труп того, кто почти двадцать пять лет правил Хамаданом, – солдаты на руках принесли в столицу.
Похоронный поезд сопровождали войска, самовольно прервавшие поход и устремившиеся назад, присягать новому повелителю, маленькому сыну Шамса – Сама-уд-Давла.
Похороны и присяга были как бы личным торжеством Тадж-ул-Мулка. Все эти дни он вел себя так важно и многозначительно, словно присягали ему, а не наследнику эмира. Он не скупился на самые доброжелательные улыбки и обещания. Он даже похлопал по плечу Абу-Али и уверил его, что они прекрасно будут работать вместе. Не зря Тадж-ул-Мулк столько лет обвораживал женское население дворца. Вдова Шамс-уд-Давла безоговорочно передала юного правителя заботам Тадж-ул-Мулка. Бывший казначей стал самым важным лицом в государстве.
Абу-Али не стал дожидаться, когда хитрый царедворец начнет отказываться от своих обещаний, и постарался, не принося присяги, скрыться из дворца. Оставаться дома было слишком рискованно, а уезжать пока что было еще некуда, к тому же он надеялся, что в Хамадан приедут приглашенные им родные.
Старый друг, купеческий старшина, помог Абу-Али скрыться. В скромном жилище торговца благовониями Ал-Аттара ученый на какое-то время почувствовал себя в такой же безопасности, как тогда в доме Абу-Сада ибн Дахдука.
Один из друзей, тайно посещавший Абу-Али, передавал ему пожелания купечества и ремесленного сословия Хамадана видеть именно его везиром и руководителем молодого правителя.
– Я хочу уйти от государственных дел, – твердо ответил Абу-Али, – мое дело – наука. В ней я силен, а придворные происки мне чужды, я не умею и не хочу в них разбираться. Все мои мысли только о том, чтобы дождаться родных и уехать с ними куда-нибудь в тихое далекое место.
– Придется тебе бежать, – решил купеческий старшина. – Пока что напиши правителю Исфагана Ала-уд-Давла. Он покровительствует ученым, в его дворце ты найдешь себе тихое пристанище. Дай мне письмо, я его отошлю с верным человеком…
Абу-Али, не раздумывая долго, поступил так, как советовал друг. Когда он написал письмо, ему показалось, что он сделал самый решительный шаг, на который только был способен. Успокоившись на этом, Абу-Али сел за работу.
В доме Ал-Аттара у него не было ничего, даже листа своей бумаги, не говоря уже о книгах или записках. Хозяин принес ему пачку толстой самаркандской бумаги и несколько тростинок – больше Абу-Али ни в чем не нуждался. Он сел за работу. Большим подспорьем была его замечательная память. Каждая книга, которую он однажды прочитал, отпечатывалась в ней навсегда. Даже в книгах, только просмотренных им, Ибн Сина умел находить основную мысль автора и запоминать ее. Ему не нужны были ни выписки, ни справки, он помнил не только основную суть произведения, но и многие отдельные выражения.