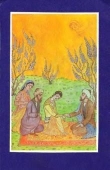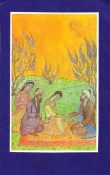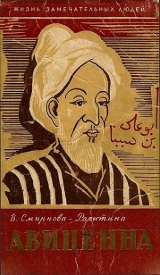
Текст книги "Авиценна"
Автор книги: Вера Смирнова-Ракитина
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 14 страниц)

Мы уже много знаем об Ибн Сине, знаем его жизнь почти до сорока лет, его труды, слыхали о книгах, которые им написаны, об учениках, которые собираются около него всюду, куда ни закинет его судьба, но мы еще не знаем, что, собственно говоря, представляет собой Ибн Сина как ученый и философ, в чем он новатор, в чем подражатель или продолжатель, чему обучает молодежь.
Попробуем в этом разобраться, пока Абу-Али с такими сложностями добирается до Хамадана.
Для того чтобы нам понять Ибн Сину и все его значение, надо постараться забыть множество вещей, известных нам с младших классов школы, но незнакомых в те далекие времена даже крупным ученым. Забыть, например, что Земля вращается вокруг Солнца, поверить тому, что она и только она – центр вселенной, забыть, что сердце гонит кровь по телу, о том, что существуют два круга кровообращения, поверить в демонов, овладевающих людьми и вызывающих психические припадки, забыть, что существуют кислород, водород и азот, не удивляться попыткам получить слиток золота из куска неблагородного металла с помощью таинственного «философского камня», исключить из своего обихода телефон, телеграф, радио, но поверить в приворотные корешки, в дурной глаз, в нечистую силу. Да и мало ли что нам надо было бы забыть и во что поверить, чтобы сравняться в знаниях со средним, и даже образованным человеком средневекового Востока.
Но вместе с тем не надо забывать, что образованный человек той эпохи, в которую жил Ибн Сина, был хорошо знаком с античной философией. До него дошли в переводах на арабский язык произведения Аристотеля. Пифагора, Эмпедокла, Аполлония Тианского, Платона, Плотина и других. Правда, многое дошло до него не в точных переводах, а либо в комментариях, либо в пересказах восточных философов, особенно подчеркивающих идеалистические и мистические высказывания античных мудрецов.
Запомните, однако, что это вовсе не значит, что одни лишь арабы являются проводниками знаний, и обусловлено всего лишь тем, что арабский язык был латынью Востока, им пользовались как научным языком и сирийцы, и персы, и таджики, и тюрки – словом, все народы, входящие в состав халифата.
Образованный человек не плохо знает математику – геометрию от Эвклида и алгебру от арабских и хорезмийских ученых. Это единственная точная наука, более или менее свободная от суеверия. Остальные науки, которые знает образованный человек, находятся еще только в зачатке – химия, география, физика, астрономия, геология, геодезия и другие предметы. Все его знания перемешаны с кучей неточностей, предрассудков, бездоказательных утверждений. Даже ученые люди считают метафизику заслуживающей большего доверия, чем физика, астрологию предпочитают астрономии, алхимию – химии.
В средние века в Азии, так же как и в Европе, царствовали мистицизм и вера в таинственные авторитеты. Вся жизнь была проникнута волшебствами и чудесами. Слухи о сверхъестественных явлениях распространялись с быстротой телеграфных сообщений. Никогда ни одна эпоха не была так богата предчувствиями, внутренними переживаниями, фанатизмом и фантастическими увлечениями.
Для современников Ибн Сины легендарный Гермес Трисмегист был высшим авторитетом. Они зачитывались «Теологией» Аристотеля, мистическими книгами вроде «Тайны тайн» и им подобными.
И вот когда над этой смесью знаний и предрассудков, прозрения и невежества поднимается человек смелый, прямой, убежденный и говорит на основании своего опыта, как это сделал Абу-Али, на основании своих экспериментов и исследований, что философского камня, судя по всему, нет, что демонов тоже нет, а психические заболевания зависят от физических причин, что отцы медицины Гален и Гиппократ, утверждая, будто Плеяды, Сириус, Арктур оказывают дурное влияние на здоровье, не правы, что деятельность гадателей – шарлатанство, что золота нельзя сделать из других металлов, что в грязной воде водятся мельчайшие живые существа, вредные для здоровья и разносящие болезнь, что интеллект человека сосредоточен в мозгу, а не в душе, и что даже сам аллах, если он существует, крайне ограничен в своих функциях, – неудивительно, что такой человек глубоко враждебен закостеневшим мракобесам, если же он еще и обучает всему этому молодежь, то можно его считать еретиком и опаснейшим вольнодумцем.
Неудивительно, что к такому человеку, за пятьсот лет до Декарта заявившему: «Я мыслю – следовательно, существую!» [45]45
Это высказывание Ибн Сины помещено им в труде «Ишарат» («Тезисы»).
[Закрыть]– тянутся все жаждущие подлинных, подтвержденных опытом знаний, его ненавидят и преследуют ханжи и правоверные догматики. Неудивительно, что он готов скитаться и бедствовать, но не ехать к султану Махмуду в Газну.
На счету у Абу-Али уже много книг и трактатов. Если мы назовем только некоторые из них, и то видно будет, как много он поработал, как широк круг его интересов: «Книга собранного», «Книга итога и результата», «Книга благодеяния и греха», «Книга исцеления», «Книга спасения», «Книга споров», «Книга объяснения того, что обладает формой», «Трактат о судьбе и предопределении», «Трактат о буквах», «Сокращение начал геометрии Эвклида», «Пределы небесных тел», «Рассуждение о цикории», «Логика» и многие другие. Список этот еще будет увеличиваться.
Много написано им философских многотомных работ, начаты книги по географии, физике, химии, по геологии. Мы еще не касаемся крупнейшего его труда по медицине. Философские книги, которые уже написаны, как и те, что начаты, даже те, что только замыслены, все они преследуют одну цель, отражают законченные и продуманные взгляды не подражателя и комментатора, а самостоятельно мыслящего философа, по-своему глядящего на мир, создавшего свою концепцию всего сущего.
Абу-Али ибн Сина не был последовательным и законченным материалистом, и смешно было бы выдавать его за такового. Но таковых не было ни среди его предшественников, ни среди его последователей в течение еще многих и многих веков. Он был великим сыном своей эпохи и своей среды, и потому неудивительно, что оказался дуалистом, то есть философом, считавшим материю и дух двумя самостоятельными, независимыми началами. Однако материалистические тенденции столь явственно проступали в его высказываниях, что надо удивляться, как при жизни ему удалось избежать кары за еретичество.
В одной из книг он писал: «Бытие не имеет границ, оно не имеет рода… Нет вещи более распространенной, чем бытие, оно не имеет контура, потому что нет вещи более известной, чем оно… оно есть то, после чего идут все вещи».
Абу-Али считал вслед за Аристотелем, что материальный мир вечен и несотворен, что все тела природы состоят из материи. «Нет абстрактной телесной формы без материи, – говорил он, – телесная форма содержится в самой материи, и тело образуется из форм этой материи…» Материя, как предпосылка всего действительного, есть нечто первичное, не возникающее и не исчезающее.
Мир, по мнению Ибн Сины, возник не по произволу бога, а в силу непреложной необходимости. Мир так же вечен, как и абсолютное начало – бог. Причина и действие существуют одновременно. Если бог, как причина мира, вечен, то и мир, как результат его действия, вечен. Движение внутренне присуще природе, но оно может быть потенциальным и только потом проявляться.
Он смело ставил множество принципиальных философских вопросов и не менее смело решал их, оригинально, по-своему, хотя не редко и противоречиво. Эта противоречивость была естественным отражением и следствием той полной противоречий эпохи, в которой жил и творил Абу-Али. Ибн Сина был одним из первых, если не первым из средневековых ученых, отошедшим от признанных догм и по-своему, самостоятельно поставившим вопрос об отношении тела и духа. Он творчески и принципиально подошел к этой проблеме, и до него и впоследствии волновавшей бесчисленные поколения философов. Он попытался установить некую промежуточную инстанцию – нафс (цушу), которая, будучи по субстанции одинакова с духом, близка к телу и является якобы непосредственным двигателем тела. Эта непоследовательность обусловливалась самой эпохой, средой, воспитанием, учениями предшественников и многими другими факторами.
И тем не менее Ибн Сина во многом был новатором, многое из его взглядов осталось в философии и дало новые яркие ростки. Так, например, его идея о ступенчатости в развитии сил разума оказала влияние на испанского философа Хуана Уарте, а через него на Бэкона, Декарта, Спинозу и других позднейших мыслителей. Свои воззрения по этому поводу Абу-Али неоднократно излагал ученикам и впервые, как мы помним, поделился ими с юношами, учившимися у него в хорезмийские годы. Его требование логической строгости построения мысли, доказательности выдвигаемых положений, признание значения чувственных восприятий в познании были необычайно смелы для его времени и очень прогрессивны.
В «Книге исцеления», а также в «Книге знания» Абу-Али придает большое значение изучению природы, отстаивает принцип единства логического мышления и опыта, разума и эксперимента. Он только ту науку считал подлинной, в которой теория соединяется с практическим применением.
Все эти идеи, так же как и ряд высказываний о логике, оказали большое влияние на развитие философской мысли во всем мире. Ибн Сину как философа чтили не только на Востоке, но и в средневековой Европе.
Свои научные исследования и открытия Абу-Али старался изложить письменно и распространить среди ученых, неоднократно предупреждая своих учеников, чтобы они не передавали этих знаний в руки невежд и ханжей, так как те могут использовать их во вред людям.
Чтобы не подвергаться преследованиям духовенства, Ибн Сина вынужден был маскироваться, скрывать свои подлинные взгляды. В конце книги «Указания и наставления» он с горечью написал:
«О брат!
Истинно я сбил для тебя в этих указаниях масло истины и дал тебе в тонкостях изречений то из мудрых наставлений, чем угощают, оказывая почет. Храни же это от тех, кто не блюдет своей чести, от невежд и от тех, кто лишен сверкающего разума, опыта и привычки заниматься науками».
Тягостную эту борьбу сверкающего разумом и предвидением Ибн Сины с невеждами и реакционерами мы можем оценить только теперь. В те же времена мало кто понимал его, мало кто сочувствовал его научной смелости и хорошо еще, когда ценил как замечательного врача, не вдаваясь в его философские конфликты с догмами ислама.
Но все это понять и оценить мы можем только теперь, а тогда для большинства людей Абу-Али был только скиталец-врач.

Шейх-ур-раис – наставник ученых


Все хамаданские ученые с утра собрались в садовом павильоне дворца, напуганные известием об ухудшении здоровья повелителя. Они толпились в тесном маленьком помещении и жадно ловили каждый слух, каждую новость, доносившуюся до них из дворца Шамс-уд-Давла.
– Неужели нет никаких средств? – раздраженно и желчно обратился старый законовед к математику, словно тот должен был знать это. – Неужели нельзя спасти его?
– Спасти можно, – ответил за математика придворный философ, – но пойдут ли на это врачи?
– О каком средстве говоришь ты, почтенный?
К философу повернулись все головы.
– Я-то средства не знаю, но мне сказали, что к нам в Хамадан прибыл Абу-Али ибн Сина. Он, наверное, знает…
– Абу-Али ибн Сина?! – чуть ли не хором закричали ученые. – Как, неужели Абу-Али здесь? И за ним еще не посылали?..
– Так вам Убейдаллах и пошлет! – засмеялся поэт. – Он его пригласит в последнюю минуту, а потом заявит, что Абу-Али уморил повелителя.
– Но как же быть? Как дать знать эмиру, что Абу-Али здесь? Ведь только он может помочь ему? – волновался законовед.
А математик уже бежал ко дворцу, к покоям эмира.
Окольными путями добился он того, что ему вызвали любимого слугу повелителя. Сообщив о прибытии Ибн Сины, он настоятельно повторил несколько раз:
– Так не забудь, что я первый узнал о приезде Абу-Али и, трепеща о здоровье повелителя, да будет благословенно его имя, побежал сообщить об этом. Ты не забудешь?..
Спохватившись, побежали ко дворцу и остальные ученые, пытаясь через знакомых слуг передать весть о приезде Абу-Али эмиру или его родным, лишь бы миновать придворных медиков, стеной стоявших около постели повелителя Хамадана.
К вечеру сообщение дошло по назначению, и начались розыски ученого по всему городу.
Наконец его нашли в скромном домике местного купца.
– Достойного и мудрого врача Абу-Али ибн Сину требуют во дворец к пресветлым очам повелителя, да будет прославлено его имя вовеки! – выкрикнул посланный.
– Эти дураки, – задыхаясь, раздраженно обратился Шамс-уд-Давла к введенному к нему Абу-Али, – хотят меня уморить! – Он указал на стоящих в ногах кровати врачей. – Редко я встречал таких ослов! Пятые сутки у меня колики, а они все совещаются, и все их средства только усиливают боли. Ой, больно мне! Уберите сейчас же припарки и убирайтесь вон! – неожиданно закричал он и в изнеможении откинулся на подушки.
Эта сцена живо напомнила Абу-Али болезнь эмира Бухары Нуха ибн Мансура. Видно, все повелители были на один манер.
Врачи засуетились. Абу-Али подошел к главному медику Убейдаллаху ат-Тейми и почтительно приветствовал его. Тот церемонно поклонился и на все вопросы Абу-Али со скрытой издевкой отвечал:
– Ты мудрее и ученее нас, почтенный Абу-Али, ты сам увидишь все. Зачем тебе слушать мои глупые объяснения? – Снова поклонившись, он на мгновение припал к постели повелителя и важно удалился.
«Берегись, Абу-Али, – насмешливо подумал ученый, провожая глазами его грузную фигуру. – Не бери чаши из рук Убейдаллаха!»
За главным медиком удалились и остальные. Абу-Али остался один около стонущего к кряхтящего эмира. Он знал, что десятки глаз прильнули к замочным скважинам, десятки ушей слушают за стеной.
Не торопясь, Ибн Сина достал из принесенного с собой ящичка порошок, дал принять его правителю Хамадана. Когда тому стало несколько легче, приступил к обследованию.
Сорок дней и ночей провел Абу-Али около постели Шамс-уд-Давла. От любого другого больного можно было бы отлучиться, но не от Шамса. Как только Ибн Сина уходил хотя бы ненадолго, эмир тут же устраивал какую-нибудь пирушку и растравлял язву в кишечнике, которая только-только начала рубцеваться под влиянием режима, диеты и лекарств Ибн Сины. За пирушку эмир расплачивался новыми болями, корчами и коликами
Находясь при эмире, Абу-Али невольно присутствовал при докладах его приближенных, при решении государственных дел. Так он познакомился с положением страны и убедился, что оно совсем не блестяще, так же как и состояние эмирской казны.
В покоях Шамса Абу-Али постоянно сталкивался с государственным казначеем Тадж-ул-Мулком. Это был хитрец с ласковым лицом и нежным голосом. Делая вид, что он больше всего беспокоится и печется о делах Хамадана, Тадж не забывал себя. Хаджибы хамаданского войска ненавидели его лютой ненавистью, ходили жаловаться к Шамсу, но все равно казначей считал нужным снабжать войска деньгами только перед походами. Добрые отношения были у него с одним лишь хаджибом личной охраны эмира.
После одной из постоянно повторяющихся ссор из-за денег, недополученных войском, проходившей на глазах у повелителя, Шаме, резко отвернувшись от казначея и хаджиба, подошел к Абу-Али.
– Я плохо чувствую себя, друг мой, – сказал он, искоса поглядывая, как почтительно кланяются, уходя, его приближенные. – Эти солдаты и казначеи совсем закрутили мне голову! – воскликнул он, бросаясь на тахту. – Напои меня чем-нибудь, чтобы прошла боль. Мне надо поговорить с тобой.
– Чем же мне поить тебя, повелитель, если ты, как мне передавали, вчера ел не то, что тебе полагалось?..
Эмир поглядел на него гневными глазами.
– Мне надоели твои приказания. Я эмир и не позволю, чтобы со мной так обращались. Ты можешь командовать больными из простолюдинов, а не государями!.
– Когда меня зовут к больному, я не спрашиваю, родился ли он во дворце, или в последней лачуге. Я помогаю ему так, как велит мне моя совесть и моя наука. Только им я повинуюсь во всех случаях, – с достоинством ответил Абу-Али.
Эта благородная независимость подействовала даже на Шамса. Он задержал врача и покорно выслушал его советы.
– Придется мне тебя слушаться, – посмеиваясь, заговорил эмир – Через месяц я должен быть здоров, как самый крепкий и сильный солдат моего войска.
– Через месяц ты не будешь еще так здоров, но будешь чувствовать себя лучше и то, если будешь меня слушаться.
– А я говорю, что должен быть таким, каким был в молодости! Что ты за доктор, если не можешь вылечить своего повелителя!. Ты смотри, мои придворные, которые гораздо старше меня, куда здоровее… – Лицо Шамса стало капризным и злым.
– Я не аллах, а только врач, – сухо заметил
Абу-Али, – и я не могу в такой короткий срок восстановить то, что ты разрушал годами.
– Что за придворные у меня, – вздохнув, сказал Шаме. – Один говорит, что не может ковать деньги, другой уверяет, что не может усмирить своих воинов, третий не может вылечить меня! Зачем вы все мне тогда нужны? Видно, мне самому надо быть и казначеем, и хаджибом, и врачом!
Шаме злился
Абу-Али спокойно, размеренными движениями собирал свои инструменты и лекарства. Он знал, что у эмира за последнее время создалась привычка все рассказывать ему, и сейчас ждал, когда же он объяснит причину своего дурного настроения.
– Мне надо идти в поход! – выпалил, наконец, Шаме, глядя в упор на Абу-Али. – Ты это понимаешь?
Ученый молчал.
– Ты слыхал сегодня, как пуста моя казна? Ты слыхал, как ссорятся казначей и хаджибы? Только в походе можно добыть золото. Так вот, через месяц, не позже, я должен выехать из Хамадана. Понятно? Что же ты об этом думаешь?
– Что касается твоего здоровья, то думаю, что, соблюдая все предписания, ты сможешь руководить войском. Но мне не понятно, государь, почему ты видишь в войне единственную возможность пополнить казну?
– А откуда же иначе можно достать золото, хлеб, скот, товары и рабов? Ты же сам слышал доклад везира? Население обеднело, лето было неурожайным, сборщики податей не в силах взыскать недоимки. Да и налоги уже собраны за два года вперед.
– Вот это-то и плохо. Если хозяин, желая снять плоды, срубит яблоню, то на следующий год не будет ни яблони, ни яблок. Подати надо не увеличивать, а уменьшать, тогда в казну потечет больше дохода. Когда налег высок, его в силах уплатить только десять человек, а девяносто других разорятся и уже ничего не будут вносить. А когда он не обременителен – заплатят все сто. И с них ты возьмешь в общем гораздо больше, чем с десяти. А будут налоги легче – купцы ввезут больше товаров, ремесленники изготовят больше изделий. Тогда и война тебе не понадобится. Кроме того, надо позаботиться и об орошении земли – у вас в Хамадане на это мало обращают внимания, а от этого зависят урожаи. Да что мне-то говорить тебе, ты сам все это должен знать лучше других…
– Я боюсь, что ты-то говоришь о том, в чем мало смыслишь, – грубо прервал его Шаме. – Пока я буду вводить орошение, поощрять развитие торговли и ремесел, мои войска взбунтуются от голода, а соседи, воспользовавшись этим, захватят Хамадагг. Когда я получил в наследство свою страну, она была вся в долгах, так же как и сейчас, я никогда не мог подумать об изменении существующего положения, все доходы государства были или от войн, или от налогов. Не мне это менять… Вот и сейчас мои солдаты требуют денег и обязательно поднимут мятеж, если им не заплатить. Лучше скажи мне, удачен ли будет мой поход? Ты ведь знаешь небесную науку? Благоприятствуют ли светила моему выступлению?
– Я действительно немного разбираюсь в движениях планет, могу высчитать, когда каждая из них завершит свой круг и окажется в том или ином созвездии. Но я не верю, чтобы они были способны управлять событиями и судьбами людей на земле.
– Ну, это мне сделает мой астролог. В этом деле он, как видно, понимает больше тебя…
Шаме серьезно готовился к походу, действительно не хотел болеть, и Абу-Али мог теперь доверить его своим помощникам.
Глава 2
По распоряжению эмира Абу-Али предоставили небольшой хороший и удобный дом, недалеко от дворца. Едва переехав туда, ученый засел за рукопись.
Наблюдение за болезнью Шамс-уд-Давла пополнило его знания о желудочных заболеваниях. Он напряженно следил за действием различных лекарств на организм повелителя и записывал все признаки болезни, состояние сердца и пульса, характер сна, настроение больного, периодичность припадков и многое другое. Сопоставив все эти наблюдения с тем, что замечал ранее у других больных, Абу-Али решил собрать их в одно целое. Так зародилась его «Книга о коликах» – «Китаб-ул-куландж», предназначенная для врачей.
Отдыхая от работы, Абу-Али охотно бродил вечерами по Хамадану. Городок беспорядочно раскинулся у подножья гор, поэтому узкие улицы его то стремительно лезут вверх, то скатываются вниз. Редкая из них проходит прямо короткий путь от городских ворот к площади. А площадей в городе множество, на них вырыты общественные колодцы, около которых кипит жизнь. По вечерам здесь собираются окрестные жители поговорить о событиях дня, посудачить о соседях и пожаловаться на тяготы жизни. Абу-Али любил пройти по площадям медленным шагом, прислушиваясь к разговорам. Часто заходил он в старенькие мечети, где царил покой гробниц, с любопытством осматривал толстые высокие стены города, история постройки которых терялась в глубине веков. Среди камней он находил обломки еще более древних зданий или с удивлением останавливался перед мощными каменными глыбами, сохранившими барельефы с изображениями крылатых быков, луристанских колесниц, сказочных чудовищ с телами животных и лицом человека.
Привлекали ученого и работы ремесленников. В последние недели чувствовалось особое оживление в рядах кузнецов и оружейников. Всем было уже известно о предстоящем походе. Начальники отрядов и дихканы, собирающиеся принять участие в войне, покупали и заказывали оружие. До позднего вечера горели горны, слышались частые удары молотов. Мастера спешили заготовить щиты и шлемы, выковать побольше мечей и копий. Не всегда можно было так заработать! Лихорадочно работали и седельщики, вырезывая из дерева ленчики, набивая волосом кожаные подушки седел, сшивая сбрую и переметные сумы.
Эти приготовления к войне вызывали грусть и возмущение в душе Абу-Али. Гораздо радостнее было смотреть на мастерство переписчиков-каллиграфов или художников, украшавших затейливыми узорами страницы книг, на искусных ковровщиц, под быстрыми руками которых распускались яркие цветы, обрамленные причудливым орнаментом.
Правду сказать, не всегда Абу-Али после этих прогулок возвращался домой. Хамаданские знакомые наперебой зазывали к себе прославленного ученого.»
Мужественная красота Ибн Сины, которому было уже за сорок, его величественное спокойствие мудреца, вдохновенное лицо и одиночество привлекали местных красавиц. Не от одной получал он записочки и знаки внимания, которые заставляли покачивать головой скромного Абдул-Вахида.
Как-то ему попалось небрежно брошенное учителем четверостишье:
Абдул-Вахид, тщательно собиравший и сохранявший каждую бумажку, исписанную рукой учителя, прочел это стихотворение и почему-то покраснел.
…Приготовления эмира к походу заканчивались. Каждый день в город прибывали закупленные у кочевников верблюды, стягивались отряды гулямов из дальних гарнизонов и крепостей. Это были буйные, недисциплинированные воины. Они обирали местных жителей и торговали на городских базарах награбленным. Все ждали с нетерпением дня, когда эта свора покинет Хамадан. В свою очередь, эмир поджидал дихкан с ратниками, которых им полагалось выставлять от каждого поместья. Большинство из них сообщило, что не явятся, так как опасаются нападения соседей. Эмир слал гонцов за гонцами, но скоро убедился, что все способные носить оружие уже собраны и ждать больше некого.
Абу-Али с отвращением посматривал на разноплеменных воинов, собравшихся под знаменами хамаданского эмира. Он, так же как и все население города, ждал того дня, когда армия, наконец-то, тронется в поход. Но накануне отъезда Шамс-уд-Давла вызвал его к себе и приказал быть с ним в пути.
Ученому вовсе не хотелось отрываться от своих работ – «Книги о коликах» и одновременно начатой «Книги о сердечных лекарствах».
– Зачем я тебе? – спросил он эмира. – В военных делах я ничего не смыслю и не могу быть тебе полезным.
– Я хочу иметь с собой своего врача. Аллах знает, не станет ли мне в походе хуже. К тому же меня могут ранить.
– Но у тебя есть постоянный походный врач Убейдаллах ат-Тейми.
– Я перестал ему верить. Ты поедешь со мной.
Делать было нечего. Абу-Али собрался быстро.
Путь на Керманшах лежал через горную, труднопроходимую страну. Он то поднимался на покрытые снегами перевалы, то вился по узким ущельям, где всегда можно было ждать неприятельской засады. Люди и животные быстро теряли силы. Кони разбивали ноги об острые обломки скал. Воины большую часть пути шли пешком. Шаме, рассчитывая застать противника врасплох, вел войско кружными путями – едва проторенными горными тропами. Но его гулямы начали грабить и убивать, ка к только вышли за пределы Хамадана Тогда недовольные и обиженные жители селений бросились в Керманшах к Аназу и сообщили ему о передвижении воинов Шамса.
Правитель Керманшаха давно относился к соседу настороженно и подготовился к обороне лучше, чем Шамс-уд-Давла к наступлению.
Хитро задуманный, но Плохо организованный поход был заранее обречен на провал. Этого не видел только Шамс-уд-Давла.
После первых же дней пути и первых же стычек войска хамаданского правителя оказались без провианта и боевых припасов. Приходилось идти по голодной и пустынной области. Плодородные земли были отгорожены умело построенной полосой укрепленных селений Аназа. Это предрешило исход событий. Неудачи тяжело подействовали на правителя Хама-дана. У него снова начались боли, он свалился в маленькой грязной горной деревушке, служившей последние два дня местом расположения его ставки.
Но самая неприятная неожиданность была впереди. Не прошло и суток после первого поражения, как выяснилось, что гулямы Шамса-уд-Давла охотно сдаются в плен солдатам Аназа.
– Здесь мы хоть голодать не будем! – заявляли они, разузнав у местного населения, что последние годы в Керманшахе были очень урожайными.
Разъяренный Шамс-уд-Давла призвал к ответу своих военачальников. Старший хаджиб, человек несдержанный и грубый, в ответ на упреки Шамса заявил прямо:
– Солдат босой и с голодным брюхом не солдат. Мы предупреждали тебя, но ты больше слушал своего казначея, который считает, что чем воин голоднее, тем он злее…
Колики довели Шамса до исступления, но он не желал оставаться один – все время призывал подчиненных, требовал отчетов, объяснений, описания битв и стычек.
Абу-Али грустно глядел на эту бесполезную суету и, должно быть, яснее всех видел причины, породившие такие печальные последствия. Лишь поздно ночью, совсем изнемогши от боли и волнения, правитель Хамадана допустил к своей особе врача.
– Ты, наверное, радуешься? – скрипнув от боли зубами, спросил он у Абу-Али, принявшегося за его лечение.
Тот усмехнулся.
– У меня нет причин радоваться.
– Ну как же! Ты же убеждал меня не предпринимать похода! Грозил поражением, грозил болезнью… Твои предсказания сбылись.
– Я никогда не радуюсь чужому несчастью, повелитель. То, что я говорил, подсказывал мне мой здравый смысл. Ты же поступал по своим соображениям. Если я оказался прав, то нисколько не злорадствую по этому поводу, наоборот, готов приложить все силы к тому, чтобы помочь тебе делом и советом.
– Так что же, по-твоему, надо сейчас предпринять?
– По-моему, надо положить тебя на носилки и, пока темно, унести отсюда. Я боюсь, что ты останешься совсем без войска. Посмотри, сколько твоих гулямов, забыв свой долг, перешло к противнику. Если Аназ не сумасшедший и не трус, он на рассвете начнет наступление. Надо его опередить. Пошли также немедля небольшой отряд, чтобы проверить дорогу на Хамадан.
– Аназ не будет наступать завтра, он не успеет еще подготовиться. Кроме того, завтра мы сами должны продолжать наступление, – возразил Шаме.
– Ты спрашивал мое мнение, повелитель, я сказал его тебе. Ты ведь все равно будешь поступать так, как находишь нужным…
Эмир довольно долго лежал неподвижно, закрыв рукой впалые, окруженные синевой глаза.
Не будь он болен, Шаме и не подумал бы спрашивать совета у такого далекого от военных дел человека, как Абу-Али. Он искренне считал себя великим стратегом и воином по той простой причине, что до сих пор его походы кончались успешно.
В этот раз противник оказался гораздо более сильным и подготовленным, но Шаме не хотел считать причиной поражения недостаточную продуманность своего похода. Для него причиной неудачи была только болезнь. Будь он здоров, поход наверняка окончился бы победой. Не замечал он и того, что жители Керманшаха, сплотившиеся вокруг Аназа, отстаивали свою родную землю, свои родные дома, – это придавало им ту силу, которой не было у наемных воинов Шамса.
Никакие увещевания Абу-Али не доходили до эмира. То, что ясно было ученому, оставалось совершенно неубедительным для правителя. Для него гораздо важнее оказалось сообщение о том, что еще один его отряд переметнулся к противнику, – это решило дело. Шаме сделал вид, что болезнь его еще ухудшилась, отдал приказание военачальникам слушаться распоряжений доктора, как его собственных, и спокойно принял известие о том, что носилки приготовлены и ждут повелителя.
Покидая непокорную землю Керманшаха, Шаме не знал, как примут его, побежденного, в Хамадане. Не плохо было бы иметь человека, на которого можно свалить всю вину за неудачный поход. Среди хаджибов такого виновника найти было трудно, за ними стояла армия, которая не дала бы в обиду своего. Только не искушенный в придворных интригах ученый, не имевший еще влиятельных друзей в Хамадане, всегда мог при нужде стать костью, брошенной недовольным. С такими мыслями Шаме возвращался в свою столицу.
…Уже по дороге в Хамадан Абу-Али заметил, что Шамс-уд-Давла необычно внимателен к нему. Это было мало свойственно грубоватому и самонадеянному правителю.
Можно было подумать, что болезнь смягчила его характер и сгладила его упрямство. Но осторожный Абу-Али уже достаточно хорошо знал правителя, чтобы поверить этому.
Он не раз замечал, что его распоряжения нравятся Шамсу своей деловитостью и точностью. Хитрый правитель, даже тогда, когда ему стало значительно лучше, продолжал жаловаться на недомогания, уклонялся от решений, связанных с отступлением от Керманшаха, предоставляя заниматься этим Абу-Али и хаджибам. До сих пор Шаме искренне считал, что делает благодеяние Ибн Сине, приближая его к себе, и только многократная помощь Абу-Али, без которой правитель погиб бы, заставила его изменить мнение об их отношениях. Эмир решил, что если возвращение в Хамадан совершится благополучно и не придется Абу-Али объявлять виновником неудачного похода, то стоит его привлечь к управлению государством.