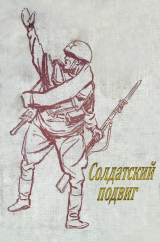
Текст книги "Солдатский подвиг (Рассказы)"
Автор книги: Вениамин Каверин
Соавторы: Борис Полевой,Валентин Катаев,Лев Кассиль,Гавриил Троепольский,Леонид Соболев,Иван Василенко,Лев Успенский,Николай Богданов,Николай Чуковский,Борис Лавренев
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 10 страниц)

Леонид Соболев
БАТАЛЬОН ЧЕТВЕРЫХ
Рис. Ю. Молоканова
Этот бой начался для Михаила Негрёбы прыжком в темноту, вернее – дружеским, но очень чувствительным толчком в спину, которым ему помогли вылететь из люка самолёта, где он неловко застрял, задерживая других.
Он пролетел порядочный кусок темноты, пока не решился дёрнуть за кольцо: это был его первый прыжок, и он опасался повиснуть на хвосте самолёта. Парашют послушно раскрылся, и если бы Негрёба смог увидеть рядом своего дружка Королёва, он подмигнул бы ему и сказал: «А всё-таки вышло по-нашему!»
Две недели назад в Севастополе формировался отряд добровольцев-парашютистов. Ни Королёв, ни Негрёба не могли, понятно, упустить такой случай, и оба на вопрос, прыгали ли они раньше, гордо ответили: «Как же… в аэроклубе – семь прыжков». Можно было бы для верности сказать – двадцать, но тогда их сделали бы инструкторами, что, несомненно, было бы неосторожностью; достаточно было и того, что при первой подгонке парашютов обоим пришлось долго ворочать эти странные мешки (как бы критикуя укладку на основании своего опыта) и косить глазом на других, пока оба не присмотрелись, как же надо надевать парашют и подгонять лямки.
Однако всё это обошлось, и теперь Негрёба плыл в ночном небе, удивляясь его тишине. Сюда, в высоту, орудийная стрельба едва доносилась, хотя огненное кольцо залпов поблёскивало вокруг всей Одессы, а с моря били корабли, поддерживая высадку десантного морского полка, с которым должны были соединиться парашютисты, пройдя с тыла ему навстречу.
В городе кровавым цветком распускался большой, высокий пожар. Там же, где должен был приземлиться Негрёба, было совершенно темно.
Впрочем, вскоре и там он различил огоньки. Было похоже, будто смотришь с мачты на бак линкора, где множество людей торопливо докуривают папиросы, вспыхивающие от частых затяжек. Это и была линия фронта, и сесть следовало за ней, в тылу у румын. Он потянул лямки, как его учили, и заскользил над боем вкось.
Видимо, он приземлился слишком далеко от боя, потому что добрый час полз в темноте, никого не встречая. Внезапно что-то схватило его за горло, и он с размаху ударил в темноту кинжалом. Но это оказалось проволокой связи.
Негрёба вынул из мешка кусачки, перекусил проволоку в нескольких местах, ползя вдоль неё. Тут ему пришло в голову, что проволока ведёт к какой-нибудь румынской части, где можно устроить порядочный переполох огнём из автомата.
Через час проволока привела в бурьян. Всмотревшись в рассветную мглу, Негрёба увидел трёх коней и поодаль – часового. Кони, почуяв человека, захрапели, и пришлось долго выжидать, пока они привыкнут. За это время Негрёба надумал, что можно снять часового, вскочить на коня и помчаться по деревне, постреливая из автомата. Он медленно пополз к часовому, держа в левой руке автомат, в правой – кинжал. Именно эта правая рука провалилась на ползке в непонятную яму и тотчас упёрлась во что-то мягкое. Его кинуло в жар, и он замер на месте. Откуда-то из-под земли шли громкие голоса.
Наконец он понял: мягкое и упругое препятствие было одеялом, закрывавшим отдушину погреба. Там слышался чужой говор, звенели шпоры, стучала пишущая машинка. Негрёба осторожно прорезал кинжалом дырку и заглянул в погреб. Очевидно, это был штаб румынского батальона, может быть полка. Офицеры сгрудились у стола над картой, по которой им что-то раздражённо показывал черноусый и давно не бритый пожилой офицер. В углу на корточках сидели телефонисты. Они подозвали одного из офицеров, и тот начал кричать в трубку. Негрёба под этот шум вынул из сумки гранату. Одной ему показалось мало. Когда в подвале снова начался громкий говор, он достал вторую, потом третью и связал их вместе. Он собрался было кинуть их в отдушину, но тут зацокали копыта, и к погребу подскакали ещё двое. Негрёба дал им войти и тотчас же похвалил себя за это: все офицеры в подвале вытянулись и стали «смирно» – очевидно, один из вошедших был большим начальником.
Негрёба швырнул гранаты в отдушину и кубарем покатился в бурьян. Часовой крикнул, но в подвале грянуло и рвануло, и часовой исчез неизвестно куда.
Уже рассвело, когда Негрёба вышел в тыл переднего края румынских окопов. Он залёг в копне и стал выжидать. Промчался одинокий всадник. Он скакал во весь дух, оглядываясь и пригибая голову к шее коня. Негрёба навёл на него автомат, но где-то близко простучала очередь, и всадник свалился.
Негрёба обрадовался: видно, рядом прятался ещё один наш парашютист. Снова застучал автомат, и Негрёба понял, что тот залёг в кустах рядом.
Он решил переползти по кукурузе к товарищу (всё же вдвоём лучше), но тут завыли мины и стали рваться у кустов одна за другой, и автомат замолк. Тогда из ложбинки показались несколько румын, беспрерывно стреляющих по кустам, где сидел неизвестный Негрёбе товарищ. В их трескотню Негрёба добавил свою очередь. Несколько румын упали, остальные кинулись в кукурузу. Всё снова стихло, только издали доносилась стрельба.
Он пополз к кустам и нашёл там Леонтьева. Тот лежал ничком, подбитый миной. Негрёба повернул его.
Леонтьев открыл глаза, но тут же закрыл их и негромко сказал:
– Миша… пристрели… не выбраться…
Негрёба взглянул в его белое восковое лицо и вдруг отчётливо понял, что тут, в этих кустах, и сам он найдёт свой собственный конец: пронести Леонтьева через фронт один он не сможет, оставить его здесь одного или выполнить его просьбу – тоже. Всё в нём похолодело и заныло, и он ругнул себя – нужно ему было лезть сюда!.. Шёл бы сам по себе, целый и сильный, выбрался бы… Но хотя жалость к себе и к своей жизни, с которой приходится расставаться из-за другого, и сжимала его сердце, он прилёг к Леонтьеву и сказал так весело, как сумел:
– Это, друг, всегда поспеется! Сперва перевяжу… Отсидимся! Двое – не один.
На перевязку ушли оба пакета – леонтьевский и свой. Леонтьев почувствовал себя лучше. Негрёба устроил его поудобнее, всунул ему в руки автомат, и сказал:
– Ты за кинжальную батарею будешь. Лежи и нажимай спуск, только и делов! Отобьёмся! Слышь, наши близко.
В самом деле, впереди, за румынскими окопами, шла яростная стрельба. Видимо, десантный полк атаковал румын. Но морякам от этого было не легче: скоро румыны, выбитые из окопов, хлынут назад, и кустик окажется как раз на пути их отступления. Надо было приготовиться к этому, Негрёба выложил перед собой гранаты, запасной диск к автомату и повернулся к Леонтьеву:
– Гранаты у тебя есть?
– Есть, – отвечал тот, примеряясь, сможет ли он хоть немного водить перед собой автоматом. – Три штуки. Гранаты возьми, а диск мой не тронь. Сам стрелять буду…
Бой приближался. Стрельба доносилась всё ближе. Солнце уже грело порядочно, и тёплый, горький запах трав поднимался от земли. Ждать последнего боя и с ним смерти было трудно.
Сбоку, метрах в трёхстах, виднелась глубокая балка, где можно было бы отлично держаться и бить румын с фланга. Но перенести туда Леонтьева он не мог. Он заставил себя смотреть перед собой, на ложбинку, откуда должны были появиться враги. И уже хотелось, чтобы это было скорее: ему показалось, что нервов у него не хватит и что, если это ожидание ещё продлится, он оставит Леонтьева в кустах и один поползёт к балке, в сторону от пути отходящих батальонов.
– Наши сзади, – сказал вдруг Леонтьев. – Слышишь?
Негрёба и сам слышал сзади чёткие недолгие очереди, но боялся этому верить. Леонтьев зашевелился и закричал слабым, хриплым голосом:
– Моряки! Сюда!
Он попытался подняться, но снова упал на траву. Негрёба высунул голову из куста и в жёлтой кукурузе увидел неподалёку чёрную бескозырку, левее – вторую. Он встал во весь рост и замахал рукой:
– Моряки! Перепелица, чертяка, право на борт! Свои!
Два парашютиста перебежали по кукурузе к кустам.
Это были Перепелица и Котиков. Они прилегли в кусты, и Негрёба наскоро сообщил им обстановку и свой план: перебежать в балку и бить отходящих румын с фланга.

– Тут нам не позиция: тут нас, как курей, задушат… – сказал он. – Тащите Леонтьева, я прикрывать буду.
Котиков и Перепелица подняли раненого. Тот стиснул зубы и закрыл глаза: каждый толчок на бегу отдавался острой болью. До балки оставалось ещё метров восемьдесят, когда из ложбинки затрещали выстрелы и выскочило больше десятка румын. Пришлось положить Леонтьева и вступить в бой. Отбившись, моряки наконец скатились в балку и там нашли ещё одного парашютиста – Литовченко. Он лежал, хозяйственно обложившись гранатами и выставив из травы чёрное дуло автомата. Увидев моряков, он возбуждённо сказал:
– А я уж думал, мне труба! Лежу один как перст, а их сейчас попрёт – только считай… Ну, теперь нас сила!
Леонтьев был без сознания. Негрёба осмотрел повязки, они были в крови. Тогда он снял с себя форменку, разорвал её и сделал новую перевязку. Перепелица тем временем достал бисквиты и шоколад.
– Позавтракаем пока, что ли, – сказал он.
И остальные тоже вынули свои пайки. Но сухие бисквиты не лезли в горло, а шоколад забивал рот, и проглотить его было трудно. Во рту пересохло от бега, солнце уже пекло, и каждый из них дорого дал бы за глоток воды. Но все, оказывается, опорожнили свои фляги ещё ночью. Только у Литовченко случайно оказалось немного воды, и он протянул фляжку Негрёбе:
– Дай ему. Горит человек.
Негрёба осторожно влил воду в рот Леонтьеву. Тот глотнул и открыл глаза.
– Держись, Леонтьич! – сказал Негрёба. – Гляди, нас теперь сколько… Факт, пробьёмся!
Леонтьев не ответил и снова закрыл глаза. Перепелица негромко сказал:
– Попёрли руманешти, гляди…
И точно: из ложбинки прямо на те кусты, где недавно ещё были моряки, выскочила первая толпа отступающих румын. Впереди всех и быстрее всех бежали несколько немецких автоматчиков. Они добежали до кустов, залегли и открыли огонь по румынам, пытаясь остановить их.
– Вот это тактика! – удивился Негрёба. – Что ж, морячки, поможем фрицам? Только, чур, не по-ихнему: прицельно бить, не очередями.
Он засучил рукава тельняшки и выстрелил первым в офицера, размахивающего пистолетом.
Можно было и не стрелять. Румыны не заметили бы этой горсточки, спрятанной в балке. Но это значило, что тогда они прошли бы к себе в тыл без потерь. И моряки стреляли, открывая огнём своё присутствие здесь. Стреляли, потому что каждый выстрел уничтожал ещё одного врага. Стреляли, помогая атаке моряков десантного полка.
Под этим огнём офицерам не удалось ни остановить, ни собрать выбежавшие из окопов роты. Тогда немецкие автоматчики перенесли огонь на моряков, и кто-то из офицеров собрал десятка два солдат и повёл их на балку. Это был уже настоящий бой. Моряки отбили две атаки.
Наконец волна румын прошла, оставив в кукурузе и у балки неподвижные тела. Перепелица оглядел поле боя.
– Порядком наложили! – сказал он удовлетворённо. – А как у нас с патронами, ребята?
С патронами было плохо. На автоматчиков и на отражение двух атак моряки израсходовали почти весь запас. Это было тем хуже, что теперь должны были побежать румыны соседнего участка, и, по всем расчётам, они неминуемо должны были наскочить на балку. Негрёба предложил повторить манёвр и перебраться в соседнюю, которая опять окажется с фланга отступающих, но, посмотрев на Леонтьева, сам отказался от этой мысли. Моряки помолчали, обдумывая.
– Что ж, – сказал Негрёба, – видно, тут надо держаться. Патроны беречь на прорыв. Отбиваться будем только гранатами. По тем, кто вплотную набежит.
Они замолчали, выжидая, когда появятся враги. Потом Перепелица достал из мешка офицерский пистолет и осмотрел обойму.
– Шесть патронов, – сказал он. – А нас пятеро. Хватит. Разыграем, что ли, кому? Понятно?
– Понятно, – сказал Литовченко.
– Ясно, – подтвердил Котиков.
– Точно, – добавил Негрёба.
Он сорвал четыре травинки и откусил одну; подровняв концы, зажал в кулак и протянул Литовченко.
– Откуда у тебя ихний пистолет? – спросил тот Перепелицу, вытягивая травинку, и закончил облегчённо: – Не мне: длинная!
– Наткнулся ночью на офицера, – ответил Перепелица. – Вещь не тяжёлая, а пригодится… Тащи ты, Котиков.
– Может, лучше свои патроны оставить? – раздумчиво сказал тот, осторожно таща травинку. – Погано ихними-то пулями…
Его травинка тоже оказалась длинной.
– Коли ранят, с автоматом не управишься, а этим и лёжа всех достанешь, – сказал Перепелица деловито и потянул травинку сам. – Тоже длинная. Выходит, Миша, тебе… Только ты не торопись. Когда вовсе конец будет, понятно?
– Ясно, – сказал Негрёба и положил пистолет под руку.
– Кажись, пошли, – негромко сказал Котиков. – Ну, моряки, коли ничего не будет, свидимся!
И моряки замолчали. Только изредка стонал Леонтьев. Перепелица перекинул Негрёба бушлат:
– Прикройся. Лежишь, что зебра полосатая. За версту видать.
– Всё одно видать, – ответил Негрёба. – Лучше уж так. Хоть узнают, что моряки.
И они снова замолчали, вглядываясь в лавину румын, покатившуюся к балке.
Солдаты выбегали из окопов, падали на землю, отстреливаясь от кого-то, кто наседал на них, снова вскакивали, перебегая метров на пять-шесть. Они двигались плотной цепью, почти рядом друг с другом, и с каждой перебежкой всё ближе и ближе были к горсточке моряков. Около сотни их побежало прямо на балку, видимо чуя, что тут они смогут укрыться от огня преследующих их моряков десантного полка. Они ещё раз залегли, отстреливаясь, и потом, как по команде, вскочили и ринулись к балке.
Уже видны были их лица, небритые, вспотевшие, искажённые страхом. Они были так близко, что тяжёлый запах пота, казалось, ударял в нос. Они бежали к балке молча и дружно, упрямо и скученно, как испуганное стадо, которое всё сметает со своего пути.
И тогда на пути встал Негрёба, встал во весь рост – крепкий и ладный моряк в полосатой тельняшке, с автоматом в левой руке и с поднятой гранатой в правой.
– Эй, руманешти, огребай матросский подарок! – крикнул он в исступлении и швырнул гранату.
Вслед за ней из балки вылетели ещё три. Взрывы ахнули в потном стаде. Солдаты попадали. Другие отшатнулись и, петляя как зайцы, кинулись в стороны. Моряки бросили ещё четыре гранаты. Проход расширился.
Перепелица крикнул:
– Мишка, а ведь прорвёмся! Хватай Леонтьева!
Моряки мгновенно подняли его, и каждый свободной рукой подхватил раненого. Они ринулись в образовавшийся проход между румынами, и Леонтьев от боли пришёл в себя и снова стиснул зубы, чтобы вытерпеть этот стремительный, яростный бег. Они проскочили уже самую гущу, когда он увидел, что румыны кинулись за ними. Он глянул на Перепелицу и разжал зубы:
– Бросьте меня… Пробивайтесь…
Перепелица выругал его на бегу, и он замолчал.
Румыны подскочили уже близко. Моряков было всего пятеро, а их сотни. Враги, видимо, поняли это и решили взять моряков живьём. Рослый солдат прыгнул на Перепелицу, пытаясь ударить его штыком. Котиков выпустил ногу Леонтьева и выстрелил румыну в затылок, но другой кинулся на него. Перепелица подхватил румынскую винтовку и сильным ударом штыка повалил солдата, за ним – второго и третьего. Потом он бросил винтовку, сорвал с пояса гранату и далеко кинул её в подбегавших солдат. Те отшатнулись, но граната взорвалась среди них. Оставшиеся в живых залегли и открыли огонь. Пули засвистели вокруг моряков. Перепелица упал и крикнул:
– Тащите вдвоём, мы с Котиковым задержим!
Моряки тоже упали в траву и стали отстреливаться последними патронами. Негрёба и Литовченко тащили ползком Леонтьева, а остальные двое ползли за ними, сдерживая румын редким, но точным огнём. Наконец те отстали, спеша уйти в тыл, а моряки неожиданно для себя провалились в опустевший румынский окоп.
Тут они опомнились и осмотрелись: у Котикова пулей была пробита щека, у Перепелицы две пули сидели в ляжке. Литовченко тоже обнаружил, что он ранен. На перевязки ушли все форменки.
Румыны были уже далеко за кустами, и впереди, очевидно, были только свои. Моряки устроили Леонтьева в окопе поудобнее, принесли ему воды, обмыли и напоили, положили возле него румынский автомат и гранаты, найденные в окопе. Он смотрел на все эти заботы, слабо улыбаясь, и глаза его, полные слёз, лучше всяких слов говорили о том, что было в его душе.
Взгляд этот, вероятно, смутил Негрёбу, потому что он встал с излишней деловитостью:
– Полежи тут, больше трясти не будем. Сейчас носилки пришлём. Идём своих искать.
И они встали в рост – четыре человека в полосатых тельняшках, в чёрных бескозырках, окровавленные, перевязанные обрывками форменок, но сильные и готовые снова пробираться сквозь сотни врагов.
И, видимо, они сами поразились своей живучей силище. И Перепелица сказал:
– Один моряк – моряк, два моряка – взвод, три моряка – рота… Сколько нас? Четверо?.. Батальон, слушай мою команду: шагом… арш!


Константин Федин
МАЛЬЧИК ИЗ СЕМЛЁВА
Рис. Лурье
Шёл литературный вечер в Доме Красной Армии, в Москве. Из-за стола я вглядывался в ряды слушателей, затихших в торжественном старомодном зале. Ряды уходили далеко, и лица, ясно различаемые на передних стульях, в конце зала сплывались в лёгкие полосы, желтоватые от электричества и слегка туманные. Аудитория состояла из командиров, прибывших с фронта. Их взгляды как будто старались не выдать горечи, которой наполнен народ на войне.
Вдруг где-то во втором ряду среди суровых и взрослых людей я увидел детское лицо, выделявшееся нежностью красок и блеском широких глаз.
Это был мальчик, одетый в военную форму, с худенькой шейкой, вытянувшейся из слишком просторного воротника с сержантскими петличками. Он был совсем невелик ростом и тянулся, чтобы лучше всё видеть. Каждая чёрточка его лица выражала любопытство.
Всё происходившее с публикой происходило с ним в увеличенном размере: посмеявшись, зал становился опять серьёзным, а его тонкий рот долго ещё сверкал застывшей улыбкой детского удовольствия.
– Смотри, – сказал я своему другу, сидевшему за столом рядом со мной. – Смотри во второй ряд, какой там воин.
И мы начали пристально глядеть на мальчика, дивясь его присутствию здесь, его мирному облику в воинском одеянии, всей его маленькой, необычайно жизненной фигурке.
Минут десять спустя мне передали из рядов аккуратно сложенную записочку:
«Мальчик, на которого вы указали, участвовал во многих делах партизанских отрядов и регулярных частей. Дважды представлен к правительственной награде, привёл десять „языков“».
Мы перечитали несколько раз эти строки, поворачивая в пальцах записку и так и этак, с сомнением косясь друг на друга.
– Надо с ним поговорить, – сказал я.
И, как только кончился вечер, мы попросили разыскать в публике мальчика и привести к нам.
В смежной с залом комнате мы прождали недолго.
Вскоре раздался громкий, отчётливый стук, и очень увесистая дверь неожиданно легко отворилась. Вошёл плечистый, высокий, большерукий лейтенант и, громко сдвинув ноги, распрямляясь и делаясь ещё выше, спросил:
– Разрешите ввести?
В первый момент мы не совсем поняли, кого собирались ввести. Но лейтенант обращался к нам, и мы сказали:
– Пожалуйста!
Уходя, лейтенант оставил дверь приоткрытой, и на смену ему в её узкой щели тотчас появился мальчик в военной форме.
Так же как лейтенант, он щёлкнул каблуками, вытянулся и взглянул нам по очереди в глаза.
Любопытство подавляло всякое иное выражение на его тонком, заострённом к подбородку лице. Мы показались ему достойными самого внимательного изучения, и он был похож на охотника, впервые ожидающего появления из-за кустов редчайшей дичины.
Я думал, он непременно первый задаст нам вопрос: губы его вздрагивали, собираясь выпустить готовые слова. Но дисциплина поборола любопытство, и он стойко ждал, когда его спросят.
– Давно ли в армии? – спросил мой товарищ.
– Вот как сошёл снег.
– А зимой?
– Был у партизан.
– В каких же местах?
Помолчав, он обернулся на высокого лейтенанта и, хотя у того был вполне доверительный и даже добродушный вид, ответил очень серьёзно:
– Места лесные.
Мы засмеялись, и я сказал:
– Смоленские, что ли, леса-то?
Он опять посмотрел на лейтенанта и тоже засмеялся, опустив голову.
– Смоленские.
В смехе его было ещё столько ребячьей прелести, что я почувствовал свежее волнение, какое испытываешь, войдя в детский сад.
– Сколько же тебе лет?
– Четырнадцать, пятнадцатый.
– Ого! А с виду ты года на два моложе.
Он пропустил это обидное замечание без всякого интереса, как будто решив терпеливо дожидаться более занятного разговора.
– А откуда ты родом?
– Из Семлёва.
– Вон что! Знаю, знаю Семлёво: по обе стороны железной дороги – станция и село, и совсем рядом – леса.
– Лес – так вот, подать рукой, – быстро подхватил он и весь раскрылся в своей сияющей детской улыбке, замигал часто-часто и вздёрнул острым носиком.
Тогда с яркостью, почти осязаемой, я увидел этого мальчика среди его родных лесов, каким он был там год или два назад, мог быть там в ту или другую минуту, на весёлых тенистых холмах Смоленщины.
Я увидел его, беловолосого, без шапки, с прозрачными, как осенний ручей, остановившимися на тихой думе глазами, с голубой жилкой на виске и с голубой тенью над приоткрытой верхней губой. Вот он стоит неподвижно, чуть-чуть наклонив голову, прислушиваясь одним ухом, как закачался тяжёлый лапник ели от прыжка золотисто-луковичной белки. Он смотрит, как белка сорвала прошлогоднюю еловую шишку, пошелушила её и сердито бросила, пустую, наземь. Вот он слушает свист лимонной иволги, спрятавшейся высоко на осиновой макушке и словно передразнивающей журчание струи, которая выбилась из болотца внизу, под холмом. Вот он остановился рядом с тонкой беленькой берёзой, ниточкой тянущейся к высокой тихой синеве; и сам он тянется своею замершею думой высоко вверх, в молчании соединившись с вечной жизнью родной природы. Кто знает, не станет ли этот мальчик поэтом, русским поэтом, какого даёт нам смоленская земля иное счастливое десятилетие?
Мальчик стоял сейчас передо мной с отражением внезапного воспоминания на лице о родной своей земле, о родине, которой наделяется человек раз в жизни и которую он несёт потом в сердце через всю жизнь, как отца и мать.
– Где же твой отец? – спросил я.
– В Красной Армии.
– А мать?
– Мать? Не знаю. Говорили, ушла в лес.
– А что про тебя рассказывают, будто ты от немцев «языков» приводил?
– Приводил.
– Это когда партизаном был или в армии?
– И у партизан и в армии.
– Сколько же всего привёл?
– В общем десять.
– Десять немцев? Ишь ты какой! Что же, поодиночке доставлял или как?
Мальчик опять с улыбкой обернулся на лейтенанта, но теперь его улыбка была рассеянной – видно, его расспрашивали об этих случаях уже не в первый раз.
– Когда как, – ответил он врастяжку: – то по одному, а то по двое.
– Как, и двоих приводил? Ну, расскажи, как это было.
Он принял наше изумление за неспособность взрослых понять самые простые вещи, которые для детей обыкновенны, и сказал, оживившись, искренне желая нам помочь.
– Да немцы в разведку чаще пьяные ходят.
– Пьяные?
– Выпьют для храбрости – и пошли. Я один раз притаился в ельнике, лежу. А они по дороге идут из разведки.
– Сколько же их?
– Двое. Я вижу, пьяные.
– Что же, они качаются?
– Ну да, они на лыжах, ноги катятся, они падают, хохочут. Деревня, где они стояли, уже близко. Я пропустил их, а потом из ельника как крикну! И выстрелил! Они – раз! – кувырком. И подняться не могут, лыжи разъехались. Я их и взял.
– Да как же взял? Ты один, а их двое.
– Подбежал, стрельнул одному в руку, а другого по башке револьвером – стук! – и разоружил. Связал им руки назад, а потом наша разведка подоспела. И повели…
Он подождал немного и добавил:
– Ещё раз я тоже взял двоих, а один не захотел идти. Упёрся – никак.
– Ну и что же?
– Ничего. Пристрелил его, а другой пошёл.
Развеселившееся лицо его говорило: видите, всё очень просто, а вы изумляетесь! И выходило действительно так просто, что уже нечего было больше расспрашивать, и мы молча смотрели на мальчика.
Тогда с заново вспыхнувшим любопытством он быстро спросил:
– Вот вы сегодня читали рассказ: что это, правда или вы это придумываете?
– Зачем придумывать? – ответил я. – Правда интереснее всякой придумки.
– Да-а, как бы не так! – протянул он с полным недоверием.
– Разрешите?.. – сказал высокий лейтенант, делая вежливый полушаг вперёд. – Нам пора.
– Вы что же, приставлены к нему? – спросил мой друг, кивнув на мальчика.
– По вечерам, – сказал лейтенант. – Он ведь в Москве первый раз, мало ли – заблудиться может, и движенье порядочное…
Они оба – большой и маленький – сделали шумный поворот по-военному и вышли…









