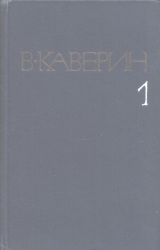
Текст книги "Скандалист"
Автор книги: Вениамин Каверин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 13 страниц)
Бином и флюкции, земное тяготенье,
Движение комет и радуги цвета.
Вкруг Солнца всех планет с Землей коловращенье,
Что за значительных открытий пестрота!
И кончалась:
Как дуб ветвистый над Россией,
Профессор Кони над страной.
В продолжение двадцати минут редактор уверял его, что профессор Кони никогда не занимался физикой. Подождав, пока редактор кончит, он заявил, что профессор Кони был ему лично хорошо известен и что он совершенно гениально предсказывал погоду.
– Что такое, вы думаете, Ньютон? – спросил он, взяв свою бороду в кулак. – У нас в России, как это я хотя бы на себе самом вижу, не умеют и, извините, никогда не умели ценить талантов. У нас этих Ньютонов тьма. Туча! Подумаешь, флюкции, – добавил он, не замечая, что впадает в несомненное со своей поэмой противоречие. – Почему вы думаете, сие важно в-пятых? Он погоду умел по этим флюкциям предсказывать. И перевирал, предсказывал неточно. Я вот однажды хотел по барометру в Павловск поехать. Стрелка на великой суши стояла. Так в Павловске на меня – вы не поверите – не дождь, а прямо грязь падала с неба. А позвони я к Кони – ни за что бы не поехал. Я потом, как только белье нужно было на дворе развешивать, моментально к Кони звонил. И – как в аптеке. Скажет: будет дождь от двух до сорока семи минут третьего – и верно! В два начинался, а на сорок восьмой минуте его как ножом срезало.
Практикантка, не дослушав, зажав рот платком, выскочила в коридор.
Редактор, который был, должно быть, смешлив по природе, усиливаясь не расхохотаться, туго вращал глазами.
Маленький мрачный писатель (неожиданно обнаружившийся в комнате), у которого лицо было несколько похоже на топор, отрывисто, взрывами гудел, поводя над столом унылым носом.
И только у Некрылова нашлось достаточно силы, чтобы объявить, что стихи ему чрезвычайно понравились. Поэму, посвященную усопшей девице Репс, он даже списал себе на память.
Прости, прости ты нас, великая гражданка…
– Это хорошо, не хуже Доронина, – говорил он, списывая.
В твоей невинности и впредь отчизне толк.
И оплатить ее не пенсией из банка —
Бессмертной памятью – наш вековечный долг.
– Это нужно немедленно напечатать, – объявил он очень серьезно и спрятал исписанный листок в записную книжку. – Сбрейте бороду! Вам пора начинать скандалить!
16
Но когда Михайловский, повеселевший как-то до элегантности, ушел, заметно помолодев, лихо помахивая палкой и порыжелым котелком, когда на смену ему явился с полузакрытыми от презрения ко всему миру глазами Сущевский, одетый в гороховое весеннее пальто и клетчатую кепку, когда прозаик с лицом, несколько похожим на топор, принялся рассказывать сюжет своего нового романа, в котором намеревался он вывести на чистую воду родную сестру, когда из столовой, находившейся в тесном соседстве с редакцией, донесся мощный запах кислой капусты, заставивший добротного редактора понюхать воздух и сделать аппетитное, жующее движение ртом, когда солнце покинуло тесные редакционные пределы, перекочевав к бухгалтерам и машинисткам. Некрылов снова помрачнел.
Драгоманов, которого он вот уже с полчаса дожидался, книгу которого он взялся устроить в издательстве (потому что не было в Ленинграде человека, который меньше, чем Драгоманов, заботился бы с своих книгах), этот самый Драгоманов, который застрял в девятнадцатом году, терял рукописи, жил, как Робинзон Крузо, – обманул его и не пришел. Ладно, его дело!
Напевая сквозь зубы, подтанцовывая, Некрылов мрачно шагал по редакции, трогал вещи.
Подойдя к Сущевскому, он молча нахлобучил ему кепку на нос и снова принялся шагать.
Неприятный разговор предстоял ему. И хуже всего – у разговора этого не было начала. Конец был ему ясен. Ясна была середина. Но начало?
«Оно должно быть вежливым, – подумал он с сожалением. – Если я сразу ударю его, он может убежать. Он убежит, и ничего не выйдет».
И вежливое начало набежало на него, как помощный зверь в народной сказке.
– Вот – Сущевский, – сказал он вдруг и остановился перед ним, заложив руки в карманы. – Живой Сущевский. Скажи мне, милый, зачем ты скучаешь? Зачем это тебе нужно? Вспомни время, когда ты двух слов не мог связать без «которых» и без запятых. А теперь тебя печатают и ты великая русская литература. Ведь ты же с утра до вечера должен радоваться. А ты скучаешь!
– Про запятые и «которые» ты мне говоришь четвертый раз, – скучно качая головой, возразил Сущевский. – И даже руки при этом точно так же держишь в карманах. И думаешь, должно быть, что если все запятые и «которые» пропустить, так выйдет сочинение Пушкина «Пиковая дама». Не выйдет.
– Не сердись, милый. Ты знаешь, что я сегодня утром про тебя вспомнил? Когда ты читал свой первый рассказ и я тебя похвалил, потому что ты был еще очень молодой и в валенках, – Зощенко отвел меня в сторону и сказал: «Виктор Николаевич, зачем вы его похвалили? Ведь теперь он будет писать до самой смерти».
Сущевский посмотрел на него, стараясь казаться равнодушным. Он, впрочем, покраснел немного.
– А знаешь, что я вчера вечером про тебя вспомнил, Виктор? – сказал он почти задумчиво. – Когда Есенин сюда приезжал и ты его за «Москву кабацкую» начал топить, – он и не отводя тебя в сторону сказал, что ты именно потому в критики пошел, что из тебя поэт не вышел. И книжку твоих стихов показывал. Ничего себе стихи. Под Маяковского.
Некрылов захохотал, с отчаяньем почесал затылок, развел руками.
– Сдаюсь, – закричал он, – черт с тобой, ставь свои запятые! И скажи мне, что за человек Кекчеев? Кого ни спрошу, все начинают рассказывать про отца. А мне нужно поговорить с сыном.
– Кекчеев – это человек, который учится делать писателям ручкой, – мрачно объявил Сущевский, – он всех нас слопает когда-нибудь. О чем ты хочешь с ним говорить? Он, кажется, собирается возвратить тебе рукопись. На твоем месте я бы и не говорил с ним, а прямо бы по морде. Я его знаю. Он сволочь.
Некрылов приостановился. Сел. Потом переспросил:
– Что? Рукопись? Какую рукопись?
Редактор нервно заерзал на своем стуле, побагровел, сделал сердитое лицо Сущевскому, потом с беспокойством перевел взгляд на Некрылова.
– Не знаю, вот тут говорили, – трогая языком зубы, пробормотал Сущевский. – Будто бы собирается возвратить. Рукопись. Книгу…
Прозаик с унылым носом прервал свой сюжет на самом увлекательном месте, практикантка, по-детски открыв рот, смотрела на Некрылова.
Некрылов рассмеялся.
– Сущевский, у тебя есть секретарь? – спросил он. – Вам всем нужно завести секретарей. Если бы я жил здесь, я бы составил отряд из секретарей и обстрелял бы все ваши издательства с крыши Казанского собора.
– Виктор Николаевич, тут, видите ли, произошла странная история, – беспокойно поправляя пенсне, пробормотал редактор, – книга была принята, у меня в столе лежит проект договора. Я думал, что дело окончится несколькими исправлениями. Но Кекчеев…
– Ну, что вы, пустяки, – так что-то сказал Некрылов и встал, почувствовав необыкновенный прилив вежливости, той самой, которой ему так недоставало, – мне все равно. Я поговорю с ним.
– Он в секретариате, на этой же площадке, направо, – примирительно объяснил редактор. – Вы поговорите с ним. Он настаивает, видите ли…
Но Некрылова уже не было в комнате. Втягивая воздух сквозь зубы, он ушел.
И только за дверью, в коридоре, походка его стала тяжелее, глаза потускнели. Он зубы оскалил, он начал поматывать головой…
17
Машинистка из технического отдела, та самая, что была настоящей розовой стрекозой с белыми и голубыми бантиками, остановилась у дверей секретариата, прислушалась, подняв глаза вверх, и с лицом, порозовевшим от любопытства, побежала дальше. Минуту спустя она вернулась с двумя подругами, похожими несколько на молодых солдат. И подруги казались заинтересованными.
Немного погодя к машинисткам присоединился делопроизводитель из торговой части, известный тем, что умел скрипеть контуженным ухом.
Делопроизводитель, послушав две-три минуты, поспешно выбежал на лестницу и, поймав за рукав Вильфрида Вильфридовича Тоотсмана, вернулся вместе с ним к дверям секретариата.
Секретариат был тем самым служебным помещением, в котором Вильфрид Вильфридович ежедневно проводил ровно шесть часов, минута в минуту, которое он только что покинул, чтобы подкрепить свои силы стаканом чая с французской булкой.
Тем не менее, будучи семьянином, имея за плечами не вполне удачное социальное происхождение, он не только не решился войти в секретариат, по предпочел отдалиться от него на приличное расстояние.
– Там Халдей Халдеевич, ничего-с! Их Халдей Халдеевич разоймет. Будьте покойны, Халдей Халдеевич не допустит драки, – решительно сказал он удивленному делопроизводителю и, строго подняв палец, задом вышел на площадку.
В секретариате шел скандал. Он шел кругами и с каждой минутой забирал высоту.
Он гремел, как труба, слов уже не было слышно. Он был уже не смешон, даже смешливая стрекоза не осмеливалась улыбаться.
– Снимите очки, я сейчас буду бить вас в морду!
И – крик. И отшвырнутый стул прогремел по паркету. Похоже было на то, что начиналась драка.
Целая толпа уже стояла у дверей секретариата.
И никто не решался войти: Вильфрид Вильфридович, в ответственные минуты всегда вспоминавший, что был некогда мировым судьей, кричал с площадки, что «следует ссорящихся примирить искать. Следует, если того учинить невозможно, по караул послать или самим сходить. Следует взять под арест, развести, учинить запрещение».
Поздно было учинять запрещение.
Маленький, измятый, пухлый куль с бельем выкатился из двери и остановился в коридоре, бессмысленно распахнув рот.
Он стоял как бы уже не на ногах, но на штанах, сползающих от страха. Бледный молодой сыр – сыр, с которого упали очки, торчал у него на плечах.
Нельзя было поверить, что это существо, распадающееся от испуга на части, могло курить трубку, отдавать распоряжения, наконец, просто занимать место.
Впрочем, и место его вслед за ним подверглось полнейшему уничтожению.
Некрылов буйствовал. Он рвал ногами бумаги, сброшенные со стола на пол, он расталкивал вещи, он разбивал письменный стол. Письменный стол он разбивал не только с наслаждением, но с ловкостью, с уменьем – как будто он занимался этим всю свою жизнь.
С какой-то бешеной аккуратностью он выбрасывал ящики один за другим, проламывал их каблуками и раздергивал на части. Стол, как сухарь, крошился под его ногами.
Он ходил по комнате упругой походкой, свалив лысую голову набок, почесывая голову, поматывая головой – как бы выбирая, что еще сломать, раздавить, уничтожить. Потом он выбежал вслед за Кекчеевым.
Толпа служащих, соболезнующих, возмущающихся, втихомолку смеющихся, стояла вокруг Кекчеева. Вильфрид Вильфридович, успевший сбегать за стареньким швейцаром, тем самым, что в вестибюле дает номерки от галош, взволнованно объяснял всем, что и по старому уголовному кодексу вызовы, драки и поединки наижесточайше запрещались.
От растерянности он цитировал наизусть целые страницы. Старенький швейцар слушал его и пугливо озирался. В руках у него были чьи-то галоши…
Некрылов одним движением раздвинул толпу. Он был яростен. Ища какое-то слово, он скрипнул зубами.
Сущевский подошел к нему и взял его за руку.
– Виктор, успокойся, да что ты. Да ты с ума сошел, – сказал он, сам немного пугаясь Некрылова и стараясь не смотреть ему в лицо, – опомнись же, чудак, ведь так ты человека ухлопать можешь.
– У меня с ним счеты, с этим прохвостом, – почти не раскрывая рта, хрипло сказал Некрылов.
Представительный старик с генеральскими бакенбардами – издательский мажордом, славившийся своим умением улаживать скандалы, – уже летел по лестнице, решительный, очень строгий.
– Будьте добры немедленно же покинуть помещение, – объявил он торжественно, не подходя, впрочем, к Некрылову близко, – вы мешаете служебным занятиям.
Некрылов заслонился от него рукой, как от пыли.
– Вы семейный? – спросил он коротко. – Уйдите отсюда, если вы семейный.
И наступило замешательство. Стало вдруг очень тихо. Лысый кассир, похожий на Тараса Бульбу, пролез через толпу, неожиданно взмахнул руками и сказал дрожащим от волнения голосом:
– Я советую позвать милиционера.
Кекчеев стоял, держась обеими руками за перила лестницы, коротко дыша, стараясь подобрать отвисшие губы. Давно уже он силился объяснить что-то, пожаловаться кому-то, не то доктору, не то прокурору. Так называемый фонарь разгорался у него под глазом с каждой минутой.
Он тщетно пытался запихать непослушными руками галстук за борт пиджака – галстук болтался у него на шее, растянутый и измятый.
Некрылов медленно подошел к нему, таща за собой Сущевского, который все еще не выпускал его рук из своих. Он уставился на сырное лицо побелевшим, сморщившимся от презрения носом.
– Я забыл вам сказать, – произнес он с какой-то страшноватой плавностью, – чтобы вы… суслик!.. чтобы вы и не думали на ней жениться.
И все видели, как Кекчеев, мельком взглянув в тусклые глаза скандалиста, осел, заискивающе улыбнулся и мелко, очень мелко закивал головой.
18
Но никто не видел, что делал оставшийся в секретариате Халдей Халдеевич. Никто не вспомнил о нем, никто не спросил, почему не поинтересовался он исходом столь редкого под крышей одного из крупнейших ленинградских издательств столкновения.
Между тем Халдей Халдеевич был единственным человеком, которому столкновение это доставило истинное удовольствие. Он и не думал о том, чтобы «ссорящихся примирить искать, чтобы немедленно по караул послать».
Напротив того, когда Некрылов, учинив так называемое оскорбление действием, ходил по комнате, разрушая служебное помещение, уничтожая служебный инвентарь, он предупредительно двигал к нему мебель, поспешно тащил из шкафа папки с делами. Он торжествовал.
Оставшись в одиночестве, прикрыв из предосторожности дверь, он учинил на поверженных кекчеевских бумагах веселую детскую пляску.
Теребя отрастающую бороденку, он танцевал на поверженных кекчеевских делах – танцевал и прыгал, по-медвежьи притопывая ногами. Сняв и поставив на стол старомодные целлулоидные манжеты, он яростно тузил кулачками воздух, накладывая по шее невидимому врагу. Прищурив глаз, плюнув в кулачок, он без промаха лупил в невидимый нос своего бывшего подчиненного. Он был похож на отчаянного мальчишку, на драчуна, оставленного без присмотра, дорвавшегося наконец до драки.
И он дрался всласть, так, как если бы перед ним и в самом деле стоял и смотрел пустыми глазами этот плут, этот плут, этот пролаза!
19
Дождь падает на опустошенные поля Ленинграда.
Снег надает на опустошенные поля Ленинграда.
Дождь, пополам со снегом, пытается заполнить его пустоты.
Он падает, как подкошенный.
Вожатый рукавом отирает стекло.
Он падает, не слушая возражений.
Он падает в постель, потому что крышу отдали починить господину из Сан-Франциско.
Трамвай влачится вдоль проспектов, вползает на мосты, и рельсы гудят на мостах, невыносимо гудят – так, что нужно замолчать, нужно закутать голову в одеяло.
И он молчит. У него есть дело. Очень важное. Он едет по делу. Он знает, что это хина гудит в ушах, – зачем ему дали хины?
Остаются за спиной, отходят в непогоду, в вечность мосты, бесшумно пролетают улицы. Свет мигает.
Ногин смотрит в стекло и узнает себя в темно-прозрачном отражении. Неблагополучная стеклянная тень летит вместе с трамваем.
Тень, притворяющаяся отражением.
Тень, которая есть результат столкновения световых лучей с телом, для них непроницаемым.
Тень, которую ни продавать, ни каким-либо другим способом отчуждать от себя невозможно.
Детская песенка звенит в его голове:
Квинтер-Контер с жабой играл,
Квинтер-Коитер в яму упал,
У Квинтера-Контера мама была,
Но жаба его хоронить понесла.
Трамвай проходит по кругу, достигает предела. Все выходят. Он остается один. Билеты лежат в его руке, тяжелые.
Он не знает, что с ними делать.
Усталая кондукторша смотрит на него нетерпеливыми глазами.
Он тихо кладет билеты на скамейку подле себя и берет новые. Новые люди входят в вагон, отряхивая с одежды мокрый снег. Они садятся справа от него и слева. Это ничего, это хорошо, что у них эмалированные лица!
Женщине со спящим ребенком он уступает место.
С человеком в мокром треухе он говорит о погоде.
Он объясняет ему, что едет с лекции, лекция затянулась. Он показывает человеку в мокром треухе какие-то книги, которые везет с собой, и тот слушает его с сочувственным видом. Он уверяет его, что едет по делу, важному делу, что работает на двух факультетах, что вот заболел, что вот – не переносит хины.
Трамвай, возвращаясь, вползает на мосты, колеса снова гудят. Снова не слышно ни звука. Глохнут на губах слова.
Тогда он говорит человеку в мокром треухе, что рукой, закинутой назад, она придерживала прическу. Придерживала, но прическа все же рассыпалась. Что Кекчеев, Кирилл Кекчеев, был похож на зайца, входящего в тонкости, на зайца с прижатыми, наслаждающимися ушами.
И человек в мокром треухе, не слыша, сочувственно кивает ему головой. Но женщина поднимает голову и грустно смотрит ему в лицо. Ребенок спит у нее на руках, она легонько покачивает его, поправляет спадающее одеяльце.
И Ногин, помахивая тяжелой рукой, начинает напевать ему детскую песенку, которая звенит в его голове, звенит и не дает покоя:
Квинтер-Контер с жабой играл,
Квинтер-Контер в яму упал.
У Квинтера-Контера мама была,
Но жаба его хоронить понесла.
Но как ему доказать, что он ни в чем не виноват перед господином из Сан-Франциско.
20
Большая, как паникадило, круглая лампа стоила где-то бесконечно далеко от него. Матовый колпак оплывал вокруг нее, раздувался, лопался, казался мыльным пузырем, продавленной круглой шляпой.
Потом арап в белом халате внезапно возник перед ним из нарушенного пространства. Черная трубка качалась в его руках, докторский молоток торчал за поясом. Арап щупал пульс, прикладывал к груди толстое волосатое ухо. За его спиной стоял, робко моргая рыжими веками, встревоженно разводя руками, Халдей Халдеевич.
Но вот дышать – дышать было нечем.
И, делая жестокие усилия, чтобы дышать, Ногин вытащил из-под одеяла большой белый предмет с пятью костлявыми отростками. Отростки медленно шевелились и, казалось, ползли на него.
И, не узнав своей руки, он заплакал от ужаса, от слабости, от болезни.
21
Два голоса услышал он, когда очнулся вторично.
Хина больше не звенела в ушах, руки лежали поверх одеяла, тонкие и свободные. Он прислушивался, не поднимая век.
Они были очень схожи, эти голоса. Так схожи, что можно было подумать сам себя убеждает в чем-то человек, привыкший к одиночеству, разговаривающий с вещами.
– Милый мой, да ведь тому же не менее как двадцать… Да куда там двадцать… Двадцать шесть лет минуло… И ты все еще сердишься на меня? Все еще помнишь?
Голос был тихий, усталый, но плавный. Это не Халдей говорил. Халдей жужжал наедине с собой.
– Помню ли я, как ты, со всеми проистекающими из сего последствиями, меня обманул? Как ты, употребив во зло доверие мое, меня оболгал? Помню!
Вот это и точно было сказано не кем иным, как Халдеем. Но с какой иронией, с каким язвительным жужжанием говорил Халдей!
Ногин открыл глаза, медленно повернулся на бок.
Если бы он не был так слаб, он, верно, спрыгнул бы со своей постели, – таким странным показалось ему то, что он увидел. Смутная мысль, что вот снова начинается бред, заставила его горестно качнуть головой от удивления. Но на бред это все же было не слишком похоже.
Два Халдея Халдеевича стояли друг против друга…
Или нет – стоял только один Халдей Халдеевич, показавшийся Ногину более натуральным. Знакомый сюртук, на котором, впрочем, более не красовалась траурная лента, был надет на нем, – похоже было, что с того дня, как Ногин заболел, он его и не снимал вовсе.
Он стоял, выставив одну ногу вперед, сложив руки за спиной, подергивая плечами.
Другой, ненатуральный Халдей, показавшийся Ногину знакомым не только по сходству с двойником своим, робко сидел перед натуральным на кончике стула. Бог весть во что он был одет, чего только не было накручено на его сгорбленные плечи, на поджатые ноги! Тут было и знакомое драповое пальто Халдея Халдеевича, и его, Ногина, синие студенческие штаны, и какие-то женские ночные туфли с загнутыми концами.
А над кирпичной печкой на веревочке, протянутой от выключателя к окну, висели и дымились паром мокрые брюки, нижнее белье и покоробившийся, уже просохший пиджак, принявший, покамест просыхал, положение, сходное с человеком ораторствующим. Правый рукав его был высоко задран.
– Так, стало быть, ты до сих пор думаешь, что я был тогда виноват перед тобой? Скажи же, в чем, если ты считаешь, что через двадцать пять лет нам еще не поздно объясниться.
– В том…
Халдей взмахнул рукой и снова заложил ее за спину.
– В том, что ты на меня наврал, Степан. В том, что ты, воспользовавшись моим отсутствием, от меня невесту увел. И во многом другом, о чем, только жалея тебя, вспоминать не желаю. Ты нас обоих загубил. И ее. И меня!
Ненатуральный Халдей кутался в пальто, глядел на него усталыми глазами.
– Милый мой, насчет того, кто кого загубил, я ли ее или она меня… Стоит ли теперь говорить об этом? А если я и был в чем-нибудь виноват перед тобою, так за давностью лет…
– За давностью лет? – переспросил Халдей с презрением. – А что, если эту давность лет я тебе в особое преступление вменяю? Давность лет! А как ты жил эти годы? Книжки читал? Чужие работы переписывал? Вспомнил ли ты обо мне хоть единожды? Ты ханжа, Степан! Ты ханжа и разбойник!
Ненатуральный Халдей придвинулся к печке и робко вытянул вперед сероватые, слегка дрожащие руки. Почерневшая шея вылезла из-под воротника пальто, он походил на японца.
– Ну, ханжа так ханжа, – слабым голосом возразил он, – ну, что я могу теперь сделать для тебя, милый? Ну, разбойник. Ну, книжки читал. А что насчет нее, так ведь я же ее не принуждал, она по своему желанию именно за меня, а не за тебя замуж вышла.
– По своему желанию? Ты говоришь, по своему желанию? А ты забыл, как по моем возвращении ты мне за невесту предлагал дипломную работу написать? За нынешнюю жену свою, за Мальвину Эдуардовну, в девичестве Рекс, предлагал исследование о Смутном времени за меня написать? И рассыпался-то как! Рассыпался!
Халдей Халдеевич на цыпочках прошел по комнате. Он как будто старался успокоить себя. Но вернулся еще более чопорным и гневным.
– Не забуду, – сказал он торжественно, – докуда дыхание в груди моей не исчезнет и кровь не охладеет. И не прощу никогда. Это уж не судьба, которая может непредвиденное бедствие наслать на человека. Ты меня так обманул, как никакая судьба обмануть не может! Не я, но всякий, имеющий довольно сил, отомстил бы тебе за обиду, которую ты учинил надо мной! Ты ханжа, Степан, и не только ханжа! Ты скаредный злоумышленник, ты присвоитель чужого…
Халдей Халдеевич сам себя прервал жужжанием. Впрочем, это было уже не жужжание – шумела вода в водопроводных трубах, рассыхался пол, трещали обои…
Собеседник его сидел перед ним, опустив голову.
Ногин давно уже узнал его. Это был Ложкин, покойный профессор Ложкин, тот самый развращенный, погруженный в распутство, преданный наслаждениям самого скотского характера буйный брат, по которому Халдей (или это уже в болезни померещилось?) носил траурную ленту.
И он сидел перед кирпичной печкой, этот буйный брат, в его, Ногина, синих студенческих брюках.
Сидел тихо, очень тихо, как бы боясь моргнуть глазами, качнуть головой.
– Да что ж ты теперь-то меня за все это упрекаешь? – ответил он наконец и негромко вздохнул. – Поздно теперь. Ведь я ж с ней всю жизнь прожил, с Мальвиной. А ты бы, чем меня упрекать, подумал лучше о том, кому из нас большее выпало счастье – мне ли, который за двадцать пять лет ни одной минуты себя не чувствовал человеком, или тебе с твоим одиночеством? Да и о чем же говорить теперь? Она уже старуха, да и мы с тобой старики. Не смешно ли теперь вспоминать о том, как когда-то мы из-за нее поссорились с тобой?
– Не смешно!
Халдей стоял посередине комнаты, как одеревенелый. Руки его, заложенные за спину, крепко схваченные одна другой, заметно дрожали.
– Не смешно, – повторил он и вдруг заплакал. Он сгорбился, лицо его сморщилось, маленькие слезы запрыгали из мохнатых, покрасневших глаз.
Не вытирая слез, он все искал что-то в карманах измятого парадного сюртука – как бы не зная, что делать со своими руками.
Тогда заплакал второй, ненатуральный Халдей, тихо заплакал, так же тихо, как сидел он давеча на кончике стула, боясь качнуть головой. Он только раз горестно взмахнул руками и заплакал.
Ничего не сказав, стараясь только не показать, что он очнулся, что он весь разговор слышал, Ногин бесшумно оборотился к стене и натянул одеяло по самые уши.
Непонятная радость его душила. И слабость. Он сердито вытер глаза концом простыни.
И, должно быть, поэтому он не видел, как Халдей Халдеевич, сгорбившись, стесняясь, обнял брата и стал похлопывать крошечной рукой по плечу, подбодряя его, плача сам, а его уговаривая не плакать.








